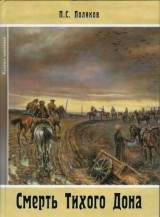
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
Теперь же, благодаря инициативе А.В. Воробьева – издать роман-эпопею П.С.Полякова «Смерть Тихого Дона» большим тиражом и содействовать его широкому распространению, в первую очередь в казачьей среде на Дону, есть все основания утверждать, что ситуация в ближайшие годы кардинально изменится!
Вне всякого сомнения, роман-эпопея П.С.Полякова «Смерть Тихого Дона» – значительное явление, и не только в казачьем литературном наследии, и со временем, в чём я уверен, станет в один ряд с лучшими российскими романами XX столетия!
Директор Некоммерческого фонда
«Казачье зарубежье»
К.Н.Хохульников.
г.Ростов-на-Дону, 2006 год
____________________
Часть I
О чем пели рабы, возводящие пирамиду Хеопса? Что пели и, пели ли вообще, несчастные кули, строившие Китайскую Стену? О чем, кроме горсточки риса, мечтали они, во что верили, на что надеялись, как обращались к своему Богу, о чем просили Его, упав на землю в изнеможении?
Страшен, непосилен был труд их, безнадежно глядели они в равнодушное небо... И шли, и шли, и шли. И несли тяжести, и складывали их так, как велели им их надсмотрщики, видимо, ничто не приходило им в голову, кроме мысли о еде и отдыхе. Они и умирали молча, зная, что на место каждого умершего сразу же будет пригнан новый, даже я, который никого не будет интересовать.
Прошли века. Изменилось лицо земли и труд, и люди. И многое стало иным, лучшим. Но многое, очень многое осталось по духу своему таким же, каким было оно при стройке пирамид.
И если попал ты в машину, перемалывающую людей, в наше, ах – столь богатое вождями и социальными идеями время, то кончишь немногим лучше тех, кто таскал дьявольски тяжелые камни на самую вершину пирамиды.
Всё это инстинктивно чувствовал Семен, безрадостно не то напевая, не то постанывая старинную казачью песню.
Через всю длину огромного помещения пролегла на высоте человеческого роста бесконечная лента, по которой неустанно бежит уголь в широкие пасти бункеров. Когда заглядывает после полудня солнце на эту ленту, падает тогда ее тень на противоположную стену и, будто в кинематографе, бежит по ней живым, мутно мерцающим отражением.
И кажется Семену, уже много лет вынужденному, как феллах, как кули, молча и безропотно работать кочегаром, что вовсе это не тени угольных горок, а высокие холмы с выстроенными на них городами. Стены, колокольни, зубчатые башни, храмы и капища, купола и крыши домов быстро пробегают мимо и исчезают там, где, сгибаясь на вале, выбрасывает лента свой черный груз. И бегут, и текут снова и снова в фантастическом, миражевом рисунке.
Сколько таких городов повидал Семен в своих скитаниях, в скольких жил и сколько их оставил, уже и не сосчитать. Часто казалось ему, что нашлось, наконец, надежное пристанище, часто влюблялся в какой-то из городов, но неумолимые обстоятельства вынуждали покидать и эти города. И всё холодней и холодней глядели на него чужие окна...
Бегущая лента вызывает в нем томительные воспоминания о всех них, но чаще всего, отчетливо и ярко, о хуторе Пономарёв, в котором родился он в семье казачьего офицера.
Пра-пра-пра-прадед его Яков Пономарев, служа под командой генералиссимуса Суворова в «Итальянском походе», прошел от Вероны на Милан и Турин, и сам видал и участвовал со станишниками своими в бою в ущельях реки Рейсы при взятии Чертова Моста. Был за это награжден чином сотника и в составе группы особо отличившихся казачьих офицеров был отправлен в город Санкт-Петербург, где и удостоился приема у императрицы Екатерины. Обласкала их раздобревшая царица. Умела она и весело поболтать, и очаровательно улыбнуться, и такое слово сказать смущенному степняку, что на всю жизнь запомнил он и лицо ее, и звонкий смех, и улыбку, показавшуюся ему ангельской.
Подивилась немудреным словам его матушка царица, сравнив их с пышной реляцией о его подвиге, в результате которого казаками взят был неприступный Чертов Мост и тем выиграна кампания Италийская.
Вот такими словами, как на духу, рассказал сотник Пономарев, до конца дней своих никак понять не мог: за что же пожаловала царица его в есаулы, дала ему звание дворянское и десять тысяч десятин земли в юрту станицы Островской.
Вернулся на Дон Яков Пономарев и в первый же день по возвращении в полной парадной форме пошел на могилу деда, подарившего ему шашку со словами: «Смотри, внучек, не осрами Войску Донскуя!», и живым его не дождавшегося.
Крепко чесал затылок отец Якова Пономарева, есаула, урядник Егор Пономарев, прикидывая, как же это так начнут они теперь оба хозяйничать на десяти тысячах десятин земли с тем инвентарем, с которым едва управлялся он на станишном своем наделе. И как же это теперь пойдет за плугом с быками сын его Яков, когда вышел он в чины и стал дворянином Империи Российской?
А на полученных в дар землях, по которым еще со дня их сотворения плуг не хаживал, выли холодными зимними ночами волки, сновали бесчисленные лисицы, и хоть сто верст скачи – живой души не встретишь. Туговато пришлось новым дворянам, да помогло Войско: обстроились, поставили на речке Ольховке хутор, развели овец, ушли по уши в хозяйство; одни умирали, другие родились и слали, непрерывно слали сынов своих в полки казачьи на границы Российские, в бесчисленные войны против врагов и супостатов.
В те же далекие времена прославился и другой прапрадед – Семенов Гавриил, налетевший в городе Саранске на взбунтовавшихся горожан, пошедших на зов Пугачева, и успевший вовремя потушить зажженный со всех четырех сторон большой сарай, в котором затворили они взятых ими в плен верных царице офицеров и их семейства. Сотни мужчин, женщин и детей спас он от смерти в пламени, и носили с тех пор они двойную фамилию – Пономарев-Саранский.
Немногим отличались тогда казачьи мелкие дворяне от рядового казачества. Только и было разницы, что позднее могли они учить сыновей своих в корпусах кадетских, что выходили те в номерные полки не рядовыми, а офицерами, и служили там вместе со своими одногодками-казачатами, с которыми в детстве ловили они в станицах рыбу, гоняли коней на попас, джигитовали на церковных праздниках и, попав в армию, оставались и там станишниками и друзьями. Беспрекословно слушались казаки офицеров своих на службе, в строю, а вне службы, на биваке, у костров, по зимним квартирам, балагурили с ними так же, как смеялись и шутили на улицах и по садам своих хуторов и станиц. Не зазнавался казак, став офицером, а по старому обычаю становился лишь старшим в братстве столетних традиций и обычаев.
С годами разрослась семья Пономаревых; на донской трехверстке-карте обозначались их хутора большим черным кружочком, и имели они теперь, кроме старого прадедовского дома, еще пять поместий, лежавших вдоль речки Ольховки.
Совсем еще Семен был малым, не знал, что, отвоевав на русско-японской войне, вернулся отец его домой, составил, было, планы новых построек, но со всеми остальными взрослыми ставшей совсем большой семьи должен был снова отправиться в полк. Не знал еще тогда Семен, что это за «беспорядки», начавшиеся тогда по всей России, не знал он, что закипала это революция, которая позднее лишит его родины, его Тихого Дона. Не знал, что решили, наконец, русские крестьяне стать хозяевами той земли, на которой сотнями лет жили они рабами, а вместе с ней прибрать к рукам и Земли Казачьи.
Семьи ушедших в полки офицеров собрались на прапрадедовском Старом Хуторе, у бабушки, где и жили, ожидая ушедших на службу...
Как-то ночью приснился ему сон, страшный сон, будто бросается на него их самый большой петух и норовит клюнуть его прямо в глаз и неестественно высоко в воздухе трепетал красный его гребешок.
Тогда он еще не знал, что мужики села Клиновки, собравшись на мирском сходе, порешили сжечь имения Пономаревых, а с ними и всех в них живущих. Глубокой ночью всем селом подошли они лесистым берегом речки к Старому Хутору. Те из них, что раньше у Пономаревых работали, приманили и передушили охранявших хутор собак, а остальные, обложив постройки соломой, подожгли их вместе с теми, кто в них спал.
Совсем еще Семен был маленьким. Испугавшись страшного петуха, криком своим разбудил бабушку Наталию Ивановну, и ослепил его наяву сквозь щели в ставнях огонь горевшей за деревянной стеной дома соломы.
Одному из клиновцев, бывшему работнику у Пономаревых, удалось от односельчан скрыться. Три версты пробежал он босиком по лесу в казачий хутор Разуваев и всполошил там стариков-казаков. Охлюпкой прискакали они к горевшему хутору, все жители его были спасены, но построек отстоять не удалось. Всё тогда погорело у Пономаревых. И пра-пра-прадедовский дом есаула Якова Пономарева. А когда явились домой вызванные из полков телеграммами отцы семейств, то нашли они жен своих и детей у разуваевских казаков на квартирах, а на месте хуторов лишь золу, головешки, да старое родовое кладбище. Не знал тогда Семен, что позднее, на суде, разводили, недоумевая руками их поджигатели, ничего не понимая из того, что происходит. Истово крестились на висевшую в углу икону Николая Угодника и говорили с подкупающей искренностью:
– Никак мы не виноваты. А пожечь поместья, верно, всем миром сговорились, потому время такое подошло, чтобы помещичьи земли нашими стали. Грех на душу для пользы народной брали.
Снова отстроились Пономаревы.
И так же, как при Якове, как при Гавриле, так же и теперь, при старейшем в роде Алексее Михайловиче, носившем бакенбарды и расчесывавшем надвое свою аккуратную короткую бородку, шумела вода на речных перекатах, всё так же пахла акация и сирень в садах, так же яблони, груши с вишнями, и так же дружно заливались соловьи, заглушая вечерние концерты лягушек.
Безудержно катились годы. Родились, вырастали, учились военному делу и шли служить царь-отечеству Пономаревы. И если не погибали в боях где-то в Турции или Японии, то окончательно возвращались домой, уйдя в отставку с чином не старше войскового старшины или полковника, получали пенсию, сеяли пшеницу, рожь, ячмень, подсолнухи и люцерну, разводили бахчи и огороды, овец и скот и добрых донских лошадок, охотились, рыбалили и доживали свой век до глубокой старости. А когда призывал их Господь к Себе, то тесно ложились они друг возле друга на плетнем огороженном старинном кладбище с добротными, по сто лет стоявшими дубовыми староверческими крестами.
Лежали там и Яков Пономарев с супругой своей Маланьей Исаевной, и все внуки их и правнуки, кого сподобил Господь помереть на Тихом Дону, а не на чужой сторонке. И когда регулярно, каждое воскресенье, отправлялась бабушка Наталия Ивановна в церковь слободы Ольховки, населенной украинцами и лежавшей за девять верст в соседней Саратовской губернии, то подавала она с просвитками и два длинных списка. За здравие живущих и за упокой тех, кто лежал на Старом Хуторе, или, как один из дедов, Степан, – под Силистрией в Болгарии, другой, Ефим – где-то под никому не известным Браунау, а третий, Евграф, в Монпарнси под Парижем. Не вернулись они на Тихий Дон, но поминали их неизменно, и ставили, и ставили свечки перед святыми иконами, веря, что видят души их огоньки эти и легче им там просить Господа за живущих.
Великим любителем рыбной ловли был Алексей Михайлович. Заразил он своей любовью и сына своего Сергея Алексеевича, и перешла эта любовь на внука его Семена. И зимой и летом хранили они в порядке свои рыбные снасти и снабжали они, трое, и собственный стол, и кухни сородичей сазанами, щуками, лещами, сомами, окунями, линями, налимами, уже не говоря о раках, красноперках, плотве.
Отец Семена, Сергей Алексеевич, есаул в отставке, жил на хуторе после плохо залеченного ранения, полученного им на реке Ялу в Японской кампании, а с ним и неизлечимую тогда болезнь, для Семена особенно мудрено звавшуюся «остомиэлитис».
В те немногие месяцы, когда позволяла ему болезнь, неустанно ходил он с двухстволкой на перепелов и куропаток. Пробовал, было, взять с собой и сына на зайцев, да когда услыхал тот страшный, детский, крик подстреленного зайца, зажал уши руками, плача, бросился домой, проплакал целый день и лишь к вечеру успокоился. Долго вечером просидели над ним мать и бабушка, наведывались и отец с дедом, крутили головами и, уйдя в столовую на рюмочку горькой, вынесли единодушное решение:
– Вряд из Семена хороший казак будет.
Зато на рыбальство ходил он с отцом и дедушкой очень охотно. Плотно закутанный башлыком, в шубе и валенках, с перчатками и рукавицами, должен он был следить за камышинками, торчавшими из горок льда от вырубленных глубоких лун. Поперек каждой лунки лежала дощечка с намотанным на ней шнуром. Часть этого шнура разматывалась, перебрасывалась через расщеп в камышинке и опускалась в воду. А на конце этого шнурка, на большом в форме якоря крючке, насаживался живец – маленькая живая рыбешка. Заранее наловленные живцы хранились тут же, в ведерке, и задачей их было, крутясь на крючке, пронизывавшем их спину, приманить – к себе щуку и быть ею проглоченными.
Примостившись под крутым берегом в затишке, сидя на нарезанном камыше, курили отец и дед папиросы, набитые табаком «Султан-Флор», вился табачный дымок над глубоко промерзшей речкой, давил мороз и резал глаза яркий свет голубевшего под солнцем снега.
Когда щука «брала», то обламывал шнурок камышинку, и нужно было, быстро схватив дощечку, чтобы, упаси Бог, не утянула ее щука под лед или не порвала шнурка, «подсечь» попавшуюся рыбину, потом, то попуская, то притягивая к себе, «выводить» ее и уморить и, никак не торопясь, подвести ее, совершенно выбившуюся из сил, к отверстию лунки. Тут и брали ее, матушку, либо сачком, либо голыми руками под жабры. Здорово подсекал дедушка, хорошо вываживал отец, а за последнюю зиму и Семен здорово наловчился. Довольные, скрипя валенками по глубокому снегу, возвращались промерзшие рыбаки домой. Впереди шел отец, затем шагал в его следы дед, затем Семен, совершенно не замечавший, что под слезшим на бок малахаем давно побелело замерзшее левое ухо.
Рыбу приносили домой, с довольным видом выслушивали восторженные восклицания стряпухи и торжественные заверения Ваньки-Козла, работника, жившего у них с детских лет и ставшего на службе почти членом семьи, что таких громадных щук он на веку своем сроду не видывал, с трудом стягивались валенки и полушубки, дед и отец отправлялись в столовую, а уже у порога поджидавшая рыболовов бабушка хватала Семена за руку, тащила его снова во двор и принималась растирать снегом замерзшее ухо. Вернувшись в кухню, попадал он в руки стряпухи и няньки Федосьи, не только немедленно же смазывавшей это ухо лампадным маслом, но и читавшей при этом молитву Пантелеймону-целителю, гарантировавшую, что всё теперь, как рукой снимет. Наконец-то, мог и он появиться в столовой. Там за большим круглым столом давно уже сидели отец и дедушка. До обеда было еще далеко. В таких случаях обращался обыкновенно дедушка к снохе:
– Гм, а что, Наташа, не сочинишь ли ты нам вот с сынком моим и внучком чего-нибудь душеспасительного?
Мать уходила в кухню. Было слышно, как начинали хлопать двери, и не больше как через две-три минуты, метя полы юбками, появлялись то Грунька, то Дунька, то Мотька, девки, находившиеся «в услужении», и заставлялся стол тарелками и подносами с балыком, колбасой, икрой паюсной и зернистой, маринованными грибками, холодной индюшатиной. Наконец, и мама снова появлялась с графинчиком водки в руках. Семену же приносили рюмку вишневой наливки, разбавленной сиропом. Первый тост поднимал дедушка:
– Господи, благослови. С хорошим уловом вас!
Семен выпивает и закусывает вместе со взрослыми. Поморщившись после глотка вишневки совершенно так же, как делали это, выпив водки, взрослые, закусывал и он только после второго глотка. Так полагается. После первого не закусывают!
Широко улыбается дедушка:
– Так-так... правильно, внучек, мимо рта не проноси. А что опять ухо отморозил, не беда. До свадьбы заживет.
Смеется дедушка заливчатым, добрым старческим смехом, за который так он его любит. С ним и отцом сложились у него такие отношения, которые иначе как дружескими никак назвать нельзя. Ни крикнуть, ни, упаси Бог, ударить ребенка ни отец, ни дед никак себе не позволяли.
Семен бесконечно счастлив. Говорит с ним дедушка таким же совершенно тоном, каким разговаривает с отцом, обсуждая дела хозяйственные и семейные.
– Так, дедушка!
Дед щурится:
– Только гляди, чтобы не получилось опять какой оказии, вроде той, с тьмой египетской.
– Не буду, дедушка.
– Ну ладно. Только наперед: уговор дороже казаков, всё общим советом.
Семен сидит смущенный. Напомнил ему дедушка одно дельце, за которое страшно обиделась на него бабушка. Проплакала она тогда, почитай, три дня. А как всё получилось – и вспоминать неприятно. Есть у них конь Карий. Разрешали ему на нем брать первые уроки верховой езды. Десятки раз падал он с него, и в степи, и на дороге, и во дворе. И приводил тем дедушку в полный восторг:
– Пр-рав-вильно! Зарывай, брат, репку, пока по-настоящему верхи ездить не научишься. А навостришься охлюпкой – седло подарю.
Снова и снова залезал Семен, ухватившись за гриву, на спокойно стоявшего Карего и долбил его до тех пор пятками, пока, вздохнув, не выносил он его старческой рысью в луга или в степь. Находился Карий под присмотром кучера Матвея, был когда-то верховой лошадью, а теперь, за преклонным возрастом, возил бабушку в церковь, дрова из лесу, кизяки с базов. Бывали случаи, когда решительно отказывал ему Матвей в езде на Карем, если тот перед этим много работал и устал. И вообще, обращался с ним Матвей недостаточно почтительно, называл, его попросту «барчук» и никаких особенных знаков внимания не оказывал. Но страшно любил Матвей бабушку, был ей бесконечно предан, гордясь тем, что только он один имел право возить в церковь «старую барыню», как называли ее все в доме и округе. Любил Матвей и Карего и ни за что в жизни не позволил бы перегрузить воз или гнать его без нужды рысью, когда, слава Богу, нам всё одно – торопиться некуда. Не цыгане!
Одного лишь не одобрял Матвей в бабушкином поведении: пользуясь глубокой ее религиозностью, крепко подживались на ней разные монашки и странницы, и вообще какие-то калеки перехожие, дьяконы и священники из самых отдаленнейших приходов, наслышанные о ее готовности одарить, помочь, подать ради Христа. Дедушка же не терпел этих странников, что толкались в помольной хате. И не с пустыми руками приходили они к ней – одни приносили стружки из гроба Господня, другие гвозди от того же гроба, которыми крышку прибивали, третьи предлагали иконки особенно чтимых святых. В комнате у бабушки постоянно теплилась неугасимая лампада, одна из стен заставлена была целым иконостасом образов, икон и складней, и тут же, на полках, на этажерке и в комоде, в ларцах и иных, как дедушка говорил, «тайных ухоронах» хранились со всеми этими реликвиями и целебные травы. Вот от одной из таких странниц и приобрела бабушка за мешок крупчатки пузырек с «тьмой египетской». Объяснила бабушке посетительница, что беречь пузырек этот надо пуще глазу, что как раз в нем и собрана та самая тьма египетская, которую наслал Господь на фараонов нечестивых в наказание за грехи ихние. А когда фараоны те были за грехи ихние проучены, то собрали святые отцы ту «тьму египетскую» в пузырьки, и раздается теперь она на хранение либо в монастыри и церкви, либо таким людям, которые известны своим благочестием. Вот и хранила бабушка «тьму» эту под образами. Только раз показала она ее внуку, объяснив, что пузырек этот никак открывать нельзя, а не то снова распространится та тьма по всему свету и пропадет на земле всё живущее.
– И Карий пропадет?
– Пропадет и Карий!
И поверил Семен в эту «египетскую тьму» твердо.
После всего этого и случилось происшествие, столь позабавившее вначале отца с дедом и несказанно огорчившее бабушку. Как-то раз, в субботу, попросил Семен у Матвея взять Карего на прогулку. Отказал Матвей, заявив, что завтра с утра в церковь на нем поедут, что конь и без того мореный, и что барчук может и чем иным заняться. На замечание его, что хозяйский он сын и имеет право взять своего коня, когда ему только вздумается, ответил ему Матвей, что верно это, что он сын хозяйский, но дедушка-то поручил Карего на присмотр ему, Матвею, и уж так оно и будет, как он, Матвей, скажет, а когда хозяйский сын подрастет, да сам за своим конем глядеть станет, и прибирать за ним, и кормить, и чистить его будет, и будет тот конь только в его, сына хозяйского, распоряжении, вот тогда совсем другой табак-дело будет, пусть он тогда на том коне, своем собственном, и катается за милую душу, сколько влезет.
И созрел в голове Семена план страшной мести. Ага, не даешь Карего – хорошо. Погоди же вот! Поедет завтра бабушка в Ольховку, в церковь, а хвалишься ты, что только с тобой она в полной сохранности обратно приезжает, вот гляну я как ты ее назад привезешь, ежели возьму я да и выпущу из пузырька ту «тьму египетскую»!
Не успела на следующий день бабушка и с версту отъехать, как забрался он в ее комнату, вытащил пузырек из-под образов и убежал в курятник. Спрятав его в пустом гнезде, прогулялся к пруду, прошелся на мельницу, а когда услыхал, что пробили часы двенадцать, значит, обедня в Ольховке кончилась, побежал в курятник снова и, лишь теперь хорошо к пузырьку приглядевшись, увидел, что пробка в нем сидит вовсе прочно. Нужно было заполучить штопор. Был он в ведении кухарки Федосьи. Сказал, что дедушке нужен штопор, и был тот сразу же в его руках. Но через минуту после того, как получил он нужное, пришел на кухню дедушка и тоже штопор спросил. Подивился дед ответу, но, не сказав Федосье ни слова, пошел искать внука. Поглядел в комнатах – нету, в катухах – нет его, заглянул на мельницу и в помолку – и там нету, поглядел в конюшне – и там пусто. И забрел дедушка в курятник. А тут как раз грех-то и случился: открывая пузырек, не рассчитал Семен свои силы и так потянул пробку, что жидкость в бутылочке, – позднее люди понимающие утверждали, что были это самые обыкновенные чернила, – выплеснулась из горлышка и облила ему брюки и подол белой, щегольской воскресной рубахи. Полетели брызги и на лицо из неловко схваченного пузырька, капали чернила на новые сандалии и чулки.
Никак не понять дедушке, да что же это за флакон в руках у внука и почему понадобилось ему открывать его в курятнике?
– Что ты тут натворил? Признавайся начистоту!
И дед, и отец, и бабушка, и мама постоянно говорили ему, что врать – самое распоследнее дело, что ни человек, ни казак тот, кто врет отцу с дедом. И признался преступник во всем откровенно. Позвал дедушка сына Сергея, пошептался с ним, вышли они из курятника, и услыхал вдруг Семен такой хохот, какого давно ему слушать не приходилось.
Через несколько минут вошли и дед, и отец в курятник снова, отобрали у него «тьму» и, только было отправились в дом, как услыхали на мосту стук тарантаса. Бабушка, не достояв обедни, выехала из Ольховки несколько раньше и увидела всю процессию, шествовавшую через двор: впереди дедушка, за ним отец, замыкал его внук, весь забрызганный чернилами. И сразу же, с первого взгляда, узнала бабушка в руках деда пузырек от «тьмы египетской». Был он особенной формы и каждую неделю вытирала она с него пыль, держа его особенно осторожно.
Глубоко раскаявшись, расплакался Семен, дедушка и отец, воспитатели его, чувствовали себя крайне сконфужено, а бабушка, узнав о всем подробно, так расстроилась, так расплакалась, что ушла в свою комнату и даже к обеду не вышла. С тех пор далеко не каждую странницу принимала она у себя. А когда с полгода спустя две какие-то монашки все же получили от нее мешок пуха и, заночевав в походной хате, стали его делить, заспорили, таская и вырывая из рук одна у другой, разорвали мешок и выпустили пух в Мельниковой горнице, появился на крики их и причитания дедушка с плетью в руках и, как сам потом говорил, замирил их враз, как черкесов, ограничила и вовсе бабушка свои приемы. После всех этих злоключений, съездив как-то на базар, привез дедушка внуку фунт «раковых шеек» – любимых его конфет.
– Держи-ка, брат. Это тебе мое и отцовское спасибо за «тьму египетскую». Отвадил ты бездельников от бабушки. Только в другой раз – гляди! В бабушкину горницу без спросу не лазь. А залезешь – не утерплю, выпорю, как Сидорову козу, так что и до новых веников не заживет.
Бабушка.
Казачка донская, Наталия Ивановна Попова, была дочкой урядника с хутора Писарева. Далеко вдоль по речке Ширяю при впадении ее в Иловлю и растянулся этот хутор и разбросал дворы свои вдоль невысоких ее берегов. Что ни двор, то и десятина, а то и две под садом. Превратили казаки весь хутор в сплошное море зелени, та – весной далеко в соседние хутора несла аромат стоявших в цвету деревьев.
Торопясь по делам в станицу Иловлинскую, как-то влетел на хутор Писарев на вороной доброй паре, запряженной в новый тарантас, сотник Алексей Иванович Пономарев. Думал было проскочить его, не задерживаясь, да увидал у колодца молодую казачку, вытянувшую ведро холодной воды, остановился и попросил напиться.
– Ты мне, господин сотник, ведро опоганишь.
– Как так – опоганю? Что я, скотина, что ли?
– Был бы ты бык ай верблюд, напоила бы, а вот тибе-то как раз и няльзя!
Взглянул сотник в лицо смело глядевшей ему в глаза казачки и понял, что она из тех староверов, которые никому из посторонних посуды своей не дают. А была она такой красавицей, каких встречать ему не приходилось. Вышел он из тарантаса, попросил слить ему воды на руки, испросил:
– А чья же ты будешь?
– Отец мой Попов Иван Ликсеич, урядник он.
– Это какой Попов? Не Грекова ли полку?
– Говорили батяня, што Грекова.
– Ага! Ну перекажи ему, што вот, как вернусь из Иловлинской, заеду погостевать. А звать меня Алексеем Ивановичем Пономаревым, поняла?
– Чего тут мудреного. Поняла!
Тронул сотник своих лошадей рысью, оглянулся: стоит казачка у колодца и вслед ему смотрит. И стало ему почему-то так весело, такая его радость какая-то охватила, что все время, которое провел он в станице, было для него днями счастливого ожидания. Через три дня снова остановил он свою пару у колодца перед воротами урядника Попова, постучал в них кнутом и крикнул:
– Эй, хозяин, не пустишь ли переночевать?!
На стук его вышел сам урядник Попов, пригляделся получше к приезжему и так и всплеснул руками:
– Господи Исусе Христе, дать никак это вы, господин сотник?
– Я! Ну, говори, примешь гостя али нет? Распахнулись ворота, тихо въехала запыленная пара во двор, и крепко засел сотник в гостях у бывшего своего урядника. Узнали соседи, что завернул к Попову его офицер, пришли познакомиться да потолковать, выставил хозяин угощение, выпили гости и поели всё, что на столе стояло, и всё, что в печи было, и тогда поднялся их сосед, вахмистр Смирнов, поклонившись всем, сказал:
– А таперь, милости прошу, ко мне пожаловать.
И началось то, что называют казаки «ходить по сабе». От одного хозяина к другому, пока не обошли весь хутор, а обойдя так, и не заметили, что, почитай, неделя прошла. И лишь под воскресенье, проснувшись, наконец, снова в курене урядника Попова, выпив с похмелья чуть ли не с полведра взвару, поблагодарил сотник радушного хозяина, сел да и укатил. А укатил с тем, чтобы сказать отцу с матерью, что нашел он себе невесту по сердцу.
Так выбрал себе подругу жизни дед Семенов. Крепко любил он ее, сделал полной хозяйкой, управлявшей домом Пономаревых. И в домашнем распорядке, и в делах церковных, в семейных отношениях, забрала она всё в свои руки, а когда узнала, что первенец ее, Андрей, привезет из Санкт-Петербурга, где служил он в Лейб-Гвардии Атаманском полку, молодую жену, им самим там, без родительского благословения, облюбованную, улыбнулась кротко и сказала:
– Ну, и дай бог счастья. Ить и меня мой-то вот так же, без материнского глазу, искал.
Приехал Андрей, привез жену свою из столичного города, и ахнули все, увидав ее, высокую, стройную, с затейливой прической, открытое, веселое лицо, освещенное, голубыми глазами. Звали ее Мина, была она немкой. Развел дед руками:
– Вот и дожили! Начальство говорит нам, что германцев пуще огня опасаться надо, а глянь-ка какая немецкая раскрасавица в курень наш вошла! Ну, дай Бог счастья!
Во многих походах побывал дедушка. Лишь на короткое время возвращался домой на побывку. И лишь гораздо позднее родился у них второй сын, Сергей. Вырос, выучился и ушел на службу царскую. И вот получили письмо и от него, служившаго в 3-м Ермака Тимофеевича полку, в городе Вильно, в царстве Польском, что нашел он там себе девушку по сердцу, что белорусска она и звать ее, как и бабушку, Натальей. Послали им благословение, потужили, что не смог Сергей для венчанья на хутор приехать, а на весну – вот они! – прикатили, он и жена, решив обрадовать родителей неожиданным появлением.
И третий сын родился у бабушки с дедушкой. Валентином крестил. Окончил и он Донской кадетский корпус и пошел в Петербург, в Николаевское Каваллерийское училище. Вступил в нем в лихую казачью сотню, окончил науки и явился на хутор хорунжим 14-го Донского полка. Тут, неподалеку, нашел он себе подругу жизни, тетю Веру. Родня она им какая-то приходилась, для разрешения венчаться нужно было к самому архиерею обращаться. Послали тому архиерею прошеньице да из хуторских продуктов кое-чего, на пару телег наклали. Глядь – а и недели не прошло, вот тебе и нужное благословение отца духовного. И телеги порожние домой счастливо вернулись.
Пошло, побежало время, растила Минушка сыновей, Алексея, Гаврила и Аристарха, и порадовался дед, что и у Сергея сын появился, дали ему при крещении имя Симеона-Столпника.
Шумела вода в колёсах мельницы, приходили зимы с морозами и вьюгами, сменяли их дружные весны, дарили степь урожаем степные теплые лёта и томили душу длинные дождливые ночи осени. Собирались тогда все Пономаревы по вечерам, по очереди то у бабушки, то у дяди Андрея, то у тети Агнюши, единственной дочки дедушки и бабушки, то в доме Сергея и Наталии. Темнело осенью рано. Холодно и неприветливо на дворе. Стучится то дождь, то ветер в плотно закрытые ставни, будто и им охотка попасть в столовую, где за самоваром давно уже вся их семья собралась. Кто сидит за стаканом чая, кто с рюмочкой вина, водки или наливки, а Семен, как правило, с чашечкой чудесного меда, который так мастерски варит сама бабушка. После разговоров о делах домашних и служебных, первым всегда предлагавшим что-либо почитать был дядя Воля. Выбиралось что-нибудь самое новое и попеременно читали все присутствовавшие вслух либо роман, либо повесть, специально выписанные из Москвы или полученные как приложение к журналу «Нива». Заканчивала чтения эти бабушка замечанием, что завтра вставать рано надо, пироги печь будут и что керосин-то опять, гляди, какой дорогой стал.








