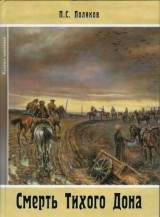
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
– И-и-и! Милый ты человек! Страдаешь в чужой сторонке. Да ты, Наташа, боршшачку бы яму плесканула. Да глянь там, в саквояже аль в узле, аль в мешке, варенья я вишневого привезла, положи ему, нехай попробует. Ишь ты, а из сибе гладкий он, сытый. Ну, и слава Богу, на фронте-то, поди, тоже горя принял...
Прошла неделя, опять суббота подошла, опять сегодня майор на ужин придет. А и заслужил: у отца от мазей австрийских коленка будто нормальней стала и болит вовсе не так, как прежде, спать он по ночам спокойно стал. Как такого доктора не угостить. Уж не говоря о том, что каждый раз, как уходит майор, прощаясь с ним, сует ему отец в руку конверт с четвертным билетом. Ведь из Вены доктор, такому абы сколько не дашь!
Уселись все в гостиной, ожидали прихода австрийца, сокрушалась бабушка о том, что вовсе плохая стала тетя Мина, сердце у нее сдало. И вдруг обратила внимание на то, что кот Родик, – привезла она его с собой в корзинке, чуть не заморозила, да не оставлять же калеку на девок, одно они знают, только ха-хи да хо-хи, не доглядят и порвут его собаки. Так вот, увидала сейчас бабушка, что уселся Родик на самом виду, у дверей, и одно знает – умывается. Глянула бабушка раз, глянула другой, и улыбнулась:
– Гляньте же вы, гляньте, как Родик наш гостей кличет. Живой мне не быть, а заявится кто-то к нам, о ком мы сейчас и не думаем.
Но вот он и майор. Шинель и палаш оставил в прихожей, протер монокль и снова так раскланялся с дамами, так элегантно подошел к их ручкам, и так, лишь слегка наклонив голову, открыто-дружески протянул руку отцу, что снова все почувствовали, разве, кроме Родика, что ежели сейчас и не в Вене они, то дух ее прочно засел в их гостиной. Не успел майор усесться, как снова застучал кто-то в ворота и, накинув шаль, снова выскочила Мотька во двор, тотчас раздался такой визг, будто прищемили Мотьку воротами. Прогрохотали шаги по лестнице, будто двое по ступенькам бежало, хлопнула дверь в коридоре, распахнулась в гостиную и, разматывая на ходу башлыки и снимая с усов пальцами лед, стояли на пороге дядя Воля и Гаврюша и, ничего не понимая, будто увидав привидение, широко открытыми глазами глядели на сидевшего в кресле австрийского майора. В полной форме, в погонах, подтянутого, тонкого, такого, каких на фронте они и не видывали. Первой пришла в себя бабушка:
– А што я говорила, зря Родик умываться не будет. А вы, гярои, не пужайтесь, што супротивник ваш у нас сидит. Тут войны нету.
Но уже взвилась со стула тетя Вера, вскочила мама, поднялся, морщась, отец, встал майор и смотрел как, освободившись от полушубков, перецеловавшись и переобнимавшись со всеми домашними, выстроились перед ним два казачьих офицера, оба чинами пониже – есаул и сотник. Быстро представила их друг другу мама и, сделав по два четких шага, подошли они к австрийцу и пожали ему руку, и тут все сразу заговорили. И немало прошло времени, пока уселись они за стол и не принялись уплетать принесенный Мотькой кипящий борщ. Так прямо в гостиной и ели. Бабушка же особенно ухаживала за майором, и ел он так неслышно и аккуратно, будто считал внутренне все калории в каждой ложке. Борщ ему понравился.
– Зер гут. Карашо боршш!
Согласилась с этим бабушка:
– А ты как думал? Это тебе не ваши супы-брандахлысты. Это со свининкой, с мозговой косточкой, ешь на доброе здоровье, да сметанки, сметанки не жалей. У вас там, в Вене, поди, Господи прости, больше в счет лягушков. – Мама быстро ей что-то шепчет, но отмахивается она: – В Париже ли, в Вене ли, устрицы ли аль лягушки, все одно, всё они нехристи. Нехай раз православным борщом побалуется.
В это время, свернув на огонек, подошел и аптекарь. С майором поздоровался он совсем по-дружески. И недаром – рецепты-то майор пишет, и все они особенные, дорогие страшно, и зарабатывает на них аптекарь совсем неплохо. Да и сам майор пользуется. Дело коммерческое.
И решили тут же послать Мотьку за Тарасом Терентьевичем, благо, живет он всего за два квартала, на Красной улице. Не успели служивые и закурить, как вошел он с двумя молодцами, несущими корзины из собственного его ренскового погреба с ветчиной, рыбой, птицей, колбасой, икрой и шампанским. А женщины спешно бросились готовить ужин. Носились они то на кухню, то снова в гостиную, сев за рояль, сыграл майор что-то из «Летучей мыши», «Ночи в Венеции», «Цыганского Барона», «Лустиге Битве» и «Графа фон Люксембурга». Окончив, помедлил, наклонился над клавишами, будто что-то меж ними рассматривая, запрокинул вдруг голову назад и, сам себе аккомпанируя, запел:
Май зон дас ист дер Сигесмунд
Шен шланк унд гезунд.
Ер динт нет ви зи манен
Бай трен бай ди уланен.
Унд вен ер ауф дем пферд обен зитц
А едес мадерл ауф ин шпитц.
Дер шенсте ман ин дер швадрон
Ист Сигизмунд, май зон!
Тарас Терентьевич предложил всем выпить здоровье всех прибывших с фронта. Оглушительно хлопнув, взвилась пробка в потолок, заискрилось и запенилось донское шипучее и, выпив его стоя, первым Тарас Терентьевич, а потом все мужчины, бросили бокалы на пол и разбились они вдребезги. Всплеснула бабушка руками, глядя на всё ничего не понимающими глазами:
– Господи, бяда-то какая, да вы што, показились?
Быстро шепча на ухо, объяснила ей мама, почему так делать надо. Бабушка отрицательно качает головой:
– Да вы што, сроду хозявами не были? Мотька, да приняси ты им стаканов, какие похуже, а то они всё добро побьют.
А народ налег на закуски, на жаркое, на дичь, на водку, на ром и коньяк. И долго царило полное молчание, прерываемое лишь короткими восклицаниями. Но постепенно отодвинули свои тарелки и майор сел снова к роялю, хотел было еще что-то заиграть, да подошел к нему дядя Воля с двумя полными бокалами. Путаясь и оглядываясь на маму, научившую его этой страшно трудной фразе, всё же выдавил с трудом заученное:
– Эс лебе ди шенсте штадт дер вельт – Вин!
Высоко поднял свой бокал расстроганный австриец:
– Эс лебен ди козакен! – и одним духом опорожнил всё до последней капли.
Бабушка зажмурилась, Господи, опять они посуду бить зачнут...
Но никто больше ничего не разбивал. Все, даже Семен, провозглашали тосты, пили все вместе, группами и в одиночку, и, подсев к Тарасу Терентьевичу, уже совсем осоловелый, пролепетал майор, хлопнув его по колену:
– Абер ин Руссланд ист вирклих вундершен!
От многих возлияний и Тарас Терентьевич на взводе, но майору отвечает немедленно:
– А ты как думал? Это, брат, Россия, а не твоя лоскутная империя!
К ним подсаживается аптекарь и, перекинувшись с австрийцем двумя словами, берет Тараса Терентьевича за пуговицу.
– И ви знаете, что я вам сказать хотел?
– Нет, брат, не бабка-ворожка, не знаю.
Немилосердно крутя пуговицу, сосредоточив на ней всё свое внимание, лишь коротко взглядывая в лицо собеседника, рвет аптекарь так свои фразы, будто заикается:
– И ви же прекрасно знаете, это же война. И сколько горя и слёз. А почему? А за что невинные люди страдать должны?
Ну хоть бы взять господина майора. Ка-унд-ка офицер! И знаете, что в Австрии народу жрать нечего? И где достать? А у спекулянтов...
– У таких вот, как ты, у вашего племени!
– Ах, и что ви себе думаете? И разве другие тоже не стараются? У других нет жен-детишек? А у наших? Ну, вот майор – жена и два сына. Помочь надо...
– Што ты мне мозги туманишь? Я вон, ежели по Камышину пойду, да захочу каждому нуждающемуся помочь, так всего капитала моего не хватит. А ты мне с австрийцем твоим лезешь!
– Но ви же совсем, совсем большого человек! И он не просит ваших денег, он скопил, но только через швейцарские банки...
– Ишь ты, куда гнет! Это что же – должен я твоему майору в Австрию, вражескую страну, русское золотце переслать?
– Ну, и почему вражескую страну? И там все тоже люди. А почему русского золота? Богово оно, золото. А вы бы такого добро сделали, жена у него, двое детишек...
– Слыхал, слыхал, а как же звать ее, Пенелопу майорскую?
– И почему же как звать, и зачем Пенелопу, и вовсе она не Пенелопа, а Сара.
Хмель у Тараса Терентьевича мгновенно исчезает. Толкает он пальцем отца:
– Слыхал, майор-то этот, жид он!
Аптекарь воздевает руки к небу:
– И никакого он не жид. Еврей он, порядочного человек.
Разговор стал таким, что все, сидевшие в гостиной, поняли в чем дело. Прислушалась и бабушка, глянула на австрийца, на внуков, и решила и она слово свое вставить:
– Простите мне, старухе, что не в свое дело вмешиваюсь. А думается мне, коли уж есть такая дорожка, помоги добром человеку. На том свете тебе зачтется.
Тарас Терентьевич ошеломленно смотрит на бабушку, переводит глаза на дядю Волю и Гаврюшу:
– А что вы на это скажете, господа офицеры.
Переглянувшись, поняв друг друга, сразу же отвечает за обоих дядя Воля, старший:
– Столько мы всего на войне хлебнули, что зря и говорить не хочется. И, бывало, и с нами – чужим иной раз так привечены были, что диву давались.
Тарас Терентьевич вынимает свой красный платок и вытирает лицо и глаза.
– Ить вот какое дело! А гляньте на них, на них, как они – один аптекарь из Камышина, а другой черти откуда майор, как они друг за дружку держатся, ну да так и быть, всё одно еду я на следующей неделе в Москву, приходи, деньги приноси, да и адресок не забудь прихватить.
Лицо аптекаря озаряется счастливой улыбкой. Внимательно следивший за разговором майор, видимо, понял благополучный исход, и медленно, с полузакрытыми глазами, с выражением страшной усталости в уголках рта, поднимается в кресле. Монокль выпал у него из глаза и качается на тонком черном шнурке. Две слезинки быстро сбегают по подбородку, он их не замечает, пробует что-то сказать, ничего у него не получается и тянет он молча руку Тарасу Терентьевичу. Тот быстро жмет ее и кричит:
– Ты сантиментальничать брось, чучело австрийское! Сказал, сделаю, и готово.
Бабушка подходит к майору с цыбиком китайского чая в руках.
– Хушь и не нашей ты веры, а, поди, тоже человек. Вот, возьми. Теперь его не достать, настоящий, китайский, пей на доброе здоровье!
Тетя Вера подбегает к роялю, усаживается, берет несколько аккордов и запевает:
Выйду-ль я на реченьку,
Ох, погляжу ль на быструю,
Эх, не увижу ль я свово милово,
Свово разлюбезного!
Дядя Воля наклоняется к Гаврюше:
– А побил нас чёртов майор на внутреннем фронте!
И прав – за роялем опять австриец уселся. Сначала играет он «Радецки марш», затем мелодия меняется и поет майор, помолодевший и бесконечно счастливый:
Венн ди зольдатен дурх ди штадт марширен
Оффиен ди мэдхен фенстер унд ди тюрен...
Но – что это? Крутится это у него голова или попросту уходит пол куда-то из-под ног Семена? Держась за притолоку, за стенки коридора, аккуратно притворяя за собой двери, попадает он в свою комнату. Свалился на кровать и заснул моментально, даже не заметив, что, уйдя от греха подальше, спит на его подушке свернувшийся калачиком Родик.
* * *
После обедни, одевшись и собираясь выйти на улицу, встретил Семен Ивана Прокофьевича, никогда в церковь не ходившего, и показалось ему появление его странным. А у выхода из училища происходило что-то совсем странное, преподаватели и прихожане собирались группами у вешалок и на дворе, толпились в коридоре, о чем-то возбужденно говорили, жестикулировали и полушепотом спорили. Но выражение лиц у всех было оживленное и радостное. Да что же это случилось? Уж не Берлин ли наши взяли? Иван Прокофьевич отошел с ним подальше и прошептал ему на ухо:
– Слыхал? Гришку Распутина укокошили!
Мороз прошел по коже Семена. Слишком уж много слыхал он о Распутине и испытывал к нему чувство какого-то мистического страха и гадливости.
– Кто?
– После расскажу. Вот что – приходи-ка сегодня вечерком ко мне. Старый наш дружок баталер явится, несколько учеников наших будет, офицер один, Моревна моя бутербродов наделает. Потолкуем.
Быстро распрощавшись, бежит Семен домой. Время обеда давно прошло, но в столовую никто идти и не думает. Дядя Воля и Гаврюша сидят в углу и молча прислушиваются к тому, что говорится. Прислонившись к притолоке, стоит аптекарь. Тут же и Карлушка, и даже Иосиф Филиппович, как всегда, в мундире с ярко начищенными пуговицами. Все – и хозяева, и гости, стоят посередине зала полукольцом, окружив облакотившегося на подоконник Фому Фомина, купца первой гильдии, известного камышинского богатея. По круглому, жирному лицу его ручьями льется пот, в левой руке держит он платок и то и дело вытирает им лицо и бороду. Высоко подняв правую руку, будто кого-то остановить хочет, непрестанно шевелит толстыми короткими пальцами. Он давно уже охрип, говорит с усилием, постоянно прокашливаясь:
– Ить прямо с поезду я к вам прибег. В Питере третьяго дня самолично, своими глазами я его видел. И нехай мне никто ничего не говорит, а что исцелял он, так это доподлинно. Вон когда его царское величество изволило Беловежскую Пущу посетить, упал тогда наш наследник-цесаревич Алексей Николаевич, и таково несчастно свалился боком, что получилось у него кровоизлияние. Внутре. Боткин доктор тут же был, болезнь наступившую перитонитом определил. Определить-то определил, а лечить не мог. И такое получилось дело, что лежал царевич наш присмерти. Уже и указ писать зачали, оповещение народу о смерти престола наследника. И послала тут государыня-императрица телеграмму Григорию Распутину. В отчаянии она была, солнышко наше. И только што послала, враз ответ пришел: молюсь, выздоровеет! И только телеграмму ту во дворце читать зачали, подошел доктор Боткин к наследнику-цесаревичу, а он в кровати своей лежит, спит, во сне улыбается и на щечках его, на детских, румянец горит, а до того бледный, как смерть, был...
Купец дышит тяжело, захватывает пальцами правой руки ворот рубахи, крутит головой, сует платок в карман, хватает с подноса первый попавшийся стакан, выпивает его залпом и валится на стул. Поджав ноги под себя, берется за ручки стула с таким выражением, будто прыгнет сейчас на своих слушателей, и уже не говорит, а шипит:
– Три раза, понимаете – три раза исцелял. Никакие другие доктора, ни тот француз, ни азиат-доктор Бадмаев, ни Боткин, никто, а Григорий...
Аптекарь наклоняется к купцу:
– А правду это говорят, что за немцев он был?
– И ни за каких немцев он не был. А за мир с немцами. Нам, говорил, всё одно их не одолеть, а сепаратный мир заключить надо. Не то, говорил, утопится Россия в крови и бесконечные страдания народ русский примет.
Карлушка так зевает круглым ртом, как делают это выкинутые на берег сазаны, хочет что-то сказать, ловит взгляды дяди Воли и Гаврюши, клацает зубами так же, как и Буян это делает, гоняя в хвосте блох. Зато вставляет свое слово Иосиф Филиппович:
– Польшая, ошень польшая, ошипка пил...
Семен пробирается к выходу и слышит голос Гаврюши:
– Вот те и «пил»... видать, у всех нас похмелье будет!
Проходя мимо бабушкиной комнаты, видит Семен сквозь приоткрытую дверь как, стоя на коленях перед образами с зажженной лампадкой, бьет она поклоны и слышит ее тихий шепот. Посередине столовой стоит, как потерянная, кухарка, чешет вязальной спицей в голове и никак понять не может, да на сколько же человек стол ей накрывать? В коридоре слышны шаги уходящего хозяина их дома. Видят они его редко, камышинский он мещанин, дом выстроил в два этажа, сдает им весь второй этаж и приходит к ним лишь раз в месяц за получкой. Прежде чем закрыть за собой дверь, останавливается он на пороге и, по-волжски окая, говорит провожающей его маме:
– Собаке собачья смерть. Всю Расею нашу под вопрос постановил.
Мотька накрывает Семену стол в его комнате. Сегодня подадут ему отдельно от взрослых. С каких это пор? Почему? Разве раньше он не всё слушал?
* * *
Уже совсем темнеть стало, когда подошел он к дому Ивана Прокофьевича. В окнах горит свет, мороз на улице крепкий, и рад он войти в теплую прихожую и сбросить, наконец, тонкую, совершенно промерзшую, шинель на сундук. Вешалок тут не водится. В самой дальней комнате, еще больше загроможденной книгами и мебелью, чем раньше, расселись у стола гости и указала ему Марья Моревна стул рядом с собой. Кипит самовар, горой навалены бублики, стоит мисочка с коровьим маслом и лежит в тарелках нарезанный пеклеванный хлеб. В огромной миске горой наложены куски чайной колбасы. Все кивают ему головами, хозяин дома Иван Прокофьевич, какой-то неизвестный пехотный офицер, бледный и истощенный, как узнал он позднее, поправляющийся в лазарете тяжелораненый, пьют чай, мастеря сами себе бутерброды с колбасой или, сняв с самовара размякший от пара бублик, режут его вдоль на две части и намазывают маслом. Как опоздавшему, делает ему хозяйка бутерброд собственноручно и наливает чай. Разговор, видимо, давно уже начался, и, лишь бросив короткий взгляд на нового гостя, продолжает бледный офицер:
– ...Пришли мне мысли эти в голову, когда я в первый раз по-настоящему в лазарете в себя пришел. Лежал я в офицерской палате, у нас еще сравнительно сносно было, а вот что в солдатских творилось, думаю, сами вы знаете, лишний раз ужасы эти рассказывать не приходится. Теснота, лежат на соломе, на полу, вповалку, персонала не хватает, докторов рвут в разные стороны, сестры мечутся, как полоумные, ни отдыху им, ни сроку. А каждый день всё новые и новые раненые прибывают. Холод такой, что руки под одеялом мерзнут. И вот, ко всему присмотревшись и о всём раздумавши, понял я тогда, что делит нас и солдат какая-то невидимая стена, и ничем ее не пробить... Несмотря на то, что лежу я также с развороченным животом, и того и гляди, дубу дам. Молча мимо проходят, будто я какой-то зачумленный, проворовавшийся. А не мы ли, не офицеры ли, первыми гибнем? Ведь процент убитых офицеров нисколько не ниже...
Хозяйка поближе пододвигает ему тарелку с бутербродами и перебивает его, нисколько не смущаясь:
– Стену эту создавали веками те, кому вы, по мнению солдат, как цепные собаки, верой и правдой служите, а их, солдат, на убой гоните. Веками чуждались вы своего народа. Вон хоть баталера нашего спросите, как матросы на своих офицеров смотрят. Да как на врагов лютых. Всё у нас строилось на священном авторитете высших, на абсолютной их непогрешимости. И казалось народу, что правящие им делают всё по принципу: что моя левая нога пожелает. И вот теперь, когда авторитет этот дал такую страшную трещину, когда рушатся устои совершенно сгнившего режима, что же иное можете вы от солдат ожидать? Народу вы чужды, он и вас лично считает виноватым и ответственным за всё.
– Да чем же мы виноваты? Выполняя приказы свыше, шли мы на смерть, как те же солдаты. Что я поднимал моих солдат идти в атаку, так, извините, и мой ротный меня тоже «поднимал»!
Матрос тоже вставляет свое слово:
– Так оно, да не так. Класс вы привилегированный. Вот в чем суть. Поэтому вам и веры нет.
Докончив бублик, поддерживает его старший реалист:
– Правильно! Все считают, что вы за царя, за прогнивший режим, за все безобразия, которые у нас творятся.
– Но это же ерунда! Где же справедливость?
Младший реалист говорит басом, тоном, не терпящим возражений:
– Эк, батенька, куда вы гнете! Когда наступают великие сдвиги, никто не сентиментальничает. Вспомните французскую революцию!
От слова «батенька» офицера передернуло. Хочет он ответить, но снова говорит хозяйка дома:
– Простите мне, но, состоя в том крыле нашей партии, которое теперь называется большевиками, должна я вам сразу же сказать нашу точку зрения, чтобы потом недоразумений не было. Мы, большевики, за радикальное решение вопроса. Либо вы, либо мы. Вы – это дворянство, купечество, капиталист вообще, мещане, богатое крестьянство, попы.
Иван Прокофьевич в панике поднимает вверх руки:
– Марья, да Бог с тобой, этак вы половину России перережете. Да кто же останется?
– Беднота, пролетариат, рабочие, неимущие.
Матрос раздумчиво качает головой:
– А не получится у вас перебору?
Снова вскрикивает первый реалист:
– Никаких переборов! Только радикально!
– А не придется ли тогда вам собственного папашу распотрошить?
– То есть, как это так – папашу? Он тут причем?
– А притом, что лавочкой тогует.
– Лавочка, да мы едва концы с концами сводим!
Второй реалист смеется:
– Х-ха! Концы с концами! Амеба вы капиталистическая! Из вас, из аршинников мелких, эксплуататоры вырастают!
– Но, Петя, ты же пойми, мой папа...
– Х-ха, папа! Радикальная ломка, товарищ!
Офицер, видимо, отказывается что-либо понимать:
– Но ненавидимые вами цари ничего подобного не делали!
Реалисты вскакивают, первый бросает обвинение свое прямо в лицо:
– А два миллиона убитых за интересы западных капиталистов, а миллионы раненых, а сотни тысяч беженцев?
– А скажите вы мне, не один ли из князей Гришку убил?
Марья Моревна прищуривается:
– Не подсовывайте мне ревнивых мужей!
Баталер хлопает хозяина по колену:
Ну и ну! Вот это – баба, такая и сама на баррикады пойдет.
Семен встает:
– Простите, мне пора, да и боюсь я, что вы и меня со всеми родными перережете.
Хозяйка очаровательно улыбается:
– А вы не смущайтесь, кто нашу эпоху поймет, тот у нас место свое найдет.
* * *
Вместе с Коростиными катался сегодня Семен на салазках у устья оврага «Беленький». Таща санки, уже во второй раз встречается он с каким-то закутанным в шерстяные платки карапузом, прибежавшим кататься позже. Останавливается он и гудит из-под заиндевевшей от мороза шали:
– Ты не Пономарев?
– Да, а что?
– Да так.
– А чего же спрашиваешь?
– Да девка какая-то на каток прибегала, спрашивала, не видал ли кто тебя? Никто ничего не знал, вот и убежала она.
– Когда же это было?
– Да в обед.
– Ты не спросил, почему она меня ищет?
– Не! Торопилась она дюже. И вся заплаканная была. Нос платком терла.
Рванув салазки, поворачивает Семен к городу и добирается домой лишь перед вечером, входит в пустую квартиру, быстро пробегает пустые комнаты и лишь в кухне находит Мотьку с Родиком на коленях.
– А где наши?
– Ох, спужалы вы мэнэ. Вси на хутир поихалы, бо утром тэлэграм прийшов... титка ваша Мина Егоровна помэрлы. И стряпуху увэзлы. Тики ваш батько зистався, бо нога в його болыть. А нэдаром бабушка така сумна сьогодни була, прыснылося ий нибыто у нэи зуб из кровью выпав, та так заболив, так заболив... И тики що вона цэ разказала, а ось тоби тэлэграм той. А ваш батько до Тарас Тэрэнтьевыча пишлы...
К Тарас Терентьевичу бежать совсем недалеко. Бросив пальто на руки открывшей ему двери горничной, проходит он бесконечную неосвещенную амфиладу комнат и слышит голос хозяина из кабинета:
– ...и хорошо сделала, что померла. По крайней мере, хоть по-христиански похоронят ее. А что с нами будет, того никто не знает. Как поглядел я, что в Питере творится, волос у меня дыбом стал. А тут еще – полон город запасных солдат. Оторванные от хозяйства мужички, пролетарии, сбор Богородицы. Полторы сотни тысяч. Неграмотная, дикая, по-скотски темная масса. Это вместо уничтоженных кадровых полков! А интеллигенция наша, чиновничество, мещанство, священство, всё оно на корню сгнило, всякими идейками напичкано. О высших кругах и говорить не хочу – ничтожества, ретрограды до опупения, либо в социалистов играют, либо только на жандармов надеются. Только вот еще часть офицерства да ваши казачки еще и держатся. Остальное – рвань, рвань, сволота, слякоть, дрянь. А-а-а! Семен Сергеичу наше почтение! Иди-ка сюда, за стол, садись, сейчас услужающие мои скатерти самобранные раскинут, выпьем за помин души...
Семен подходит к отцу и почему-то, совсем машинально, протягивает ему руку, так же, не отдавая себе отчета, молча жмет отец руку сына.
– Да, сынок, ничего не поделаешь, померла Минушка наша, да, померла. Сердце... да, дело дрянь, когда сердце. А ты сядь, вот, как Тарас Терентьевич говорит, помянем, да.
А хозяин уже налил три рюмки – две водки и одну наливки.
– Пусть вашей Мине Егоровне, чести не имел лично знать, казачья земля пухом будет...
Ставит хозяин рюмку свою на стол.
– Ну-с, гостечки мои дорогие, желаю вам крепости и сил духовных. Понадобятся они вам. А я – как на духу говорю, хвачу теперь на Кавказ, продам всё и там, как здесь пораспродал, и через Персию в заокеанские земли подамся. Нет, я человек стройки, созидания, налаживания, а дуром, как попало, валить не мастер. Ведь до чего у нас дошло: первый русский патриот и монархист Пуришкевич в любимца своего царя две пули собственноручно выпустил. Убил того, кто наследника престола, за которого он, Пуришкевич, в любую минуту сам под пули готов идти, лечил и вылечил. От смерти спас. А Юсупов-князь? Узнав о похождениях собственной своей супруги с грязным мужиком, тоже в Гришку стреляет. А перед тем еще и яду ему в торт собственноручно намешал. Яд, который получил он от доктора Ладовера, не абы какого докторишки, а всему вельможному Питеру известного врача. Член царствующего дома, великий князь Дмитрий Павлович, не кто-нибудь, а великий князь, в убийстве этого гада самое близкое участие принимает. И с ними представитель лучшей нашей интеллигенции, думец, патриот русский на все сто процентов Маклаков, воедино с капитаном Сухотиным, блестящим офицером, у английского посла Бьюкенена убийство это подготовляют. Англии крайне нужное. Показала она тут, что от страха смертельного перед немцами готова она Россию нашу пожертвовать не за понюх табаку, союзница наша верная. И наши-то, наши, поняли ведь, что царь у нас никудышний, что выхода, по их мнению, иного нет.
А царица – как староверка, как начетчица, сама ни телом, ни духом не здоровая, русским обществом ненавидимая и сама это общество ненавидящая, слепо, до самозабвения, верующая в простой народ русский, мать, любящая истерично своего сына, держащая мужа своего под пантофлем... нет, уйду, отрясу прах. Царь наш самодержавный, говорящий на пяти языках, сердечный, добрый, голубоглазый, до седых волос влюбленный супруг, любящий отец, нежнейший родственник, обладающий невероятной памятью и тактом – и никудышний император, полковник для захолустного пехотного гарнизона. Верующий, что всё в руке Божией, и всё, что ни делается – всё в воле Отца нашего Небесного! Эх, Петра бы нам сейчас великого, собственного сына убившего для пользы России... нет-нет, отряхну прах с ног моих и вам советую...
И лишь теперь замечают все полковника Кушелева, стоящего в дверях.
– Разрешите мне, старому солдату, принесшему присягу Государю моему и императору, сказать вам, что душу мою положу я за Россию, а не дезертирую.
Отец поднимает полную рюмку:
– Пью и я за Государя моего. Соберутся вокруг него верные... соберутся...
Все пьют, пьет и хозяин. Которую по счету? Что это – готовятся они в бой за царя своего или тризну по нем правят? Семен вздыхает тяжело и горько. Да, Петра им надо, да, а тетю Мину забыли!
Засыпает он тут же, на диване.
* * *
Давно уже вернулась мама с похорон тети Мины. Дядя Воля и Гаврюша уехали на фронт прямо с хутора через Арчаду. Тетя Вера осталась у дяди Андрюши, чтобы не чувствовал он себя уж слишком одиноким на занесенном снегом хуторе. Бабушка, приказав маме особенно приглядывать за Родиком, тоже осталась на мельнице. И за Андреем присмотреть надо, и Вера одна, и Агнюша несчастна, словом, не до поездок тут по городам.
С хутора вернулась мама полубольная, говорила мало, была задумчива и рассеянна, и за обедом теперь не разговаривали. Ни с кем не простившись, пропал из города Тарас Терентьевич, австриец-майор заглядывал лишь на минутку, прописать мазь и исчезнуть, аптекарь глаз не кажет, пропал куда-то и Карлушка. И было у всех такое чувство, будто засели они в глубокой траншее и зажмурились в ожидании бомбардировки. А в России творилось что-то вовсе неладное, страшное, пришли вести о голодных беспорядках в Питере, о забастовках, о революции. Будто сначала только беспорядки были, горожане и рабочие вышли на улицы, на их сторону перешли солдаты и матросы, будто и царь от престола отказался. Дом до отказа набивался возбужденными, жестикулирующими, плачущими, озабоченными гостями. Аптекарь уверял всех, что засядет в дворцах тот, кто всех надуть сумеет. Он единственный в городе не вывесил красного флага и оказался – монархистом. Кипятился страшно, выходил из себя и кричал:
– А покажите вы красного тряпка быку. И что он сделает? Да сбесится! А вы этого тряпка хотите русскому народу показать, народу, который за триста лет еще сам себя не нашел! И когда показать – когда мировой драка идет! Вот погодите, помяните мое слово – все пропадем!
Отец после прогулок возвращался домой еще мрачнее, чем уходил.
– Видали? Поясные ремни носить перестали, шинели в накидку, ширинки расстегнутые. Воинство православное с красными бантами. Действительно, мало мы их пороли!
Мама отмалчивалась, раза два слышал Семен, как, почти крича, доказывала она что-то отцу, слышал, как плакала она потом в спальне, как, хлопнув дверью, уходил отец в свой кабинет. Вот так номер: отец, оказывается, за царя, а мама – против. За царя, а где же он, царь-то? Вон он, висит портрет наследника-цесаревича в форме Атаманского полка. Вот тебе и августейший атаман всех казачьих войск! А почему же войска эти не встали, как один, в защиту своего атамана? Царь от престола за себя и за сына отказался, всё пошло кувырком, всё.
На большой перемене заметил Семен, что большинство учеников его класса, собравшись в углу коридора, о чем-то договаривалось. Следующий урок был Закон Божий. Новый священник, маленький, нервный, с жидкой козлиной бородкой, отец Нафанаил, никаким авторитетом у учеников не пользовался, особенно же теперь, когда всюду открыто говорить начали, что Бога-то и нету вовсе. Когда прозвенел звонок и вошел отец Нафанаил в класс, никто с парт не поднялся, кроме Семена. И сразу же крикнул кто-то с «Камчатки»:
– Семен – дьячок, попу подмога.
Споткнувшись, забрался священник на кафедру, раскрыл журнал и спросил неуверенным голосом:
– Что у нас на сегодня задано?
– О столпотворении петроградском!
Не подняв головы от журнала, неуверенно спросил снова отец Нафанаил:
– Кто там нарушает порядок?
– Чёрт в рукомойнике!
Страшно озлившись, вскочил Семен к задним партам:
– А ну-ка ты, чёрт в рукомойнике, поднимись, если не боишься. Я тебя окрещу!
Гробовое молчание. Намеренно медленно обводит Семен глазами ряды склонившихся к партам голов, еще медленнее садится и говорит громко и ясно:
– Бунт рабов!
И вдруг отец Нафанаил:
– Вы, Пономарев, прошу без выражений!
Гомерический хохот прокатывается по классу:
– Своя своих не познаша!
– Семен-дьякон, поменьше вякай!
– Ох-хо-хо-хо-хо! Подвел Нафанаилушка дружка своего!
Рывком открывается дверь класса, входят директор и никому неизвестный штатский с красной повязкой на рукаве. Директор, в последнее время страшно нервничающий, бледный и похудевший, одним движением руки отстраняет отца Нафанаила с кафедры. Сгорбившись, исчезает тот из класса, осторожно прикрыв за собой дверь. Штатский, быстро окинув класс взглядом, берет быка за рога сразу же:








