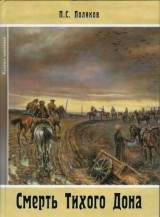
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
Мельница шумит спокойно, тихо плывут по небу совсем легкие облака, день безветреный, тепло. Кагакают гуси и утки, постоянно страшно чему-то удивляются и возмущаются индюки, беззаботно распевают несложные песенки свои копающиеся в навозе куры...
Долго молчавший дядя Воля взглядывает на отца:
– Видишь, Сережа, одно дело, когда идешь ты на рыбальство со всей, как есть, снастью в полном порядке, а вовсе другое, когда крючки твои из булавок, настоящей насадки нет, удилища поломаны, шнурки рвутся, штаны и сапоги драные. Вот так и на фронте у нас. Понимают всё казачишки мои, не малые детишки. Приеду я в сотню, приду в конюшни, поздороваюсь, скомандуют мне и ответят и лихо, и весело, а что они думают, как себя чувствуют, ни я их спросить не могу, ни они мне правдой не ответят. Давно уже приметил я, сдержанней они стали, вроде о всем передумали, и, к каким-то выводам прийдя, в себя замкнулись. Раньше, как только свободней немного, вот и идет кто-нибудь из сотни, то ему про кайзера расскажи, то присоветуй, продать ли ему телку, о которой жена ему пишет, то еще что-нибудь. Был я у них старший брат, в офицерских погонах, лишь для того, чтобы знать, кто в бою командует и вообще в сотне за порядком следить. Вот и всё. А теперь – иначе пошло. Службу они и дальше без сучка-задоринки выполняют, что ни прикажу, всё отчетливо сделано, только какая-то невидимая стена меж нами выросла. Нет тех веселых шуточек, нет того и совместного пения, как раньше. Постепенно пропадает то, что нас от русской кавалерии отличало. Раньше были мы, офицер и рядовой казак, братья родные, офицер старший, а казак – младший. А у русских – начальство и нижний чин. Вот это теперь и у нас вырастает, не потому, что мы, офицеры, зазнались, нет, а потому, что все неудачи, все недостатки сверху идут. От тех, чьи мы, в глазах казаков, представители. И что бы не случилось, всегда должны мы казакам пилюли золотить. Не робей, мол, погоди, вот подвезут, пришлют, выдадут, а ты одно знай – подставляй лоб свой и молчи. Вот и стали казаки наши тоже отмалчиваться, а, боюсь я, что если заговорят они, вовсе всё по-новому будет. Началось всё, как сами знаете, неудачей нашей в Восточной Пруссии. Правда, выровняли мы всё немного, взяв Перемышль, а в нем сто тридцать пять тысяч пленных. И на Кавказе, у Сарыкамыша, здорово туркам наклали, вроде как компенсировали поражение Десятой армии во втором сражении в Мазурских болотах и окружение Двадцатого корпуса в Августовских лесах. А за это время израсходовали все запасы наши и нечем стрелять нам стало. И знали это немцы прекрасно, как знали они и то, что никогда не кинутся союзнички наши спасать нас так, как мы их в четырнадцатом году выручали. Вначале было восемьдесят процентов немецких сил боевых на Западе, а теперь сорок процентов их дивизий стоит против нас. Правда, выступила Италия, да на нее одной Австрии хватает. А как у нас дело идет, вот вам примерчик: ударил Макензен на десятый корпус Третьей армии, имея более двухсот тяжелых орудий, не считая легкой артиллерии, а у нас во всей Третьей армии на двухсотверстном фронте всего четыре пушки, причем, одна из них в самом начале от изношенности лопнула. А идут немцы так: подводят войска свои к нашим окопам безнаказанно, нашим артиллеристам всё одно стрелять нечем, да и пушек у них нет. И начинают тогда немцы из тяжелой артиллерии так гвоздить, что смешают у нас всё живущее. Потом пехота ихняя занимает наши, разбитые вдребезги, окопы, хоронит тысячи наших убитых, укрепляет наши линии для себя, а в это время ихняя артиллерия бьет по нашим тылам, не давая нам возможности и носа высунуть. А когда окончательно закрепилась пехота немецкая на бывших наших позициях, снова тогда ихняя тяжелая артиллерия подходит поближе, и опять ураганный огонь по нашей пехоте. А наши в день максимум по пятьдесять выстрелов делают. Снарядов нету. Так вот и прошел Макензен всю Галицию, до самого Перемышля дошел, да еще на Люблин-Холм повернул. И в это же самое время перешли немцы в наступление и в Восточной Пруссии. И пошли мы отступать. Да как! Сдали крепость Новогеоргиевск, сдали Ковно, очистили Иван-город, Гродно, Брест-Литовск. И потеряли за это время, не больше и не меньше, как один миллион четыреста тысяч убитыми и ранеными, то есть в месяц по двести тридцать тысяч человек. Сколько это в день-то приходится, а ну-ка, Семен, раздели:
– Семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть.
– Что? В самом деле? Постой-постой, ага, здорово, апокалиптическое число получилось! Чёрт побери. Да, действительно, кажется, подходит время, когда примчится всадник бледный, или как там в Апокалипсисе написано. Только, как я думаю, всадник-то красный появится, вот чего нам бояться надо. Ах да, а пленных за это время потеряли мы один миллион. По сто шестьдесят тысяч в месяц сдавалось пехоты нашей. Вот и задумались наши гениальные стратеги, что же им делать: оборонять Польшу, и потерять всю армию, или отдать Польшу немцам, а армию сохранить? И решили идти в отступление. И кинулись драпать, всё бросая, сдавая, оставляя. И поползли слухи об измене. И растерялось наше начальство, и, найдя козла отпущения, повесило полковника Мясоедова, якобы, за шпионаж в пользу немцев. А был он таким немецким шпионом, как ваша стряпуха Агафья. А солдатики наши прямо заявлять стали, что нет никакого смысла драться, и домой панические письма писать стали. Фронт отступает, сдается, драпает, а в тылу – паника. В армии к офицерам недоверие, слухи один другого хлеще, подходящие подкрепления ни о чём ином не думают, лишь как бы сдаться, а немцы и дальше всё орудийным огнем перепахивают. И в войсках чуть ли не до массовых галлюцинаций доходит. Многие у нас клялись и божились, что самолично видели японскую пехоту, пришедшую нам в помощь. Бред, отчаяние, паника. А чтобы делу помочь, что ты думаешь, какой вопросик рассматривает Дума наша на заседаниях своих: военного министра повесить или как? Да ничего подобного – рассуждают о том, как сообщить солдатам, чтобы никак они злым немцам в плен не сдавались, а нето здорово им попадет, когда они из плена вернутся. А новый министр на весь мир заявил, что отечество наше в опасности. Сухомлинова, знаешь сам, слава Богу, убрали. А почему же драгоценное отечество наше в опасности? Да потому, что прут немцы в трех направлениях сразу: на Петербург, на Москву и на Киев. Да слушки у нас пошли, что Николая Николаевича уберут.
– Этого еще не хватало!
Дядя Воля как-то странно взглядывает на собеседников и пожимает плечами:
– И опять легенда! Правда, в армии его боготворят, что только о нем не рассказывают. И как он в Варшаве чуть не тысячу пьянствовавших офицеров из кабаков разогнал, и как на каком-то мосту панику прекратил, и на письмо Распутина ответил, будто бы просил тот разрешения на фронт приехать, – «Приезжай, повешу». И чего только не говорят. А одно точно: из Ставки шагу он никуда не делает, ни на каких фронтах не бывал, сидит и супружнице своей в Киев письма строчит. Правда – против Гришки он, но слова об этом царю сказать – не смеет. За все время только один единственный раз покинул Ставку. Какая-то Сибирская дивизия на фронт пришла, приободрить он ее отправился, чтобы веселей сдавались. И там у него казус вышел: поцеловал он в восторге какого-то лихого барабанщика, а барабанщик тот евреем оказался. Вот теперь у царя и вовсе против него, особенно царица: гляди-ка, Ники своему скажет, великий князь, главнокомандующий, с жидами целуется! Скандал! И уверен я теперь, что уберут его обязательно. Впрочем, на деле всё равно это не отразится, суть ни в нем, а в начальнике штаба. И если лихой наш Николаша, государь наш и император, сам в главнокомандующие полезет, и снабжения, и тыла не наладит, да будут нас немцы так же колотить, как и раньше, пропал тогда и он, и мы все с ним. Разговорчики пошли, что диктатор нам нужен, сказали это царю, а он после долгого молчания пожелание выразил, чтобы все проявили напряжение всех своих сил. И те, кто дезертирует, и те, кто сдается немцам, и Гришка Распутин в банях с дамами, фу, чёрт, противно и рассказывать. Словом, коротко говоря, хаос у нас полный.
Дядя Андрюша смотрит перед собой, будто думает совсем о чем-то постороннем:
– Что же они, мерзавцы, думают?
– Думают? Не в привычку им это. Знаешь, как говорится, попробовал один индюк думать, да сдох от непривычки. Тут людей дела надо.
– А есть такие?
Дядя Андрюша вдруг выпаливает:
– Прохвосты! Дождемся мы, что они нам Гришку в министры посадят!
* * *
На мельницу пришла тёти Агнюшина подвода, два пленных австрийца сносят мешки и тащат их наверх к ковшам. Гарцев с тетки не берут, такой уж у них родственный уговор. Один из австрийцев, длинный, с жидкими рыжими усами, в потертой, во многих местах залатанной форме пехотинца, но с лихо заброшенной на затылок кепи, худ и жилист, ни на кого не смотрит и хмурится. Видно, сердитый. Говорят, что он из какого-то Тироля, это где-то там, где Альпы начинаются, на краю света. Другой же, звать его Эммануил, или, как его все на хуторе называют Мануил, среднего роста, краснощекий, тщательно выбритый, военной формы не носит, на нем новые брюки и русская рубаха-косоворотка, подпоясанная кажаным ремешком, волосы зачесаны аккуратно, с пробором посередине, обувка на нем ладная, тоже вовсе не австрийская, откуда он всё это подоставал? Говорит, что чех он, из города Ихлавы, и что всем славянам надо держаться вместе. Вспоминая рассказы Ивана Прокофьевича о панславизме, присматриваемся Семен к Эммануилу получше, и, несмотря на братскую славянскую кровь, особых симпатий к нему не чувствует. Уж какой-то слишком юркий и прилизанный, впрочем, нехорошо так думать, чем он виноват, что забрал его Франц-Иосиф и погнал против казаков воевать. Пусть радуется, что не убило его, а в плен попал и цел-невредим работает у тети Агнюши. Рассказывал он, что служил в Праге, в каком-то страховом обществе, чиновником. Бог его знает, все они рассказывают, что были там, в Австрии, то графами, то баронами, а глянешь на руки и сразу всё видно. У всех почти, как хорошие грабли. Вон Франц – тот другое дело, сразу сказал, что крестьянствовал, и показал, что мастер он со скотиной обходиться, тетя Агнюша ему и соответствующую работу дала. Только больно уж он сердитый, всё ему фердаммт, одно знает – ругается, зато к скотине совсем по-хорошему, в этом деле зажмуркой ему доверять можно. Так и на мельнице о нем говорят. А как окончит свою работу, так и вытаскивает свою трубку, длинную, разрисованную, с вишневым мундштуком, набивает ее махоркой, выругается, что в этой фер-флюхте Русслянд приличного табаку достать нельзя, засядет после ужина где-нибудь от людей подальше, пускает, как паровоз, дым клубами, и одно знает – молчит. Пригляделись к нему на хуторе, и порешили: чего его трогать, ну и пускай. Работу свою делает чисто, по-хозяйски, а что мы ему не нравимся, ну и шут с ним, то-то он нам нравится!
Вот Мануил, тот совсем другое дело. Только и знает, что песенки свои поет. По-русски уже совсем хорошо насобачился, и вообще парень смышленый, на все руки мастер, куда его не пошли, всё спроворит, тетка Агнюша не нарадуется, что такого работника получила. И что самое главное: в лошадях он хорошо разбирается, Валя рассказывал, что он с ним каждое воскресенье верхом кататься ездит.
После обеда отправляется Семен в Разуваев, под вербами у выгона снова собирается вся его компания и ведут, не хуже дедов, разговор о войне, о конях, об урожае.
– Слышь, Семен, а скольки времени у тетки твоей австриец энтот, Мануил, работает? – неожиданно спрашивает Петька.
– Толком я не знаю, с весны, а что?
– Да то, что за пять-шесть месяцев большая яму повышения вышла.
– Какое повышение?
Ребятишки переглядываются, никто ничего не говорит, только тот же Петька заканчивает разговор решительно и безапеляционно:
– А такая повышения, што выйдет он табе в дядья.
– Что за ерунда, в какие дядья?
– А ты приглядись получшей, вот и сам поймешь. У нас в хуторе народ по-разному говорить зачал.
– Как это – по-разному говорить? Ничего я не понимаю!
– А ты и не понимай, Мануил, энтот понял, што тетке твоей надо.
Петька поднимаемся, домой ему пора, в хозяйстве у них неуправка. Семен решает сходить к Мусе, может быть, она ему что объяснит.
На другой день, когда в полдень все отдыхают, отправляется он на хутор тети Агнюши и находит Мусю в беседке. Сидит она с книжкой в руках и смотрит, не сводя глаз, на амбары. Смотрит туда же и Семен, ничего особенного не видит, но вот открываются вдруг двери одного из них и, поправляя на ходу прическу, выходит на порог тетя Агнюша, она чему-то улыбается, и вдруг, подпрыгнув, бежит через двор к дому и исчезает на кухне. Муся по-прежнему не сводит глаз с амбара, смотрит и он туда же, и видит Эммануила, как, одергивая рубашку и стряхивая пыль с брюк, появляется тот в дверях. Что они, когда весь хутор отдыхает, вздумали в амбаре делать? Быстро и неслышно подкравшись к Мусе, трогает он ее за плечо поднятой с земли хворостинкой:
– Фу, как напугал! Что ты тут шляешься? – сердится она.
– Вовсе я не шляюсь, я так, к тебе зашел, посмотреть...
– Что посмотреть?
– Да всех вас, где Валя и Шура?
– А я почем знаю.
– Ты что такая сердитая? – Семен нерешительно садится рядом с Мусей.
– И вовсе я не сердитая, это так...
– Только так? Ну хорошо. Слышь, Муся, я в Разуваев ходил...
– Ты туда чуть не каждый день мотаешься.
– Однако у тебя и разговор, то шляешься, то мотаешься. Где это ты научилась?
– Тут всему научишься.
Опустив голову, вертит она в руках книгу.
– Что у тебя за книга?
– Хорошая.
Семен встает. Что с этой злюкой зря время терять.
– Я пошел, а ты сиди и злись дальше.
Лицо Муси меняемся. Ясно видно, что вот-вот она заплачет. Знает что-то, да сказать не хочет, не решается. Положив ей руку на плечо, спрашивает он ее совсем тихо:
– В чем дело, Муся, что с тобой?
Опустив совсем низко голову, отвечает она еще тише:
– Я из дома убегу.
– Почему? Куда убежишь?
– Куда глаза глядят.
– Да скажи же мне, что тут творится?
Муся долго молчит, тяжело дышит:
– Видел маму и этого...
– Ну видел, так что же?
– Господи, какой ты глупый! Да ведь вся наша прислуга, все рабочие об этом говорят.
– О чем говорят?
Слова Муси можно, скорее, угадать, чем разобрать:
– Что поженятся они, и еще всякие гадости рассказывают!
– Не надо, не надо, не плачь...
– Как ей не стыдно! Уйду я отсюда, такой мне мамы не надо. И Шура, и Валя уйдут, мы уже договорились, – опустив голову на руки, Муся судорожно плачет.
– Да куда же вы уйдете?
– А вон, в Середний Колок. Построим там землянку и будем в ней жить, вот! Поможешь нам землянку строить?
– Конечно же, помогу!
– Подожди-ка меня одну минутку.
Муся исчезает. Боже мой, не сошла ли тетя с ума? Зачем ей этот австриец? Они там в наших стреляют, они брата Аристарха убили, а она с ним в амбар ходит...
В беседку вбегают Муся, Шура и Валя. Быстро о всём переговорив, решают они строить землянку завтра. Семен приведет в помощь Мишку. Лопатки у них есть. И топор захватят. Когда собирается Семен уходить, Муся шепчет ему:
– Я ее ненавижу, видеть ее не могу!
Только Валя все время молчал, кивал лишь головой, когда его о чем-либо спрашивали, но, судя по выражению его лица, покинет он родительский дом свой без тени сожаления.
Место для землянки выбрали на другой день очень быстро. В самом дальнем уголку леса, почти у речки, под высокими осинами.
Дома сказали, что идут ловить рыбу. Гувернантка летом детей не мучит, лежит целыми днями где-нибудь под деревьями, ест конфеты и читает свои романы французские. Вот и чудесно.
Вечером, страшно усталые, возвращаются все по домам, а наутро собираются снова. Основная тяжесть работы падает на Мишку, он так умело орудует лопатой, что никто с ним сравняться не может. А Муся и Шура натерли такие мозоли, что сидят в траве и плачут. К вечеру второго дня землянка вырыта. Завтра – крышу делать.
На третий день рубят и таскают талы, режут камыш. Мишка притащил две деревяки для сох и начал их прилаживать. И так, лишь к обеду, заметили исчезновение Вали. Поискали его, покликали, и собрались в землянке на военный совет.
– Эй, вы, робинзоны, а ну-ка, вылезай!
Это определенно голос отца. Как он узнал?
Отец не один – с ним Никита-мельник. Тут же пасется запряженный в дрожки Карий. Отец оглядывает землянку хозяйским глазом, обходит ее вокруг, смотрит на Микиту и кивает головой:
– Что ж, работа неплохая. А ну-ка, собирай хабур-чабур, айда домой.
Собрав лопатки и топоры, крайне смущенные, рассаживаются заговорщики на дрожках. Муся, быстро склонившись к Семену, шепчет едва слышно:
– Это Валька всех нас выдал!
На балконе стоит тетя Агнюша с красными от слёз глазами. Рядом с ней смотрящий в землю Валька-предатель. Взяв Мусю и Шуру за руки, молча уводит она их в дом. Валя на мгновение останавливается возле Семена и говорит в сторону:
– И вовсе Мануил не плохой. Я с ним всегда верхом езжу. Мне его жалко... вот...
И бежит за матерью.
Вернувшись домой, уходит Семен с Жако на речку, садится в лодку и быстро гребет. Жако, скользя лапами по мокрым доскам, стоит по привычке на носу, норовя поймать выскакивающие под килем водяные пузыри. Быстро скользнув по сиденью, Семен так накреняет лодку, что летит фокстерьер в воду, вынырнув, плывет к берегу, но догоняет его хозяин и вытаскивает за шиворот в лодку.
– Пожалуйста, назад, господин утопленник.
Нисколько Жако не обижен, отряхнувшись так, что обдает он брызгами своего хозяина, и снова становится на свою вахту. Да, всё это прекрасно, но что же с Мусей и Шурой будет?
За ужином говорят все о чём угодно, только не о землянке. С утра бежит Семен снова к тете Агнюше, и появляется меж катухами как раз в тот момент, когда прискакавший верхом дядя Андрюша вызывает из сарая Эммануила. Дядя сидит в седле крепко, в правой руке плеть, в левой зажал поводья.
– Ты Эммануил Шлемер? Собирайся, сейчас со мной в Ольховку отправишься, а там – в Царицын, понял?
Тут же стоит запряженная телега, правит ею старый клиновец, работающий у тетки несколько лет. Эммануил хочет что-то сказать, да дядя начинает поигрывать плеткой:
– Без разговорчиков, а то мне ноне некогда.
Сборы пленного недолги, забежав в хату для рабочих, выходит он с узлом и привязанным к нему котелком, усаживается в телегу, тупо глядя перед собой.
– Трогай, ты!
Дядя хлопает плетью по голенищу, мужик дергает вожжи, подвода выкатывается за ворота, дядя рысит вслед. Двор как вымер, ни души не видно. Семен спускается под гору и бежит на мельницу. В столярке полно народу, слышны громкий смех и обрывки фраз:
– А чаво тут толковать по-пустому. Терпела баба, терпела, сколько годов зря у ней прошло.
– Што ж он ей замок теперь навесит, што ля?
* * *
Пока суть да дело, неплохо бы было еще разок порыбачить на сазанов. Встав до восхода солнца, забрав удочки и Жако, идет Семен к еще вчера выбранному местечку. Запривадил он еще с вечера, расчистил шамару, авось, сегодня что хорошее попадется. Тут, в этой колдобине, сроду он еще не рыбалил. Вчера в Разуваеве договорился он с казачатами, обещали и они прийти, зорю посидеть, должна тут рыба быть обязательно.
Усевшись поудобней, насадив червей, закидывает он удочки и выстраиваются слева и справа четыре его поплавка, как парные его часовые. Еще совсем тихо, солнце не выглянуло еще из-за бугра над Рассыпной Балкой, утро свежое, роса такая, что сапоги совсем промокли. Забравшись на камыш, совершенно промочив лапы, дрожит несчастный Жако и ежится от холода. Петька с Мишаткой, оба босиком, идут неслышно, только молча кивают ему и усаживаются от него в саженях десяти, на том же, еще вчера с вечера облюбованном, месте. Слышно как шлепнули их поплавки по воде, легкая рябь пробежала по зеркальной поверхности и всё снова затихло. Теперь лишь сиди да жди, когда клев начнется. Поплавки стоят, как по команде «смирно». У Петьки с Мишаткой другое дело: уже показывают они ему хороших красноперок. Вдруг, круто опустившись в воду, пошел один из поплавков в сторону и исчез в глубине, как перископ подводной лодки. Што за наваждение? Что это за рыбина? Сазаны так не берут, плотва клюет по-иному, это что за чудак нарвался? Осторожно, не дыша, берет Семен удилище и одним рывком засекает. Ого – что-то страшно сильное тянет так, что едва удерживается он на берегу, стараясь повернуть рыбину вдоль колдобины. Удается это ему с огромным трудом. Круто повернув где-то там, на глубине, потянула она налево, в камыш. Стараясь никак не пустить ее в заросли, тянет Семен вправо и чувствует, что сила там, на другом конце шнура, огромная. Петька и Мишатка, увидав, что взяло у него что-то доброе, уже стоят позади Семена, не дыша, следя разгоревшимися глазами за каждым его движением и за бороздящим поверхность воды, натянутым, как струна, шнуром. Только бы не сорвалась! Только бы шнур выдержал! А рыбина, чувствуется уже это, приморилась, хоть и давит по-прежнему крепко. Мотнувшись еще несколько раз вправо и влево, идет теперь она, подтягиваемая к берегу, и все рыбаки столбенеют: огромной усатой мордой упирается сом, да-да, сом, прямо в песок берега. Страшный широкий рот судорожно хватает воду, медленно, устало движутся передние перья-плавники, а темное длинное туловище исчезает в глубине речки. Мишатка хватает сачок, заводит его поглубже, туда, где должен кончаться сомячий хвост, но спокойно стоящий, отдышавшийся и набравшийся силы сом рвет вдруг круто в глубину. Семен оступается и летит в воду, выронив из рук удочку. Как был, в рубахе и штанах, ни минуту не раздумывая, бросается Петька в воду, хватает удилище и, огребаясь лишь одной рукой, плывет назад к берегу. Вытащив Семена из воды, протягивает Мишатка руку Петьке, помогает и ему выбраться на песок и передает удилище Семену. Быстро сбегав к своему месту, возвращается он с топором, опускается на колени у самого берега и глядит на шнурок:
– Подводи, подводи, я яво угошшу!
С головы его и рубашки текут струйки воды, посинел он и вздрагивает от холода, но ничего, кроме шнура, не видит и не чувствует. И вот он снова, теперь уже окончательно выбившийся из сил, огромный сомина. С разгона чуть не выскакивает на берег, и губит этим свою жизнь. Петька реагирует моментально. Как молния, взлетает топор и, разбросав сноп брызг, падает обухом на темный лоб широко открывшей рот рыбины. Будто электрический ток проходит по всему ее телу, вздрогнув, обвисает она на удочке, и, задрожав всем телом, медленно переворачивается в воде серо-белым пузом вверх.
– Ох ты, какой здоровый! Да он фунтов с пятнадцать потянет! – рыбаки вне себя от восторга.
Семен не может верить своему счастью. Никогда ничего подобного не брал на удочку не только он, но и отец, и дедушка. На крючок, на жареного воробья, то другое дело, ловили они и куда побольше, а вот, чтобы на удочку – Семен гордо оглядывается на своих друзей, а Петька уже вырезал крепкий кукан, лезет к рыбине, для верности хлопает ее еще раз обухом по черепу и сажает ее на кукан.
– Вот это – да! У нас в Разуваеве таких сомов на удочку ишшо никто не брал!
Петро и Семен раздеваются, лезут в речку застирывать рубахи и брюки от песка и ила, и ложатся на солнце греться. Брюки и рубахи развешены на кустах, удочки смотаны, рыбалить дальше нет никакого смысла, рыбу они вознёй с сомом все равно распугали. А пока сохнет их одеженка, и позубоскалить можно.
Петька жует травинку, глядит в небо, щурится на солнце и потягивается:
– Слышь, Мишатка, расскажи-кась ишо раз присказку твою, а то ее Семен ня знаить!
– А коль ня знаить, няхай слухаить, тольки присказку ету, окромя казаков, никому я не рассказываю, потому казаком быть честь это большая, так мине и отец, и дед говорили, так и атаман наш гуторить. Ну, слухай мою прибаутку...
Было ето всё тогда, когда мой отец ишо не родилси, а мы с дедом на охоту ходили. Були у нас ружья лубяные, а замки полстяные. Идем это мы, подходим к озеру, уток на нем сидить – глазом не окинешь. Вот табе дед мой – громых-громых, да семерых, а я – бух, да двух. Четыре улетели, пять мы не нашли, собрали остальных да и пошли. А жили мы с дедом богато: из рогатого – вилы да грабли, а из поездки – тачка с одним колесом. Был у нас и кот без ушей, ловил он здорово мышей. А и хлеба у нас много было, на брусу два стога пшаницы сложено. Вот однова мышь в пшенице заворошилась, как кинулси кот наш на тот брус, так оба стога в лохань с водой и повалял. Ну што ж, надо хлеб сушись, а посушив – молотить...
Мишка поднимается на одном локте и смотрит на шлях, ведущий из Ольховки в Разуваев.
– Штой-то, вроде хтой-то, намётом бягить.
И действительно из-за деревьев несется на хутор какой-то всадник. Ребята следят, как, миновав школу, подскакивает он к Правлению. Мишатка ложится на спину:
– Обратно приказы какие-нибудь привез. Мало им тех, што по перьвой набилизации ушли, ишо они тридцать тысяч наших казаков забрали. Сам атаман сказывал. И когда они ету волынку коньчут, нашим казакам вроде и надоедать она стала.
Мишатка замолкает. Рубахи и брюхи высохли, можно и одеваться, и присказку до конца дослушать.
– Ну, а как же дальше дело-то было? Посушили, говоришь...
– Да, посушили, молотить! Молотили мы ту пшаницу промежь ногтей, страсть как много намолотили, ссыпали зерно на печь, ишо чудок подсушили, надо молоть, а мельницы-то близко и нету. Дед мне и говорить: «Бяры лопату, лезь на печь». Залез я на печь, а он положил бороду на задоргу, открыл рот: «Сыпь, говорить, ту пшаницу мне в рот лопатой...». Сыплю я яму пшаницу в рот, дед жует, мельница идет, мука лятить: в одну парчину – первый сорт, в другую – второй сорт, а в прорешку – отруби так и выскакивають...
Петька поднялся, сел, смотрит на Разуваева и показывает пальцем в поле:
– А ить никак Сашка это к нам сыпить! Э-эй, суды заворачивай!
Полный и красный от бега, задышавшийся, не в силах выговорить ни слова, валится Саша на траву и хватает себя за горло:
– О-ох, Гос-споди, ти-л-ляграм пришел. Гришатку на фронте убило. Гришатку, Астаховой сына, энтой, што у нее бабушка ваша корову купила...
* * *
Будто своего оплакивала бабушка Гришатку. Целыми днями никуда не показывалась и сидела одна в своей комнате, жгла лампадки и свечи, читала Евангелие и молилась. И только уже перед самым отъездом в Камышин зазвала внука к себе, посадила на ту же низенькую табуреточку, на которой мотал он с ней раньше шерсть, достала откуда-то особенно вкусных сухих слив, протянула ему и спросила:
– А што, Семушка, слыхал ты казачью легенду про Матерь Божью?
– Нет, не приходилось.
– Так вот слухай: давно это случилось, когда, как и сейчас, бились казаки и в степях, и в море синем, а души ихние, тех, што в боях пали, реяли в туманах над речными мелями, над лиманами и поймами, а причитания плачущих казачек неслись с каждого хутора, как шум воды на перекатах.
И сошла однова дня на землю Мать Пречистая Богородица, а вместе с ней и Николай-Угодник. А одела Она самую лучшую свою жемчужную корону. И так обходила Она Казачий Край, плачь казачек слухала. А когда наступил знойный день, пересохли уста Ее от жалости, и не было чем Ей их освежить. Никто в хуторах на стук не откликался, никто к дверям не подходил и не отворял их, а только еще громче раздавались за ними горькие рыдания. И подошла Она к глубокой реке. И только наклонилась к ее струям, чтобы водицы испить, как упала та Её корона с головы и скрылась глубоко под водой. «Ах, – сказала Она, – пропали мои жемчуга. Никогда больше не будет у меня таких красивых».
Но когда возвернулись Она в Дом свой небесный, то увидала Она на золотом троне своем такие же сияющие зёрна драгоценного жемчуга.
– Как это попали они сюда? Ить Я их потеряла. Это, должно быть, нашли их казачки и передали для меня.
– Нет, Матушка, сказал Ей Сын Её, не жемчуга это, а слезы казачьих матерей. Собрали их ангелы и принесли к Твоему Престолу...
Замолкла бабушка, глядит на огонек лампадки и плачет, сама слёз своих не замечая. Семен сидит и шелохнуться не смеет. Будто от внутреннего толчка, ее разбудившего, вздрагивает она и пробует улыбнуться:
– Ну иди, иди, глупая я, только тоску на тебя навожу. Казак ты, тебе сам Бог горевать не велел. А уж мы, казачки, другое это дело, бабье... ступай, ступай, с Жако твоим в луга пробеги, миру Божьему еще трошки порадуйся... а жемчуга, нет, не любят казачки, слёзы и горе они приносят.
* * *
Взрослые были заняты разговором с мичманом, а Семен предавался горестным размышлениям: «Господи, да разве же это возможно? Как же это и произойти-то могло? Почему? Неужели же это так всегда в жизни бывает, что вот та, которую так страшно видеть хотелось, не только не пришла, но и надежды никакой нет вообще ее когда-нибудь увидеть. За что? ».
В полутемном своем углу, в гостиной, глубоко усевшись в широкое кресло, смотрит он остановившимся взором в одну и ту же точку на ковре, в мозгу молотками бьются услышанные им слова: «Уши наш уехала в Аскания Нова. К Фальцфейну. Там и учиться она будет, там и останется в его имении возле Крыма, там ее счастье. И ми воопше толшен Пога плаходарил, што такой польшой шеловек наша Уши к сопе взял...». Весело рассказывает фрау Мюллер о том, что получит Уши у Фальцфейна самое лучшее образование, и сможет там, на месте, заняться как раз тем, что она особенно любит – животными. У него ведь в колоссальном имении собственный зверинец, в степи искусственное орошение, огромный парк, такие деревья растут и такие фрукты вызревают, каких даже у Батума на Кавказе нет. И пальмы, и чай, и тростник-бамбук, и мандарины. Рай да и только...
А ведь все летние каникулы, изо дня в день, с утра до вечера, только и думал Семен о том, как, вернувшись в Камышин, первым делом отправится он к Мюллерам.
А Мюллерша рассказывает, как выехали они на пароходе «Самолет», как доехали до Царицына, а оттуда поездом на Ростов, потом в Севастополь, а там, на балу у моряков, познакомились с Фальцфейном, понравилась ему Уши огромным интересом ее к зверям и растениям, после вальсов и ужина пригласил он ее к себе. И отправились потом в Мариуполь, а оттуда, ох, можете себе представить – автомобилем, его собственным, огромным, с шофером в имение поехали... Уши в восторге была...
Уши была в восторге... да-да, за автомобиль с шофером и за бамбук с мандаринами кого угодно променять можно... – глубоко съехав в своем кресле, превратился Семен в комочек горя. Сидит и не движется, смотрит, не моргая, всё на тот же противный квадратик на том же дурацком ковре... Уши была в восторге... А тут еще и сын Мюллеров, мичман Черноморского флота, служит на миноносце «Боевой», ростом высок, строен, красив, с такими же синими, как у матери и Уши, глазами. И все: и мама, и отец, и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, смотрят на него так, будто он уж что-то совсем особенное. Свалился с неба профессор флотских кислых щей! Скажите, пожалуйста, такой же немец, как и те, кто Аристарха убили. А они и глаз с него не сводят!








