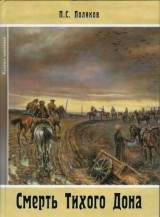
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 46 страниц)
Большая керосиновая лампа горит посередине комнаты, под самым потолком, освещает круглый стол. Расстелила на нем одна казачка свое вышивание, подошла к ней мама да так и ахнула:
– Глянь, Семен, да ведь она так же, как и я, гладью анютины глазки по канве вышивает, ну точь-в-точь, как тот коврик в комнате твоей над кроватью, помнишь?
Набежали у мамы на глаза слезы, скоренько вытирает она их скомканным платком, дрожат ее руки и жалко скривившиеся, побелевшие губы. Смотрит на нее казачка, широко открыла карие свои глаза и, видно, что вот-вот и она разревется.
Входные двери широко раскрываются. Первым входит дядя Ваня, а за ним все из нового куреня. Дядя Ваня низко кланяется казачкам и громко спрашивает:
– Здорово днявали, часная компания! А не разрешитя ли и нам в ваши разговоры встрясть?
Весело отвечают бабы:
– Слава Богу!
– Милости просим!
– Так и быть, заходитя, господа старики!
– Ух, хорошо, а то у нас от посного разговору языки посохли!
Высоко, удивленно поднимает дядя Ваня брови:
– Языки, говоритя, посохли? Ить вот бяда какая! Ну мы их враз в порядок приведем.
Из широких карманов полушубка вынимает он две бутылки наливки, а в эту же минуту появляется тетка с двумя девками и тащут они подносы с конфетами, леденцами, пряниками, орехами и печеньем. Мужчины сразу же находят себе место, где и им присесть можно, как говорится – в тесноте, да не в обиде. Первые рюмки выпивают молча, поглядывают с удивлением на них: почему же они пустые, и как это так терпеть можно. Наливают еще по одной, и затягивает дядя Ваня любимую свою:
И-эх вы, бабочки, вы козявочки...
Народ занялся закуской, песне еще не время, из другого угла тянет раненый урядник:
Эх вы, куры, мои куры, кочеточки мои!
И он отвлекается третьей рюмкой. И выходит тут на середину комнаты Дунька Морозова, подбоченилась, закинула голову назад, будто потянула ее к земле огромная коса, и затянула высоким сопрано:
А я, бабочка, наделала бяды,
Пошла по воду – побила казаны!
Вся, как есть, бабья полусотня дружно подхватывает:
Господин наш посялковый атаман,
Разбяры ты ету делу по правам...
Разбяры ты ету делу по правам:
Я побила казаны по головам...
Будто из ружья хлопнули наружной дверью. Широко распахнулась входная в комнату, напустила холодного пару, и замер на пороге закутанный башлыком Савелий Степанович. Неуклюже стараясь развязать узлы замерзшими пальцами, хриплым, срывающимся голосом едва выговаривает:
– В Черкасске... атамана Назарова, Богаевского Митрофана, председателя Круга, с ними шесть казачьих генералов, шестьсот офицеров, юнкеров, кадет, гимназистов расстреляли большевики за одну ночь...
* * *
Будто вымер весь хутор Писарев. В степи лежит еще снег, холодно, еще столбом поднимается по утрам дым из куреней к далекому, покрытому облаками, небу. Пусты и улицы, и проулки, будто вымерло всё, будто и живой души нигде нет.
В старом курене, в той же большой горнице, собрались перед вечером все снова, закусили и выпили, и, глядя в окно, в темноту, спросил дядя Ваня:
– Может, ты, Валентин, еще что расскажешь?
– Эх, рассказывать, так с нашего паритетного Правительства. В декабре прошлого года оно окончательно было создано. И засело в нем тридцать шесть человек... Собственную донскую керенщину мы развели. Потому что, видите ли, единение с донским крестьянством надо нам было. Вот и собрали для этого Крестьянский съезд, и представителей своих выбирали попросту, по симпатиям, без партий, без программ, местных провинциальных величин, по признаку их популярности в массах. Мы в наше Правительство посадили восемь казаков членов, – говори министров, и восемь же есаулов, их помощников, и прислали нам крестьяне своих шестнадцать человек, восемь министров и восемь эмиссаров. Демократию мы развели такую, что дальше некуда, потому-то все эти господа министры и их помощники людьми были совершенно случайными, ни специальных знаний, ни образования особого, ни опыта, ни широкого кругозора. Казаки, так те хоть округа и станицы свои представляли, а крестьяне-представители никакого авторитета в области не имели, с их цензом не выше сельских учителей. Стало это Правительство в Областном Правлении заседать, и были это не заседания, а митинги политические, обструкции крестьянские представителей в вопросах защиты края и внутреннего порядка. Только трое из крестьянских министров были надежными: Светроваров, Мириндов, и Шапошников, а остальные, особенно же Кожанов, Боссе, Воронин и Ковалев, – те были открытые и явные враги. Прислушались ко всему казаки, и заговорили:
– Во – посадили нам мужиков в Правительство, поглядим таперь, как они мужиков своих организують и куда.
И пришлось Атаману нашему, на основании самоновейших демократических правил, тогда, когда черноморские матросы и ростовские большевики нам войну объявили, с этим своим Правительством об обороне края дебатировать и дискутировать. Доказывать им, уговаривать их, только зря время теряя. И та же картина в вопросе введения осадного положения на железных дорогах. Товарищи иногородние министры, открыто играя на руку большевикам, всё тормозят, обструкции устраивают, решения задерживают, прекрасно зная, что без единогласного постановления Правительства сам Атаман ничего поделать права не имеет, и не может. Сидел перед Калединым коллектив в тридцать шесть человек, а он, боевой генерал, Атаман, ответственный за судьбу своего края, должен вступать с ними в пререкания, должен им доказывать, спорить, вести бесконечные прения. И почувствовали в народе, что никакой силы у казачьей власти нет, что вечно она колеблется, ни в чем не уверена, даже порой подозрительной в симпатиях к большевикам кажется. И стали на это свое Правительство казаки смотреть косо. И терял Атаман авторитет свой с каждым днем и часом. А тут еще это же Правительство широкую амнистию политическим заключенным объявило. И вылезли из тюрем большевики и их помощники, и открыто начали саботировать, агитировать, за развал взялись, за подрывную работу. И зачесались казаки: да что же это такое – борется наше Правительство с большевиками или потакает им? А не забудьте – на Крестьянском съезде было постановлено распустить Добровольческую армию. И теперь, сидя в казачьем Правительстве, старались провести в жизнь, что постановили члены его – явные большевики. А Каледин со своим триумвиратом носится, на белую Россию надеется, хочет сделать Дон базой для тех русских, которые спасут Россию от большевиков. А тут еще насели на него такие для него огромные авторитеты как Корнилов, Алексеев, Деникин. Привык он старшим генералам подчиняться слепо, и дал он им на их Белую армию казачьих денег из Ростовского банка пятнадцать миллионов рублей. А красные – те никак не спят, прут отряды ихние на Дон со всех сторон, идут в открытое наступление, хотят казаков уничтожить, задушить, залить край ваш кровью. Понадеялся было Каледин на Восьмую дивизию, которая совсем случайно оказалась на Дону, но и она разложилась. Разошлись и эти казаки по домам. А многих фронтовиков из колебавшихся частей распустил сам Каледин, в надежде, что очухаются они сами. И вот, скрепя сердце, не находя иного выхода, собственно, уже отчаявшись, разрешил Каледин партизанские отряды формировать. И пошла на убой золотая, прекрасная, жертвенная казачья учащаяся молодежь. А молодых казаков последнего призыва мобилизовать не решились, самого слова «мобилизация» боялись, слишком недемократично и контрреволюционно. Да и в самом Правительстве запротестовали бы господа пробольшевистские министры. А ведь этих молодых хватило бы на три дивизии с гаком. И очередные станичные команды не использовали, тоже из станичной молодежи, было их до десяти тысяч, давно они обучены были, только собери их, и командуй. А сделай это Каледин, первым бы – Временное правительство в Петрограде взбунтовалось. И ко всему большевистская пропаганда. И никакой, абсолютно никакой, собственной. На важных постах сидели у нас господа офицеры, привыкшие получать приказы и командовать, а своей казачьей головой думать не привычные... «грудные ребёнки», как сказал мне один мой знакомый еврей. Не понял Каледин, что не бунт это, а социальная революция, что тут с головой дело делать надо, а не по Уставу внутренней службы. А как унижался он, хотя бы перед артиллеристами нашими, когда просил их выйти на защиту Дона. Он, известный, заслуженный, сто раз отличившийся генерал, герой Луцкого прорыва, кавалер Георгиевского оружия, орденов святого Георгия четвертой и третьей степеней за бои у Гнилой Лины, у деревни Руда, за бой под Калушем, он, всенародно выбранный Войсковым Атаманом всем своим народом, ведь это он свою фуражку перед ними снимал, прося их выйти на позицию. Помялись они, помялись, и разбрелись кто куда. Принес на Дон чистое, незапятнанное имя, и загадили его, загрязнили. А уйди он из Черкасска, сказали бы, что сдрапал, струсил, спрятался под бабью юбку...
И постоянно, днем и ночью, лезли к нему и Алексеев, и Деникин, и толковали ему о союзничках наших, будто они, через какую-то московскую организацию, в которую вошли все русские патриоты, дадут нам широкую помощь. И, конечно же, никакой помощи ниоткуда он не получил. А только набежали, как саранча, все эти патриоты на Дон, все эти обанкротившиеся господчики из несчетных русских партийных политиков, все эти господа родзянки, милюковы, савинковы. И требовали они, интриговали, нашептывали, мутили, портили всё.
В последнюю, собственно, минуту собирает он совещание знаменитого своего Триумвирата с представителями от Круга и Правительства. Но ни Алексеев, ни Корнилов не являются, а посылают вместо себя генерала Лукомского, который сразу же обещает, что Добровольческая армия никак казакам на помощь прийти не может, и что снимает Корнилов офицерский батальон, стоящий на позициях у Ростова. Прения начались, разговорчики, споры и, конечно же, ни до чего не договорились. Будто совсем порешили отойти в район глухих станиц, да и на это не решились. Но воззвание к казакам написали, даже отпечатать его успели, только читать его уже некому было, полный развал наступил. И тут же и телеграмма от Корнилова пришла о том, что двинулся он на Кубань. Этим обнажил он весь наш фронт у Ростова, и сразу же двинулись на нас красные от Грушевска. Вот и встал Каледин на этом совещании и сообщил господам собравшимся, что в распоряжении у него сто пятьдесят штыков, что борьба дальше невозможна, что следует сложить полномочия и ему, и Правительству, а власть передать городской управе, чтобы избежать уличных боев в Новочеркасске и гибели невинного населения. И снова заспорили. А Каледин им:
– Разговоров было достаточно, проговорили Россию...
Быстренько решают они все сдать власть Городской Думе, Каледин уходит в соседнюю комнату, и – стреляется. Страшным по всему Дону прокатилось эхо этого выстрела. Задумались казаки: до чего же мы выбранного нами Атамана довели? Только поздно было. Со всех сторон идут красные на Дон, а на станции «Серебряково» толпа рабочих и красногвардейцев избивает восемьдесят человек казачьих офицеров. «Это, кричат, поминки вам по пятому году!». А на другой день после смерти Каледина избирает Круг Войсковым Атаманом генерала Назарова, а к нему Походным Атаманом генерала Попова. Спешно решают защищать Дон до последней капли крови, но посылают делегацию к командующему наступающими на Новочеркасск красными, какому-то товарищу Саблину. А тот им и отвечает:
– С трудовыми казаками не воюем, а с Правительством Дона, не признавшим власти Ленина-Троцкого. Казачество же, в такой форме, в какой оно есть, должно быть уничтожено.
Так и сказал: «Уничтожено»! Пришел тут на Дон шестой полк Тацина, в полном боевом порядке, восторгу пределов нет, а не прошло и двух дней и он нейтралитет объявил. Двенадцатого февраля утром занял Голубов со своими красными казаками станицу Кривянскую, а в пять вечера – Новочеркасск. Походный Атаман, генерал Попов, собрав около себя до трех тысяч, ушел в Сальские степи... А казаки голубовского Северного Революционного казачьего отряда окружают в Новочеркасске здание Войскового Круга, где шло заседание. Голубов врывается в зал и орет:
– Встать!
И все встали. Только Атаман Назаров продолжал сидеть. Подскочил к нему Голубов:
– Ты кто?
– Я – выборный Донской Атаман, а кто вы?
– А я – революционный атаман!
Сорвал Голубов с Назарова погоны и приказал отвести его на гауптвахту. Тут к Голубову, крадучись, осторожненько подходит один член Круга:
– А что нам делать прикажете?
– Убирайтесь к чёрту!..
На минутку дядя замолкает, глядит в темное окно, будто где-то там, в заснеженной, пустой степи, маячат ему фигуры из описанной им картины. Вздыхает дядя и продолжает:
– А в городе полное отчаяние, страх, разочарование, слухи ползут зловещие, все винят Правительство, но отворачиваются от тех, кто еще призывает к отпору. Вот и повстречались тут у нас два мира – шкурники, трусы, карьеристы, прохвосты и люди порыва, жертвы, доблести, долга. Люди, творившие чудеса храбрости, умиравшие за вольный свой тихий Дон с молитвой на устах, и иуды, глупцы, ничтожества. И поднялись по всему городу стрельба, пьянство, аресты начались, избиения, допросы. Вот тут, князь, я и капитан и порешили мы в последний момент тягу дать. Вот и всё...
Отец поднимает низко склоненную голову:
– Значит, свои же казачки подвели?
Быстро реагирует князь:
– Нет, так просто нельзя казаков обвинять. Тут вам прежде всего ваше двухсотлетнее пребывание под общероссийской муштрой. И что особенно важно, вина созданного у вас аппарата управления, вашей интеллигенции, вашего офицерства, чьим ярким представителем оказался Каледин, в последнюю минуту Дон не помянувший, а сказавший, что проговорили -Россию! Тут же и вековая, упорная, целеустремленная пропаганда вашей принадлежности к России и вашей от нее неотделимости. Всё это удалось общероссийскому центру крепко внедрить в ваше дворянство, созданное этим центром, скажем, Петроградом, с особой целью, простой: разделяй и властвуй. До тошноты избитая, сотни раз оправдавшаяся истина. Но в толще вашего народа, в казачьей массе, по-прежнему крепка старая ваша, булавинско-разинская, закваска. Но понимал, знал, чуял старую эту вашу закваску Походный ваш Атаман Попов. Уверен он, знает, что не покорятся казаки большевикам. И ушел в степи и, уверен и я – спасет он честь вашего Дона. Вину же в том, что пошли многие казаки за Подтелковым и Голубовым сносят те, кто прививал вам централизм, слепой русский патриотизм, ассимилировал вас, насадил у вас чувство неотделимости от России и от всего того, что бы там не происходило. Вот и попробовал Каледин ваш Россию эту выручить, спасти ее со сбежавшимися к нему политическими банкротами, потянувшими его бороться за навсегда скомпроментировавший себя строй. Был он, Каледин, только русским генералом казачьего происхождения, а не Донским Атаманом разинской или булавинской ухватки. Вымуштрованным в России верным присяге офицером. Уверяю вас, стреляться никогда ни Ленину, ни Троцкому в голову не придет. Иначе они воспитаны, иному обучены, по-иному и на вещи смотрят. Вон и Попов ваш, а с ним три тысячи казаков, не стреляться захотели, а решили борьбу продолжать. За Россию не цепляясь.
Отец растерянно смотрит на князя:
– Простите, вы же сами сказали, что вы – рюрикович! Ведь это же... вы что же – сами революционер? Я, откровенно говоря, ничего не понимаю: как это так Россия нам централизм привила? Да что же мы, бунтари, что ли? Мы же все русские люди... мы...
Князь отвечает вяло и неохотно:
– Надеюсь, потолкуем еще мы с вами на эту тему...
Воспользовавшись наступившим молчанием, говорит хуторской атаман:
– Я об чем вам сказать хотел: пришел в Иловлинскую один голубовец, прямо с Черкасска. Слышь, Сёмушка, побяги-ка ты в курень Гриньки-говорка, там у него голубовец энтот сидить, привяди ты яво суды, говорил я с ним, и согласный он кой-што нам рассказать...
На дворе, оказывается, давно стемнело. Бежит Семен по-над речкой, туда, на самый край хутора, где последним к выгону стоит накренившийся набок курень отца Гриньки. Давно уже у них неуправка в хозяйстве. С тех пор, как ушел на войну Гринька-говорок, остались дома лишь хворый и на военную службу забракованный отец его да молодая Гринькина жена. Старались они вдвоем как-то всему дать ладу, да так у них ничего и не получилось.
На стук никто не отвечает. Тяжело открывается, скрипит и грозит, того и гляди, сорваться с петель расхлябанная дверь.
– А-а! Семен Сергевичу наша почтения! Табе кого, односума? Бяри яво задаром, так отдаю!
Гринька-говорок приветливо улыбается, сидящий с ним рядом на лавке казак быстро поднимается. Было бы лицо его очень приятным, не побей его так здорово оспа.
– Ну, хозявы, проститя, на время отлучуся, к Поповым пойду, обяшшал я всё обсказать, как оно там было. А ты, Гринькя, думаю, таперь понял, куда она, дела, поворачивается?
– Ды-ть как сказать, людей, верно, зазря побили, ну...
Из угла выплывает, из табачного дыма, худое, испитое лицо Гринькиного отца:
– А ты, Гринькя, таперь приберегайси. Узнають в хуторе, как оно получилось, вспомнють, што ты толковал, я табе тогда не заступа.
Войдя в курень Поповых, вытягивается голубовец, как по команде «смирно»:
– Здорово днявали, часная компания.
– Слава Богу!
– Садись, служивый, гостем будешь!
Пока казак усаживается, придвигает ему дядя Ваня рюмку с наливкой:
– А ну – благословясь.
Голубовец выпивает ее не спеша, вытирает рот ладонью и заговаривает так, будто торопится рассказать о всём, что видел:
– А таперь, суды, мине вы послухайте. Намучились мы на войне этой, а как на ней было, ни мине, и ни вам рассказывать, сами знаитя. Пошел я рядовым, а к энтой, к фявральской революции, два хряста на мине, дьве мядали и погоны урядницкие. Ну, мало с них радости было, всё лавочку энту кончить гребтилось, да домой поскорей, на Дон, на хутор, на левады, к жане с дятишками приттить. Тольки трошки по-иному оно всё пошло. Вперед послали полк наш дезертиров энтих ловить, потом попали мы с Красновым под Петроград, потом зачалась ета катавасия и нагляделси я такого, што и вспоминать неохота. Одно нам всем ясно стало, в завирухе ихней лучше нам, казакам, зря чубов не обжигать, а на Дон иттить надо. Понадеялись мы на Атамана Каледина, да не схотел он полки наши с фронту сымать, всё думал, што начнуть русские обратно немцев бить. Вот и остались мы в энтом котле.
И показали себя солдатня ихняя. Вот, к примеру, в Дубовенском полку распяли они командира свово. Да чаво вы на мине вылупились, говорю вам – распяли, не хуже, как того Христа. К дереву яму ноги-руки гвоздями прибили, а потом измываться над ним зачали, хто уху отрубить, хто в живот яму штыком пырнеть, хто нос яво же шашкой отсекёть. Пальцы яму все, как есть, на ногах и на руках поотрубали. Топором. Когда прискакали мы туды, разбеглись они, тольки труп энтот на дереве висеть осталси. Оглядел яво доктор военный, сказал, што всяво шестьдесят разов рубили яво и кололи...
А и так ишо было: распороли они одному попу живот, кишку разрезали, гвоздем ее к телеграфному столбу прибили и зачали яво круг того столба гонять, кишки яму выматывать... Думал я, што под горячую это у них руку, со временем утихомирятся, да, думал, а как глянул потом у нас, в Черкасске... ну, да не об том я, вперед сказать хочу, што там, на фронте, пошли у нас головы кругом, ничаво мы никак понять не могём. Кинулись мы к офицерам нашим, а они либо в молчанку играются, либо удочки смотать норовять, либо сами так порастерялись, што и глядеть на них никакой возможности нет. Либо с подо лбу на тибе зырить, либо такое преть, што, видать, боиться он тибе и никак боле не верить. А посля Красновского походу окончательно поняли мы, што пропало всё то, што сотни лет стояло. Понаехали к нам в полки разные дилягаты, то от полков, то от комитетов, то от самой от Думы, то от солдатстких и рабочих депутатов, и, знай, одно нам торочуть, што наступить таперь мир во всем мире. И што ня будуть боле казаки так служить, как при царе служили. А Дон как был сам по себе, так и останется, тольки вот царские атаманы и гиняралы, которые нас зазря на смерть гнали, тольки их поубяруть с постов ихних, а тогда и пойдеть вольная жизня. И будто сам ихний Ленин нам, донцам, республику в Москве объявил. А тут, слухаем мы, будто сбираются у нас гиняралы разные, энти, што бил их немец, как тольки хотел, сбираются они обратно, как в пятом году, против всяей России нас на усмирению послать. Вот тут и подскочил к нам Подтелков, всё, как есть, нам по-простому объяснил, реки нам мядовые наобяшшал, а берега прянишные. И ряшили мы всё то снистожить, што нам на путю стоить, по которому народ к миру прийтить могёть. Вот и явились мы на Дон, слухаем: партизаны какие-то идуть, энти, што за гиняралов да за капиталистов стоять. Ну, и цокнулись мы с ними. Видел я сам, как казаки нашего Двадцать шастого полка дятишков энтих рубили. Там тогда и Чернецова, командира тех партизан, Подтелков срубил. Ну, думаем, кончилось, будя, таперь всем нам полякшаить. Вот и заняли мы с Голубовым Новочеркасск, так, под вечер, в няво вошли. Многих с наших аж сляза прошибла, слава Табе Господи, таперь мир, кончилась кровипролития. Вошел в Черкасск наш Северный Революционный казачий отряд, а за нами красные гвардейцы, матросы, рабочие, шахтеры пришли. И подняли они пьянство, стряльбу, крик, руготню. Эх, думаем, Русь-матушка, приняли мы тибе на Дон, што-то с того дела получится. И слышим, што собралось заседания Новочеркасского Совета рабочих и солдатских депутатов, а с ними и наш казачий Исполнительный Комитет засядаить. И перьвым ихним решением было арестовать нашего архиерея Гермогена и архиепископа Митрофана. А по всяму городу аресты и расстрелы пошли. Какая-то из Совдепа ихняго баба, Кулакова по фамилии, так энта стерьва сама с револьвером скрозь бегала и на улицах, кого попадя, стряляла. Видим мы: бьють они казаков, кого где запопадуть, кого на улице, кого на базу, кого в погребе, где нашли – там и поряшили. Иных на извозчиках за город к вокзальной мельнице вязуть и там им пули в затылки пушшають. А чатырнадцатого февраля переименовали нашу Войску Донскуя в Донскую Республику. Будто велел это сам Ленин ихний исделать. Так сам на телеграмме и написал своей рукой: Донская Советсткая Ряспублика. Это нам, чаво и говорить, здорово понравилось. И стал во главе нашей ряспублики Подтелков. Переехал он в Ростов и объявил, што вся власть таперь перешла в руки Военно-революционного комитету, трудовых крестьян, рабочих и казаков. А в Черкасске сформировалси Совет рабочих и казачьих депутатов и военным комиссаром назначен был матрос Медведев, бывший сибирский каторжник. И зачали они враз декреты разные издавать. И зачали мы те декреты читать. И зачали, ничаво не остается: никаких нам правов нету, звания от вольного Дону ня будить. Так выходить, што переделають нас в мужиков, да ишо и нашими же руками... И тут же приказ: сдать в трехдневный срок всю оружию, а офицерам и партизанам прийтить и зарегистрироваться. И зачали скрозь по городу аресты производить, волокуть заарестованных на гауптвахту, да не тольки офицеров, и девчат наших молодых, должно институток наших донских али гимназисток, дочерей офицерских. Сам я двух тринадцатилетних кадет видал, тоже сидели заарестованные. И всех их мы же, казаки, охраняли. Сидели они свободно, не запирали мы их, сбирались они по калидорам, межь сибе разговаривали, с нами спорили. Тут я и атамана Назарова видал. Сказал он тогда нам: «Берегите, казаки, офицеров ваших. Пригодятся они вам». Да, а в ночь с семнадцатого на восемнадцатое февраля пришли матросы и красногвардейцы и забрали Назарова, Волошинова, Усачева, Исаева, Грудеева, Ротта и Тарарина, все, кажись, гиняралы они были, точно мы ня знали, погоны с них при аресте посрывали. И сказали нам, што переводятся они в городскую тюрьму, потому што народный суд над ними будить. Забрали и увяли. А увяли их в Краснокутскую рощу и там всех, как есть, порастреляли. И зачались обратно по городу расстрелы. Красногвардейцы, шахтеры, матросы, латыши. А мы, казаки, глядим на всё это, и головы у нас кругом пошли: ить это наших же казаков мужики бьют. И зачались у нас с матросами и красными гвардейцами стычки и драки. В рукопашную мы с ними ходили, отбивали у них тех, кого они на расстрел вели. А то ишо и так они делали, как в энтом лазарете Общества Донских Врачей. Вынесли на улицу ранетых офицеров, которые там лежали, и волокуть их на расстрел. Тут женщины сбеглись, кричать, плачуть. А они им и говорять:
– Выкупай, бабы. Двести рублей штука. Плати и забирай, у кого деньги есть.
Вынула одна, а в ней всяво четыреста рублей. Отдает матросам, а те ей шумять:
– Выбирай кого хотишь!
Вот, значить, думка у нее: двух она спасеть, а все сорок на нее глядять, кажный жизни надеется. Взяла перьвых попавшихся, облилась слезами, а остальных уволокли они, постряляли. А Волошинов, энтот, што посля революции перьвым атаманом был, того вместе с Назаровым ночью расстреляли, да не добили, осталси он ляжать чижало ранетый, вылез из балки и возле хатенки крайней бабу одну увидал. Попросил укрыть яво, а она, жана она одного рабочего-иногородныго была, побегла и матросам об нем сказала. Пришли они и штыками яво прикончили. На город же, на Черкасск, контрибуцию в пять миллионов рублей наложили, с тем, штоб в чатыре дня собрана она жителями была. Тут же и приказ вышел: трупы, которые на улицах по городу валяются, должно население закопать, потому эпидемия от разложения трупов тех произойтить может. Даже газета ихняя «Известия» приказ тот напечатала...
Казак замолкает, переводит дух и тянется к рюмке. Вместе с ним молча выпивают и все остальные. Крепко хруснув пальцами сжатых рук, низко наклонив голову, продолжает он:
– Ить какая она дела получилась, почяму всё оно так вышло, ить это, как хохлы говорять, разжевать надо. Ну, хоша бы Каледина-атамана взять. Оно, конешно, нагляделись мы на солдатов хорошо, толковать не приходится, банда кровожадная. Только и то во вниманию принять, што и сами мы так, зазря, головы подставляли и муки мученические примали, потому как послали нас на войну энти самые паны, которые свою старую Расею и царя свово проворонили и предали. А таперь обратно же нас, казаков, эти же самые цари на Расею порядок наводить гнать норовять. Ить ишо на государственном совещании в Москве Каледин наш вроде от имени всех казаков сказал, што нужно порядок по всяей Расее навести. И таперь слышим, што с гиняралами русскими триумвират какой-то он заключил, и нас на Расею с плетюганами гнать. Порядок русским сзаду всаживать. Вот это нам по ндраву и не пришлось. А тут ишо – мы бы домой, а наш же атаман нас на фронте держить. Должны таперь тольки мы и немцев, и австрийцев, и турков бить, и солдатов русских разбежавшихся скрозь разыскивать и, как тех зайцев, ловить, обратно их на фронт гнать, а фронту-то энтого, почитай, што и нету, все, как есть, поразбегались. А в полки к нам агитаторы поналезли, как те вши в кожухе, сидять, видимо и невидимо. И одно нам толкують: сам Ленин ихний нам, казакам, ряспублику объявил, могём мы домой иттить.
Отец откашливается и, щурясь, спрашивает:
– Н-нусь, казачок, поняли вы теперь, как вас большевики надули?
Казак темнеет в лице и совсем резко отвечает:
– Мы-то много чего поняли, потому што пробуется оно на шкуре нашей. Да, видать, не все ишо поняли, как с нами говорить надо. Из дятишков давно мы повырастали, – лишь на минутку замолкнув, не глянув даже на отца, продолжает спокойно говорить: – Да, понять-то мы поняли, тольки на бяду нашу не от тех, на кого понадеялись. Не от своих. А наши тольки и хотели, што за ету Расею нас в новуя драку втравить. Да привяди они нас на Дон, да не болей об германьском фронте, а тольки об своём, об Доне, иной бы коленкор у нас вышел. Ить шистьдясят полков наших было, а скольки батарей, а отдельные команды и сотни. Эх, вот тогда ряспублику нашу нихто бы задавить не посмел. Да ишо, при энтом российском всеопчем развале, сказал бы иную слову, да женщины тут. Справдишним же гяроем был у нас Назаров-атаман. Ить прямо он нам говорил, што няхай яво убьють, не боиться он того. И што даже хорошо энто будить, поднимуться тогда казаки, поймуть, што им делать надо. Вот таперь и вся надея наша на то, што офицеры наши поймуть, наконец, што оно и куды. И не полезуть обратно Расею пороть и спасать, как Каледин через триумвират свой делать сбиралси. Вон Попов-гинярал, энтот, што партизан своих в Сальские степи увел, ить советовал он Каледину бальер казачье-украинский исделать по линии Оренбург-Курск, и тем отрезать и Дон, и Украину, и весь, как есть, юг Расеи, и тем большевиков на корню поморить. А всех энтих, што сибе за главных русских патриотов объявили и к нам понабегли, всех энтих дяникиных, алексеевых, романовских, и хто там ишо есть, в район Саратов-Камышин посадить. Няхай оттель Расею свою с русаками сами спасають. Так нет же, посбирал их Каледин, и сам себе на шею посадил. Вот и выручили они яво. Когда подошло в Черкасске узлом к гузну, што Корнилов Каледину сапчил? «Ухожу на Кубань». И крышка. И как их, добровольцев этих Попов-гинярал, посля того, как стал он Походным Атаманом, ни уговаривал в Ольгинской станице, иде они совешшанию свою делали, как ни уговаривал вместе с ним в Сальские степи итти, генерал Алексеев и слушать не хотел. Одно твердил: на Кубань, а там – на Кавказ, а в случае чаво – распыляться, полные штаны гинярал наклал. И понял Попов наш, в чём у них дело: могут они распыляться; хто они, эти две тыщи добровольцев – сбеглись к нам, шкуру свою спасая, бывшие люди, кто откуда попал, с бору да с сосенки посбирались. Им и разбегаться так же легко, как той шайке карманников. А мы, казаки, мы на стипе нашей тыщу лет всем народом живем, нам распыляться некуда, у нас другой вопрос: переведуть нас, казаков, русские, аль нет, устоим мы. Вон он вопрос, в чём и понял яво гинярал Попов правильно.
Отец быстро перебивает урядника:
– Совсем я с вами не согласен. Вы же понимать должны, что генерал Алексеев, бывший Верховный Главнокомандующий Русской армии, ведь это же голова! Ему и книги в руки...
Урядник горько усмехается:
– Во-во. Вот на этом обратно мы протяпать могём. Ежели чужим, один раз сбанкротившимся гиняралам, за хвосты цапляться будем. Думается мине, што должны мы с Калединым вместе российские наши думки похоронить. Своё нам дело делать надо. Вон и Назаров нам говорил... на гауптвахте...








