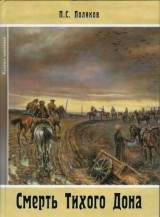
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 46 страниц)
– Ребяты! Звать мине Иван Михалыч Кудельников. Рабочий я. У Тараса Терентьевича Кожевникова на буксирах работал. Потому как я по машинной части. Сбёг он куда-то, Кожевников. Ну да всё одно разыщем. А к тому я говорю, что таперь в Думе городской мы, местный Совет, заседаем. Солдаты и рабочие. Не то, што при Николашкином старом прижиме, когда должны были мы всем шапки ломать. Нету боле Николая кровавого, и осталось нам теперь всех энтих к рукам прибрать, которых он, как власть свою, скрозь порассаживал. Каких капиталистов, фабрикантов, купцов, офицерьёв, попов и иных, которые контра. А к тому я вам говорю, што завтра у нас, во-первых, похороны жертвов старого режиму, а посля того демонстрация. И к тому говорю, штоб все вы завтрева явились, а за явку вашу мне в ответе. А на случай, ежели какой несознательный саботаж али ишо што, то за это мы по головке не погладим. Понятно? Значит, завтрева в восемь утра на площади Революции, бывшей Соборной, штоб все вы, выстроившись, стояли. Ну, покаместь.
Рабочий идет к дверям, директор семенит за ним, двери захлопываются. Тишина. И снова одинокий голос с «Камчатки»:
– И наших николашкиных саженцев из класса прибрать.
Звонок объявляет перемену. Ученики вывалили в коридор. Взяв картуз, формы больше никто не носит, Семен уходит домой. Урок отца Нафанаила был последним не только в этот день, но и вообще. Попов, видимо, прибирать к рукам стали как первых.
На другой день, ранним утром, выстроенные по четыре, стояли реалисты, пестрея красными флагами перед главным входом училища. Директор, по-прежнему растерянный, бледный и жалкий, бегал туда и сюда, пока не подошел к нему тот рабочий из Городской Думы, теперь Совета.
– А ты, гражданин Тютькин, боле тут зря не рыси. Мы теперь и без тебя всему ладу дадим.
Лицо директора кривится жалкой, беспомощной улыбкой, согнувшись, отходит он в сторону, неуверенно мнется у входа и исчезает.
Рядом с Семеном стоит Виталий Коростин. Валерий где-то впереди, Ювеналий на левом фланге. Наклонившись к соседу, шепчет Виталий доверительно:
– Слыхал, как тот вчера сказал: «жертвов старого режиму» хоронить будут, а кто они – да семеро солдат, из тех, которые позавчера винный склад разбили и там перепились. Бочки раскрошили, водку на пол вылили, посуду побили. А те семеро так надрались, что в чаны со спиртом свалились и в них потонули. Утопли! Вот они теперь и жертвы старого прижиму!
Но подана уже команда. Стройно, широким пехотным шагом пошли первые ряды, сбиваясь с ноги, двинулась середина, побежали следом левофланговые. Бывшая Соборная, теперь площадь Революции, полна народу. Весь Камышин вышел поглядеть на невиданное зрелище. Вот они уже плывут над головами, вынырнув из-за угла, красные досщатые гробы. Сначала нестройно, разлилось по площади всё громче и громче:
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беспредельной к народи.
Семен недоуменно оглядывается: причем тут жертва и любовь к народу? Появившийся сзади Юшка подмигивает ему и поет громче всех:
Вы пьяными пали в сортир головой...
Товарищи толкают его в бок:
– Гляди ты, влипнешь!
– Такие, как я, не влипают!
На еще с вечера сколоченную трибуну выходит кто-то в красной рубашке с расстегнутым воротом и солдатских брюках в обмотках. Нет границ удивления! Семен узнает матроса, что у дружка его баталера два года тому назад топор унес! Жаль, что отсюда не так хорошо слышно, но смысл ясен:
– ...и ишо раз – кто не с нами, тот против нас!.. империалистическая бойня... в свои руки взяли... не выпустим... с горя, которые выпили, потому жизнь при царе собачья... без буржуев... Долой капиталистов и контрибуцию!..
Взмахнув над головой кумачевыми рукавами рубахи, оратор запевает:
Вставай, проклятьем заклёменный...
Юшка вторит:
Вставай, проклятый, заклеймённый, -
но, к счастью, слышат это лишь друзья.
А толпа поет. Всё громче и громче, увереннее и решительнее. Захваченные общим порывом, поют все без исключения, смотрят в высокое ясное небо, отчетливо произнося красивые слова. Такие лица бывают у Пасхальной заутрени! Совершенно то же самое, такая же вера и надежда в глазах, такая же готовность идти за тем, к чему зовут слова нового, совсем нового текста. И такое же напряженное ожидание либо внезапного счастья, либо великого чуда.
Кончилось пение. Будто скрытый вздох пронесся по замолчавшей толпе.
Но вот всё приходит в движение. Медленно плывут на вытянутых руках гробы, звучит похоронный марш. Сколько раз, похоронив старое, предав его проклятию, устремлялись люди за новыми кумирами? И сколько раз оплевывали они их снова сами же?
Реалистов поворачивают и ведут к казармам. Толпа остановилась возле газетного киоска. Что там случилось? Кто это на крыше киоска машет огромным красным флагом? Толпа замирает в ожидании. А махавший флагом вдруг бросает его на землю, кричит что-то сверху в народ, и быстро три раза кувыркается через голову. И, как появился, так же неожиданно исчезает. В толпе засмеялись. Милицейские пробуют протолкаться к месту происшествия, но нарушитель скрылся. Да кто же это такой? Сосед-реалист наклоняется к Семену:
– Видал ты Юшку, вот удрал номер!
– А что он крикнул?
– Чем наши хуже ваших!
Но вот снова все двинулись, снова митинг, теперь уже во дворе пехотных казарм. Опять ораторы слишком далеко, чтобы хоть что-либо разобрать можно было. Сначала выскакивает какой-то прапорщик с огромным красным бантом на груди и тускло поблескивающим георгиевским крестом. После прапорщика выходит солдат, большой, нескладный, из запасных, потом старый знакомец в красной рубахе.
И снова:
С Интернационалом воспрянет род людской.
Но устал Семен, одноклассники все исчезли, а он стоит да стоит. Вот выходит на трибуну целая толпа кудлатых, с красным флагом, в красных рубахах, в жилетках, – рабочие, что-ли? Ничего подобного никогда раньше он не видел. Неужели же это действительно те, кто своими руками построил эти церкви, пароходы, город этот, баржи, железную дорогу... худые, с изможденными, испитыми лицами, морщинистые, грязно-черные, с большими жилистыми руками. В каких условиях жили эти люди, чтобы так выглядеть? Почему он этого раньше никогда не замечал?
Меж рядами пробегают какие-то дяди с красными повязками на рукавах и сообщают, что в пять часов вечера митинг в реальном училище. А теперь – по домам. Идти домой все же не хочется, так все интересно, что на улицах творится. И никогда прежде невиданные лица, и разговоры, и пение, и музыка, и целые компании с гармошками, полупьяные, орущие и ругающиеся так, что услышь это бабушка, наверное, целую ночь простояла бы на коленях перед иконами. А вот и базар. И чего только не навалено на лотках! Остановившись на обочине тротуара, замечает Семен какого-то парня, босого, худого и грязного, только в рубахе без пояса и разорванных пониже колен портках. Озираясь воровски, испуганно пробирается он к ближайшему лотку с лежащей на нем целой кучей свежеиспеченных хлебов. Тут народу уже не так и много, хорошо видно, как сначала нерешительно, а потом вдруг быстро подскакивает он к лотку, схватывает один хлеб, тут же жадно откусывает от него целую горбушку, жует, озирается вокруг себя и, пригнувшись, бежит прямо на Семена. Стоявшая за лотком торговка кричит нечеловеческим голосом:
– Кар-р-раул! Во-ор! Дя-аржи яво! Хлеб спё-о-ор!
Виляя, как змея, меж прохожими, бежит парень к бесконечным проломанным и полусгнившим заборам. Теперь уже совсем ясно видно бледное, испитое лицо и лихорадочно горящие глаза.
И снова дикий вой торговки:
– Дя-р-ржи во-р-ра!
Первым бросается на парня какой-то мастеровой. Стоящий неподалеку от Семена, видно, извозчик, бросает бегущему под ноги палку, сшибает она его на землю, падает он лицом на булыжник мостовой и выпускает из рук надкусанный хлеб. Весь базар приходит в движение. На упавшего кидаются совершенно случайные прохожие, целой кучей валятся на него, почти у самых ног Семена, видны лишь его черные ступни. Слышно сопение, удары, стон, что-то хряснуло, кто-то коротко взвыл. Стоящая поблизости баба рвет платок с головы и кричит:
– Бож-жа м-мой! Человека убивают!
Слышен топот подкованных сапог. Два милиционера, полиции больше нет, подбегают к бесформенной куче и, хватая то одного, то другого за шиворот и за полы, разбрасывают преследователей, и вдруг сами отступают от того, что лежит на земле. Толпа стеной надвигается ближе. Голова парня совершенно разбита. Вместо нее лежит на булыжниках бесформенное месиво из крови, жутко белеющих костей и раздавленных сапогами мозгов. Правая рука так выкручена, что ясно: сломали. Рубаха разорвана в клочья и вдавлена в грудь. Семену становится дурно, хочет он шагнуть, шатается, и упал бы, ежели бы не поддержал его кто-то сердобольный:
– Пойдем отсель, парень. Эк, брат, народец наш, а? Ить убили человека!
Споткнувшись о надкусанный хлеб, все еще лежащий на мостовой, поворачиваются они уходить, и видят, как плакавшая навзрыд торговка вдруг схватывает с лотка хлеб, один, другой, третий, бросает их в толпу и кричит, заливаясь слезами:
– Убивцы проклятаи! Жритя, жритя, сволочи!
Какие-то бабы схватывают ее за руки, один из милицейских, одернув гимнастерку, решительно шагает к лотку. Медленно, не глядя друг на друга, молча начинает народ расходиться. Отведя Семена подальше, жмет ему спутник его руку повыше локтя и пытается улыбнуться:
– А таперь иди, иди домой, малец. Всё я видал, счастье твое, что и тебя не подмяли. Господи, Иисусе Христе, вот те и свобода. Дождались, можно сказать...
И вдруг будто его ошпарило:
– А пузатого энтого, пузатого, видал, ай нет? Энтот, што на трибуне, как ветряк, руками крутил? Знаешь ты, кто он есть? Не знаешь! Ну, так знай: в тринадцатом году в Николаевке целую семью в семь человек вырезал. Младшему три годочка было. Всем, как есть, глотки сапожным ножом перерезал. В Сибирь его, на каторгу, осудили. А теперь возвернулся он, в Совете ихнем сидит. Говорить, што при царском режиме за народ пострадал. Мученик.
Мимо них проносится простоволосая, босая, что-то кричащая баба. За ней, один за другим, бегут трое детишек и последней выворачивается из-за угла старуха. Семенов спутник узнает ее:
– Эй, бабушка, бабушка Анфиса, случилось што?
Старуха бросает на него лишь короткий взгляд выцветших, заплаканных глаз и останавливается:
– Пр-роклятаи! В-в-ваню, Ваню нашего в землю затолокли.
– Какого Ваню?
И вдруг хватает Семена за обе руки:
– Ваньку! Бож-же мой! Да знаю я, знаю яво, чихотошный он, на краю города они в землянке живут. Бедность одна, Господи! – и вдруг, со всей силой бросив шапку о землю, Семену: – Да иди, иди ты, заради Бога, домой!
Наскоро пообедав, рассказав дома всё виденное и слышанное, отправляется он на митинг в реальное училище. Ученики уже давно в сборе. Репетиционный зал битком набит публикой из города. Никого из этих людей никогда в жизни он не видел, большинство таких, как те рабочие, певшие в казармах, почему-то масса солдат, без поясов, с расстегнутыми рубашками, промелькнул у сцены и Иван Прокофьевич, украшенный огромным красным бантом, прошла за ним и Марья Моревна, в первом ряду сидит баталер, а вот он, тот, в красной рубахе, идет прямо на Семена и, узнав его, останавливается, как вкопанный:
– Тю-ю! Глянь на яво! Старый друг лучше новых двух! А учитель твой наш парень, только далеко ему до его бабы, вот то жох-бабец! Ну, я нажму, делов полный рот, пришел наш час, таперь натешимся.
Раздвигая толпу локтями, уходит и он за сцену, зала наполняется до отказа, а Семен, по старой привычке, забирается в раздевалку. Теперь там ничего не висит, опасно: так унесут, что за моё почтение. У большого окна стоит старый Федотыч, бывший швейцар.
– А-а-а! Молодому господину Пономареву наше почтение. Не охота в середку, а? И не ходи. И у меня враз всю охотку отбило... слыхал ты, директора нашего, господина Тютькина, с должности убрали. Ноне после митинга тот матрос, из городского Совета, пришел, всё, как есть, в столах перерыл, а он, директор, стоит рядом и, веришь ли, трусится. Перерыл матрос тот всё, печать школьную в руках покрутил, кинул на пол, да как заорет:
– Понаписывали, сволоча, абы чаво. Ну, мы теперь дело вовсе по-иному повернем. Слышь ты, Тютька, а ну-ка сбирай!
Нагнулся директор бумажки по полу раскиданные сбирать, а я и подскочи, помочь ему хотел. Как матрос тот мине сапогом в зад дасть, как пихнет, да как заорет снова:
– Уходи ты, холуйская душа, а то я тебя даже очень просто в расход пущу. Да упомни: я теперь заместо Тютьки твово директором! – обернулся к директору да ему: – Уметай с глаз моих, штоб я тебя не видал, а то покажу я тибе Кузькину мать!
И смылся господин Тютькин задним ходом. Што ж он, старый человек, делать теперь будет? А? Как ты думаешь? Ведь нет же таких правов, штобы матросы директоров разгоняли. А? Иде ж это видано?
Зал взрывается громом аплодисментов, криками «ура» и пением «Интернационала». Швейцар косится на коридор и шепчет:
– А я так считаю, как пословица наша говорила: дурак красному рад. Вот што. Ишь ты – матрос, а директором помыкает.
Швейцар уходит. Семен видит, как, выбравшись из последних дверей зала, исчезают все три Коростина в направлении черного хода. Не пойти ли и ему туда же? На середине коридора преграждает ему дорогу один из его одноклассников, сын мелкого чиновника Петя. Оглядывается, не видит ли их кто, и быстро шепчет:
– Умётывай домой, до тебя добираются!
По черному ходу выходит Семен на берег Волги. Тихо здесь, хорошо, только совсем уже темно, а не пойти ли домой? Огромный плац перед училищем пуст. Вот она и кирпичная стена кладбищенской ограды, знакомый провал, только перешагнуть, а там – саженей сто меж завалившимися склепами и растоптанными могилами, и улица...
Удар в затылок валит его на землю. Сознание теряет он моментально. Какие-то тени подхватывают падающего, суют его в отверстие провалившегося склепа, крепко подталкивают в спину и падает он на кирпичный пол рядом с давно сгнившим гробом на вывалившиеся из него кости. Осторожно возвращаются трое нападавших к ограде, первый шагает в провал стены, и падает, как подкошенный, от меткого удара в висок. Ничего не заметив, появляется второй, и сбивает его с ног кто-то, метко орудующий колом. Лишь в последнюю минуту, заметив что-то неладное, пытается третий убежать, но пойман за ноги, его выволакивают в поле и начинается избиение. Бьют по голове, бьют ногами в бока, в живот, рёбра, до тех пор, пока избиваемый не показывает больше никаких признаков жизни. Трое братьев Коростиных бегут к склепам, переходят от одного к другому, ищут и, наконец, находят:
– Ага! Тут он должен быть.
Осторожно, придерживаемый братьями, спускается Ювеналий вниз, нащупывает лежащего без сознания Семена, приподнимает его вверх, сверху подхватывает его за голову Валерий, берется, стараясь схватить под мышки, Виталий, осторожно, с трудом выволакивают все трое тяжелую для них ношу и несут через все кладбище по совершенно пустым улицам к подъезду его дома. На стук выходит заспанная Мотька:
– Боже ж мий, панночку, що цэ з вамы сталося? Притащившие своего товарища братья Коростины давно уже исчезли в пустых, безлюдных улицах. Город не спит, притаилась жизнь за плотно закрытыми ставнями, выходить ночью из домов никто теперь не решается. Только в городском парке слышны гармошка и пьяное пение – это гуляют солдаты и матросы:
– «И-эх, а хто дорог, а хто ми-ил...». Товаришши! Товар ищщи! Товар тащи-и!
Две недели провалялся Семен в кровати. Каждый день ходил доктор-австриец, слава Богу, сказал, что «аллее гут, каине гехирн ершюттерунг» – «никакой сотрясений на мозг», и, когда вышел в первый раз Семен к завтраку, отец заговорил с ним таким тоном, будто ничего страшного и не случилось:
– Видал, сынок, правильно наш дедушка говорил: заживет всё на казаке, как на кобеле!
И зашел к ним как-то поздним вечером Анатолий Анемподистович Коростин, сотник Астраханского казачьего войска в отставке, и рассказал всё о случившемся. Самый молодой сын его Ювеналий – Юшка, тот, что на демонстрации кувыркался с красным флагом, случайно подслушал, как договаривались Семеновы одноклассники, те самые, что уже нападали на них в овраге Беленьком, избить его на кладбище. И решили братья Коростины действовать сообща, ничего никому не сказав, надеясь тогда, что из драки ничего не выйдет. Да припоздали немного, но дали нападавшим по первое число, у всех трех все зубы повыбивали, двоим руки, а одному рёбра поломали. На всю жизнь запомнят!
– Так я полагаю, – сказал, уходя, старик Коростин, – время теперь такое подошло, либо они нас, либо мы их. Стесняться нам не приходится...
* * *
Этот плоский бугор, скрывающий долину речки Ольховки, кажется, никогда не кончится. Бесконечно вьется по нему подсохшая, побитая солонцами дорога, и конца и края ей не видно. А тут еще и лошади так медленно бредут, что тоска забирает, да неужели же нельзя их немного кнутиком подбодрить?
Отец сидит рядом с Матвеем, слушает нескончаемый рассказ о том, что на хуторах делается, и мучит его мысль: да правильно ли они сделали, уехав так рано из Камышина? Тут, видно, дела совсем кривоносые. Клиновцы открыто предъявляют претензии на их земли, уже протестовали они против отбирания гарцев, скотину свою выгоняют на попас на барские луга и собираются вообще и мельницу отобрать, говорят, что теперь всё это народное...
Но вот он, гребень бугра. Будто невидимым жезлом раздвинулась завеса и открылись вдруг потонувший в садах и вербовых зарослях хутор Разуваев и пригревшаяся в теплых вечерних лучах, серебрящаяся меж чаканом и кугой Ольховка, и маячат вдали их родные хутора. Вон они – крыши их дома, мельницы, флигеля, амбаров, прячущихся в зарослях ракит и акаций. Сами тронули рысью и побежали повеселевшие кони. Встает Семен в тарантасе: да неужели снова он дома? Д-о-м-а. На хуторе. А кто же, кто там вышел на луговую дорогу? Да, конечно же, бабушка это. Встречать идет, одна, маленькая такая, тоненькая, немного сгорбившаяся. И легко поспевает за медленным ее шагом старый, верный, добрый Буян...
Странно ведет себя Микита-мельник. Говорит, да не всё, хитрит, скажет слово-другое и, видно, прислушивается, присматривается, из всего, что видит и слышит, делает какие-то особые, собственные выводы. Чуть не каждый день приходит он теперь в дом, усаживается за вечерний чай с панами вместе, пьет его, жмурясь от удовольствия, прямо с блюдца, сокрушенно мотает головой и повторяет одно и то же:
– С-сукыны сыны, мошенныки, нэгодяи... Ось одын клиновец говорыв, що зроблять воны тэпэр тэ, шо пьятого году зробыты хотилы. Побьем, каже, панив, позабэрэм в ных усю, як есть, землю, а лыбо з хатив их повыкыдаем. Хай йдуть робыты так, як мы цилого вику робымо. Ось чього воны хочуть, с-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи!
Бабушка молча вяжет платок, мама зябко кутается в теплую шаль, хоть на дворе и середина лета, отец отмалчивается, либо только совсем коротко задает вопросы о лугах, о мельнице, но слов мельника никак не комментирует.
– С-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи...
Бабушка подбирает упавший на пол клубок и уходит в свою комнату, мать вспоминает, что у нее на кухне дело есть, и тоже исчезает. Поднимается и Семен, убегает с Буяном в лес. Отец остается единственной жертвой Микиты. Деваться ему некуда. Мельник допивает четвертую чашку чая, получает пятую, наливает чай на блюдце, закусывает меж зубами кусок сахара и тянет с присвистом и хлюпаньем:
– С-сукыны сыны, мошенныкы, нэгодяи. А отой Пэтро з Ольховки, отой, що його в прошлому годи корова околила, знаетэ вы його, пшеныци вин у вас до нового урожаю пьять пудив узяв, так той говорыв, шо усэ тэ, що на паньськых полях у цьому роци р?дыться, забэрэ народ соби. А забэруть и всэ тэ, що в садах будэ. И скот позабырають, тики на кожну семью по одний корови зоставлять, та пару конив, та плуг, та борону. А мэлныцю народ у свои рукы забэрэ, сами молоть будуть. Ось як воны, с-сукыны сыны, мошенныкы, мэрзавци. Ага, вже, мабуть, пиздно, пишов я спаты. Та що я сказаты хотив: боюсь я тэпэр гарци одбыраты, бо клиновцы говорять мэни, що як я и дали гарци ти одбыраты буду, то пустять воны вам красного питуха, так, як у пьятому годи пускалы, с-сукыны сыны, мэрзавци, нэгодяи. Ни-ни, панэ есаулу, Сэргий Алэксийович, царя нам надо, царя. Так я говорю, чи ни?
Никакого ответа не получив, поднимается Микита и, шаркая огромными сапогами, предварительно истово перекрестившись на иконы, прощается и уходит через кухню. Отец долго сидит один, катает хлебные шарики и молчит, куря одну за другой задымившие всю столовую папиросы. Мотька быстро наводит порядок на столе и смотрит на хозяина.
– Панэ, а, панэ! Та Сэргий Алэксийовычу! Чуетэ ж вы тэ, що я вам скажу. Мыкыта той сам сукын сын, подлэць и мэрзавэць, як и уси ти клиновцы и ольховцы. А до вас вин тикы чэрэз тэ ходэ, щоб дизнатыся, що вы думаетэ, щоб писля клиновцям та ольховцям пэрэказаты. Знаю я його, прохвоста...
* * *
Вечером пришел хуторской атаман и с ним два старика. Все ушли в гостиную, лучше так, тогда не видят помольцы, кто у них за столом сидит. Подали гостям чай и закуску, выпили они и, как это и полагается, ни о чем серьезном не говорили, пока с едой не покончили. Отодвинув от себя тарелку, проведя широкой ладонью по столу, так, будто с крошками вместе стер он с него и все свои сомнения, тяжело вздохнув и лишь бросив короткий взгляд на отца, первым заговорил атаман:
– Обратно взбунтовалась Расея. Ить, скажитя же вы за-ради Бога, как тольки зачалась она, так и пошли по ей бунты. Скольки стоить на свете, стольки и народ у ей бунтуить. Видать, в привычку вошло. И скольки разов народ не бунтовал, завсягды яму цари морду в кровь разбивали. А таперь, гля, народ царю свому морду разбил, а того и гляди, што таперь друг дружке бить зачнут. Иная таперь линия получается. Вот и поряшили мы, вашесокблародие, до вас дойтить и с вами потолковать на тот случай, ежели завирюха какая зачнется, то как вы есть офицер наш, то вы нам и команду подавать будитя. И братца вашего, Андрей Ликсевича, несмотря, што горе у няво, таперь нам горевать некогда, того и гляди, што ишо горшая бяда зайдеть, так вот, братца вашего, войсковогу старшину, взбулгачить надо. Штоб нам, как в песне поется, ня спать, ня дрямать, а свою службу соблюдать. А потому я всё это говорю, што наслухались мы помаленькю того, што клиновцы с ольховцами гуторють. И одна у них у всех мысля: вперед ваши, а потом и наши земли к рукам прибрать, под сибе загрести. Вон пастухи ихние уже два раза скотину свою на наши поля пущали. Подпаскам нашим сопатки понабивали, да спасибо двое наших служивых в отпуску было, подсядлали они коней, добегли до лугив, а как увидали хохлы, што казаки конные скачуть, так враз, будто хмылом, их взяло. Хотели мы тогда весь скот ихний за потраву на хутор на наш пригнать, да посумлявались. Боятся они нас, казаков, большая у них опаска, да долго ли? Ить ежели што всурьез зачнется, хучь и крепкая ухватка наша, да ить их-то разов в десять боле, чем нас. Што вы на это скажете?
Отец мнется, крутит ус, и ясно видно, что ничего путного он атаману ответить не может. Мама, бросив короткий взгляд на молчащего мужа, вдруг вскакивает и выходит. Это, видимо, подействовало. Откашлявшись, отвечает отец атаману:
– Завтра съезжу я к Андрею. С ним к Петру Ивановичу пройдем. Слыхал я, будто он вчера из Черкасска вернулся. А после всего сверну я к вам, на Разуваев, вот тогда всё, как полагается, и порешим.
Атаман, видимо, доволен:
– Правильная ваша слова. Тольки дюже тормозить не следуить. А што мужики, што хохлы, все они заодно. Они у нас, ежели што, и нательные хрясты пооборвуть.
Атаман и старики встают и прощаются. Мама провожает их до моста. Отец остался у стола. Крутит и катает хлебные шарики. Да что это с ним, никогда он таким не был?
* * *
За всю жизнь тетки Анны Петровны не было у нее в курене такого переполоха, как сегодня. Шутка ли сказать: Андрей, Сергей, Петро, атаман хуторской и только что пришедший отдохнуть после ранения вахмистр Илясов, все они соберутся у нее этак к часам четырем.
Первыми приехала бабушки со снохой и внуком, потом подошли пешочком Андрей с Сергеем, а немного погодя и дядя Петро на дрожках прибыл. И только распрег, вот тебе и атаман с вахтмистром Плясовым. Поручкались все, и честь-честью, чтобы время зря не терять, за чайный стол сели, женщины на одном краю, а мужчины, все вместе, на другом краю собрались, у них разговор особый, сегодня мешать им нечего, не бабьего ума это дело в мужчинские разговоры влипать. Так решила тетка, и поэтому линию свою повела четко, сразу же ошарашив бабушку известием, что самая лучшая теткина наседка, та, что с хохолком, ну, разве в этом году не подвела: взяла, да всего только трех и вывела. Бабушка в ужасе всплеснула руками, да слыханное ли это дело, страсти какие, ох, не к добру это! И горестно поглядела на всех.
Андрей, изменился он, поседел здорово, согнулся, сухой стал, Господи прости, не хуже чем Симеон-столпник, а брови так на глаза нависли, что и разглядеть нельзя, какого они цвета у него стали, совсем, как у Буяна, выцвели. Петро Иванович, тому ничего не делается, как был сроду толстым, таким и остался. Ему всё впрок. А и Сергей что-то вроде как бы сдал. Сидеть за столом сидит, говорить, вроде, говорит, да всё так, будто и не с нами он в комнате, всё какие-то собственные свои думки думает, брови хмурит, невпопад иной раз отвечает. Сказать, чтобы от старости это было, так нет, вовсе он не старый, сорок годочков, иные казаки в таком возрасте только в самый сок входят. А он, поди ж ты, не иначе это у него, как от мыслей в голове. Да и Наталья вон, Наталья, прежде веселая такая, милая да разговорчивая, а глянь на нее – осунулась, в лице вроде побелела, сказать что, вроде и в порядке скажет, но, видно, думка на сердце. Женская. Господи, уж не по семейным ли делам, что у них с Сергеем?
Вахмистр Илясов пришел в полной форме, свои четыре Георгия нацепил. И при шашке. Палаш отстегнул он в прихожей, а сам по хутору так шел, будто генералу какому рапорт отдавать. Глядели на него через плетни казачки и глубоко вздыхали. Ить подвезло же Дуньке его, поранило мужа ейного легко, пришел он к ней, как огурчик, целый, и попользуется она теперь им, сколько душеньке ее угодно. А наши-то, иде они? Когда свидеться придется, когда к милому дружку под бок подвалиться смогут? Эх, жизня ты, бабья, одна колгота да горе.
– Что ж, расскажи, служивый, как оно там, в Питере? – попросил Андрей вахмистра.
Отставив выпитую чашку подальше, чинно поблагодарив хозяйку и заверив ее, что сыт по завязку, с достоинством, подчеркнуто вежливо отвечает вахмистр войсковому старшине:
– В Питере, вашевысокоблагородие, такого наглядеться пришлось, что по-перьвах и глазам своим верить я не хотел. И до того всё мне там обрыдло, што до ноне я хожу, будто в середке у мине всё, как есть, поперевернулось...
Быстро войдя в роль рассказчика, вахмистр говорит охотно и образно, но так же неумолчно толкуют меж собой и бабушка с теткой Анной, мужскими интересами никак не озаботясь.
– Да, поперевернулось всё в середке у мине. А всяму тому делу генерал Хабалов виной. Яму бы гарнизон Петроградский заране растрясти, поразогнать энту солдатню из Питера. Ить там тыщь с полтораста, а то и боле понасобирали. Запасных. Мужиков из деревни, остервенелых, злобных, таких, што им только дай порвать...
Вахмистр заикается, смотрит смущенно на женскую сторону, но, увидав, что там никто его не слушает, снизив голос, продолжает:
– Вот запасные эти всю роль и разыграли. Им одно: долой войну, землю давай, бей буржуев. А всё дело в том, что, как Дума правительству образовала, враз же и откель-то и Солдатский Совет обьявилси, и, как они, Дума та и тот Совет, не договаривались, так ни до чего и не договорились. И остались – Дума себе, а Совет – себе. Только и всяво общево у них, што Керенский тот в думском Правительстве министром юстиции сел, а в Солдатском Совете он заместителем председателя. Либо всем угодить хотел, либо по приказу Совета в Думе шпиеном поставлен. И тут вышел тот знаменитый приказ номер первый, штобы солдаты на фронте комитеты выбирали, штобы они только те Советы-Комитеты слухали, а офицеров не признавали. Враз же заместо Николая Николаевича, верховного главного командующего, генерала Алексеева посадили, а посля его, немного тому времени, генерала Брусилова назначили. И до того дошли, што энтого адвоката, штрюцкого, Керенского, военным министром назначили. Слухал я яво, как он к народу говорить. Ну и ухорез! Не иначе как те, што на ярмарках представлять народу разные киятры умеють. И знай одно у няво: слобода, ривалюция, риакция, инпериализьма, а как увидить, што вроде делом густо, а он: выньтя мою серцу и положьте на алтарь революции. И после тех слов со всех копылов в онборок падаить. Ей-богу! И ляжить, не ворухается. А круг яво народ с ума сходить, какие «ура» оруть, какие дикалоном в яво брызгають, в чувствию приводють, а он как вскочить, да обратно же: «Гражданы, зараз я готовый под расстрел иттить за тую за революцию, штоб против реакциев и контрреволюциев». А сам – как смерть, бледный и волосья на ём сторчмя, как на утопленнике, стоять. Все в ладошки яму бьють, а бабы, так энти вовсе с ума сходють: ах, душка Керенский, ох!
Так, одного разу, стоим мы, казаки, слухаем яво, а урядник Письменсков, ух, да знаитя вы яво, с хутора Гурова он, курень жестью крытый, в зеленую краску крашенный, так вот Письменсков тот слухал-слухал, да и говорить:
– Показываеть он нам представлению, глаза нам отводить. Дым пущаить. Штоб не видали мы и не слыхали ентого Ленина, што таперь с балкону дворца Кшесинской тоже речи говорить зачал. Вот кого всем им послухать надо. Тот не тольки буржуям, всяей Расее и самому Керенскому гробы стругаить. Тут не в онборок падать надо, а одну нашу дивизию в Питер привезть, штоб порядок она навяла. И што ж – как в воду тот Письменсков глядел: покаместь Керенский тот всех уговаривал, а кличуть яво теперь не главный командующий, а главноуговаривающий, те ленинские большевики в Петрограде восстанию подняли. Спасибо, там два наших полка да одна батарея стояли, за один день всю ту сволочь поразгоняли и сам Ленин ихний заграницу сбег. А посля всяво тот же Керенский на похоронах наших казаков, двадцать шесть душ казаков наших там головы, в том большавицком восстании, положили, обратно такую речь хватил, што опешили мы: нету в мире таких гяроев, как казаки. Вот они, шумить, настояшшии патривоты, вот они – спасители отечества. А тому два дня не прошло, пошли арестовывать большавицкого главного командующаво Троцкого, а там, на квартере, он же, сам Керенский, стоить, и арестовывать того прохвоста, тем восстанием командовавшего, не позволяить. Зачесали тут наши казаки затылки: «Да за что же мы, братцы, головы наши зазря подставляем? Айда, братцы, на Дон! Будя ее, Россию, от русских спасать!».








