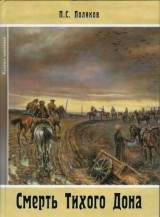
Текст книги "Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях"
Автор книги: Павел Поляков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц)
Вот на одном из таких чтений и решилась судьба Семена. Был тогда в доме у бабушки какой-то проезжий священник, который после доброго ужина поучал ребятишек тому, что все православные христиане должны довольствоваться теми крохами, что падают к ним со стола Господня. Поерзал Семен на стуле и спросил:
– А как же это так? Вот мои дедушка и бабушка, и папа с мамой любят меня не хуже, чем Бог, людей, а кормят не крошками, а всем, чем только захочу.
Крякнул дедушка от удовольствия, долго что-то туманное и нудное толковал в ответ Семену заезжий, а на другой день, за утренним чаем, пристально глянул дед на внука и сказал сыну Сергею:
– Нет, Серега, с тех пор как Семен твой по зайцу плакал, стал я к нему получше приглядываться. Не быть ему такими, как мы были. Слыхал ты, что он вчера упорол? Он, брат, своей головой думать хочет. Из таких хороших офицеров не бывает. Ты как хочешь, а я так думаю, что в гимназию его отдавать придется. Довольно все мы мундиры потаскали. Пусть хоть он что другое делать научится.
Призвали на совет бабушку и маму, расспросили дядю Андрея о том, как там, в Питере, насчет университетов разных и порешили: пусть пока идет малец в церковно-приходское училище на хуторе Разуваеве, а потом повезут его в Камышин, на Волгу, да отдадут в реальное училище, или, как дедушка особенно хотел бы, – в гимназию.
Остался дедушка разговором доволен:
– Во, внучек, приедешь потом на хутор и начнешь с кобелем твоим с Буяном по-латыни объясняться. Того он учености твоей удивляться будет!
По нужному делу останавливается Карий, седоков не спрашивая. Окончит всё, от природы положенное, мотнет хвостом, оглянется, тряхнет головой и гривой, и снова, без понукания, потянет тарантас дальше. Луговая дорожка состоит из двух колей, глубоко проторенных колесами, с прибитой меж ними лошадиными копытами стежкой, по краям обросшей высокой щеткой зеленой травы. Густо, буйно заросли луга по бокам дороги, сочно зеленеют, уходя к речке, а за ней, оставив за собой прибрежные камыши и кугу, стелятся далеко-далеко, под самые бугры, искулиженные солонцами и супесками, полыни Польши, спокон веков непаханные.
– Эй ты, живей!
Только так, для порядка, прикрикивает дедушка на Карего, хлопает его по бокам вожжами и машет высоко над крупом длинным ременным кнутом. Карему ясно, что и дальше может он спокойно идти шагом, как явно и дедушке, что кучерские обязанности свои он исполнил и может говорить и дальше, вернее, вслух думать стариковскую свою думу.
– Так, так... значит, говоришь, в школу с тобой едем, а?
Дедушка замолкает, продолжая жевать давно сорванную травинку, совершенно не заботясь о том, что думает и почему молчит его внук. Семену не нравится то, что будет он там жить «на хлебах» у дальней его тетки Анны Петровны, имеющей там небольшой домик с садом и огородом, что приезжать за ним будут только по субботам и домой забирать только на один день, на воскресенье, что целыми днями бегать с Жако, любимым фокстерьером, уже ему не придется, что мельников сын Мишка, с которым они так хорошо сдружились и открыли так много мест, где так здорово клюют плотва и красноперка, и даже сазаны, будет теперь без него рыбалить, что на всю зиму расстроились их встречи в лесу возле дуплистого вяза, где глубоко под листьями прячут они махорку, бумагу и спички, и где по два раза в день собирались они на общий перекур. Ясно ему теперь, что не будут они больше по разу в неделю обходить все места, где несутся куры, набирать два-три десятка яиц и, потаясь, нести их лесом в хутор Разуваев, к Новичку, единственному не казаку, недавно открывшему там свою лавочку и дававшему ребятам махорку за те яйца. Хорошо понимал Новичок, откуда у ребят меновой товар, понимали и ребята, что важен для него торговый оборот, а не какие-либо иные соображения, и свято хранили обе стороны ту тайну. А ведь тоже наука: обходить катухи, базы и курятники и брать яйца, с таким расчетом, чтобы не засомневалась бабушка, почему это куры в конце недели меньше нестись стали. Ясно, что прекратились теперь и игры в казаков-разбойников, в индейцев, что вечерние посещения помольной хаты будут возможны лишь по субботам. А там всегда так интересно, особенно когда приезжает на мельницу с хутора Гурова старый казак, дед-Долдон и рассказывает свои невероятные истории, нравящиеся не только Семену, но помольцам. Не будет он теперь иной раз обедать у мельника Микиты, украинца, три года тому назад пришедшего к ним подряжаться, как говорил дедушка – только с кнутом, а теперь забогатевшего, и от работы, как мельник, и от доходов от взятой им в аренду от его отца земли. Мельничиха готовит такой вкусный борщ, жарит такие пирожки и печет пышки, что домашняя кухня кажется ему вовсе уже не такой хорошей. Не забираться уж теперь с Мишкой в помольную хату на мешок с пшеницей или рожью, или на столярный верстак, и слушать разговоры и рассказы помольцев, привезших зерно с казачьих хуторов или из хохлацкой слободы Ольховки, или из мужичьего села Клиновки. Многих из них знает он по именам, ко многим уже привык, со многими сдружился, но никто из них так ему не нравится как совершенно седой, всегда аккуратно подтянутый и быстрый в движениях и говоре дед-Долдон. Упаси Бог, назвать его дедом-Долдоном. Плохо бы это кончилось для того, кто бы на это отважился. Панкрат Степанович, – так надо к нему обращаться. Так его в глаза и называют, но за страшную говорливость, бесконечные рассказы, шутки и прибаутки за глаза называют Долдоном. Кончилось неоценимое счастье, учиться надо, к тетке Анне Петровне ехать должен, жить у нее, а тут еще, как сказал дядя Воля, и обязательно грызть гранит наук.
И лишиться тех чудесных минут, когда вечерами, улегшись, наконец, в кровать, ожидал он прихода мамы для того, чтобы перекрестить его на сон грядущий. Так хорошо шуршит тогда ее платье от движения благословляющей руки и так бесконечно дороги ему слова ее и улыбка, и близко, совсем близко, прямо в зрачки глядящие ее синие глаза. Как тепло тогда ему становилось, каким счастливым засыпал он после ее поцелуя. Ясно теперь – засыпать будет он не счастливо улыбаясь, а может статься – плача, ясно – что-то обрывается, кончается и, может быть, никогда больше не вернется. И никак, никакими силами не остановить Карего, положившего барьер своими опытами меж его райски счастливым, так быстро окончившимся детством, и жизнью новой, начинающейся, кажется, такой обыкновенной вещью, как учение в школе...
Семен не то вздыхает, не то стонет, и встречает внимательный взгляд деда:
– Что, внучек, а большой-то охотки, вижу я, нету у тебя в школу ехать. Только, чудак ты человек, пойми – рукой тут подать до дому, и горевать тебе никак не след. А учиться давно тебе пора пришла. И сам, поди, видишь, как время летит. Давно ли щук с тобой ловили, давно ли ты с тьмой твоей египетской отличился, ан, глядь, осень вот она, вот. Ничего теперь не попишешь, учиться тебе надо, как ни крути. А про эту самую «тьму египетскую» давно я тебе кое-что сказать собирался. Бабушку твою здорово ты тогда в сомнение ввел. Крепко верила она проходимцам этим, и на этой на ее вере и всю свою, и нашу жизнь строила. И не только жизнь земную, но и чаемую загробную, вечную. Ан, глядь – святые-то ее люди прохвостами, обманатами оказались, и всё то, об чём они ей мололи, теперь у нее под вопросом оказалось. И вот по этой причине, говорю я тебе – не дюже ты тянись за всяким, кто больно уж забористо что-нибудь показывает или за верой своей тебя потянуть захочет. Помни меня, попомни мое слово – сроду, пока живешь, семь раз мерь, а потом только режь. Вот оно бабушке-то нашей и тяжело стало – всю жизнь верила, а тут – неустойка у нее вышла. Сколько я ей раз говорил: «Да как же ты гвозди от гроба Господня покупала, когда у него и гроба-то вовсе не было, в плащанице его похоронили». Ну, а когда попались мне под руку те монашки, что пуховых подушек не поделили, отвел я тогда на них душу, ох, и перепорол же. А за что порол, за жадность, за то, что корыстью живут, обманом кормятся, добрые, прямые, чистые души в сомнение вводят. А таких, что душу человеческую убивают, вон как в Евангелии говорится, следует с жерновом на шее в воду кидать, да... – дедушка на минуту замолкает, машет кнутом над крупом Карего и снова обращается к внуку: – Служил я, понимаешь ли ты, в Питере. Пришлось мне там в Пулковской обсерватории побывать. И глянул я в энтот самый телескоп ихний. Вот как заглянул я в бездну эту, так и уробел. Как увидал я, сколько их, звезд этих, и какой он, мир наш, огромный, понял я одно – никаким умом нашим не дойти до того, что оно и как сотворилось и откуда всё взялось. А мы здесь сказки да выдумки слушаем, да еще за них пуховыми подушками платим. Пришлось мне в царстве Польском послужить, на Кавказе, на Балканах и в Турции побывать. И у всех у них, у тамошних, у каждого народишки, вот такие же, как и у нас, под их собственную стать «тьмы египетские» попридуманы. И там такие сидят, которые от выдумок этих пользу имеют. Вон у турок, так там хоть одна из выдумок народу на пользу идет – свинину им Коран ихний есть запрещает. Говорят, что пророк и Аллах делать им этого не свелел. Выходит так, что бог ихний против свиней пошел. А когда на проверку, что оказывается – да хворь у них там от свиного мяса получается, вот и придумали, что бог ихний свиней не взлюбил... Так-то, внучек. Норови и ты в жизни ко всему получше приглядываться, Богом дюже не раскидывайся, а понять старайся, что оно и к чему. Поимей ты то, что бабушка наша «искрой Божией» в душе человеческой называет. Чувство это такое, от неизвестного нам Бога данное. Учит оно нас, сдерживает, правильный путь указывает, как и что из того, что в мире этом есть, без ошибки понимать надо, никаких тебе выверток не позволяет, вкупе с совестью твоей действует и содержит тебя в человеческом виде во всех житейских случаях и искушениях... а там – кто он был, да каким он был, да как его звали – это слушать-то слушай, но не дюже старайся из-за каждой мелочи в огонь кидаться. Вон, как наши многие по сей день бороду свою чуть ли не святостью считают... Ну порядки наши народные казачьи, обряды все, как святыню блюди – их люди наши за сотни лет, кровавых лет, правилом своей жизни сделали, обвыклостью всего порядка нашего. И в церковь ходи, только воли попам над собой не давай, а то оглушат они тебя до невозможности. Бессовестных промеж ними много, за копейку на пузе лазят, а служат не Богу, а тем, кто их к нам на Дон посылает. Чужие они нам, для наблюдения за нами поставлены. В старое время у нас народ попов сам выбирал. Понял? Из тех казаков, что честно жизнь прожили, крепко за право свое и шашкой, и словом постоять умели, хорошими хозяевами и отцами семейств были, свет Божий в походах повидали, в войне и мире всё как есть, испытали и передумали. Вот таких, всё больше из изувеченных да израненных и выбирали казаки в попы. Ну, конечно же, грамоту знать был он должен. И не только церковные книги читать, но и иные, чтобы мог он из опыта житейского, мудрости, иными приобретенной, и сам добрый совет мирянам своим дать, добрым, разумным словом, как отец, наставить сумел бы. А у нас что делается – шлют нам из Москвы чиновников на кормление. Жадные они, а многие и справди изголодавшиеся. И все, как есть, только о нутре своем и думают, кадят, да ликом Божим, иконами – торгуют. А ты к иконам этим, Семен, тоже не дюже-то приглядывайся. Кто знает, как Он-то выглядел на самом деле. Не в картинках, нет, а в тебе самом должен Он жить и направлять тебя так, так оно всего лучше. Так-то, внучек... да, о вере, о попах, о народах разных много сказать можно. Еще одно упомни – сплела нас вера наша православная с народом русским еще от Азова. Большой народ, способный, а всю, как есть, жизнь свою, в отличие от нас казаков, в рабстве прожил. Освободили его, верно – освободили, еще лет сто надо, чтобы забыла она крепостное право. Вот и сидит у мужиков этих в душе незжитая злоба и обида, как та рана кровоточащая, и, помня всё это, сохранили они дух бунтарско-холуйский. И как дух этот теперь вытравить, тут здорово мозгами раскинуть нужно. И что будет, если попадет мужику нашему вожжа под хвост – куда он попрет? А было это в старые времена на Руси, крестьянин, мужик, как мы его, вроде трошки с презрением, называем, к земле был привязан, «крепок» ею был. Этим он и державе, государству своему служил, на той земле работая. Помещик же того времени – воевал. Вот они, вместе, и сохраняли сначала княжество, а потом царство Московское. Даже вон сам Петр-царь дубинкой своей не только мужичков, а и дворян одинаково потчевал. Со всех спрос был одинаковый, пока, при Петре Третьем, не вышел закон о вольности дворянской. Стал теперь дворянин паном без обязанностей, а мужик полной его собственностью, рабом безответным. Вон при матушке-то царице Екатерине мужиков иначе как рабами не называли. Это в христианской-то стране, почитай, в середине восемнадцатого столетия... Но всё еще верили мужики в Царя справедливого, ждали, что, коли освободил царь дворян от обязанностей их, то и им, мужикам, волю и землю даст. И верили что царь – за мужиков, что всё дело дворяне лишь ради пользы своей портят. Почему они так и поверили, что Пугачев-то и есть этот самый справедливый царь. И пошли за ним всем миром. Не с тех ли пор и песенка:
Эх, ты воля, моя воля,
Золотая ты моя,
Воля – сокол поднебесный,
Воля – светлая заря.
Дедушка надолго замолкает, жует травинку, следит за полетом ласточек, вздыхает и говорит дальше:
– И теперь вот, в школе, гляди ты с первых же шагов вокруг себя повнимательней, слушая всё, что тебе говорят, что учи, а что и из простого разговора запоминай, да потом о всём со мной али с отцом говори. Вот тогда и будешь правильно жизни учиться, как ее мастерить надо. А кроме школы, отведу я тебя к дружку моему, уряднику Гавриле Софронычу. Сад у него большой, что тебе груш, что яблок, что слив, не оберешься. Видимо-невидимо у него всякого добра родится. Служили мы с ним вместе когда-то давно, а мой отец с его отцом служил, вот она у нас, понимаешь ты, не только дружба, а казачий жизненный союз получился. И у него внучек есть, с ним вместе ты в школу ходить будешь. Сашей его звать. Тебе он, кто Божьи пути знает, али ты ему, еще как в жизни пригодиться можете. У нас, казаков, сроду это, спокон веков заведено, друг на дружку надеяться, один-одного выручать. Казак казаку завсегда брат. Понял, ай нет?
Слушает Семен дедушку, слушает внимательно уже потому, что крепко его любит, Слушает он, и легче ему становится, и оба они не замечают, что давно остановился Карий и спокойно пасется на особенно понравившейся ему кулижке.
– Во, видал? Глянь на него – Карий-то наш, ведь тот обманат и жулик. Мы с тобой заговорились, а он что? Дай, думает, воспользуюсь, да и закушу. А что же мы, спрашивается, для его, Карего, удовольствия едем, или по делам? Ах-х ты, нехристь!
Дед замахивается кнутом с таким видом, что должен он, от его удара в куски, Карий, разлететься. Но лишь скользит румень кнута по его боку, дергает он от неожиданности головой и хвостом, переступает с одной ноги на другую, укоризненно оглядывается на деда и, вздохнув, налегает снова на хомут, тянет тарантас дальше.
– Во! Так-то оно, дело, лучше будет! А то я с тебе, очень даже просто, шкуру спущу, бездельник ты, дармоед! – дедушка выплевывает перекушенную соломинку: – Видал? Вот и Карий твой, на что уже лучше любого человека, а и тот обдурить норовит... да, так-то, внучек, помни одно – носи Бога в сердце, Бога, в которого ты веруешь, не знаешь Его, но знаешь, что должен Он быть обязательно, и что явится Он тебе лишь тогда, когда покинешь ты земные ливады навечно, и лишь там, где-то далеко, поймешь и узнаешь Его окончательно.
Хоть и точно знала тетка Анна Петровна, что дедушка с Семеном приедут к ней сегодня, хоть и было это раз с двадцать переговорено, удивленный ее крик, восторженное хлопанье в ладоши и смех, веселый и звонкий, быстрое появление на крыльце, и немедленное же исчезновение в курене, всё было неподдельной радостью при виде, наконец-то, приехавших долгожданных гостей. Откуда-то выбежавшая крепкая девка ухватила, распрягла и увела Карего в конюшню, привезенные подарки были немедленно же перенесены в курень, самовар вынесен и поставлен у крыльца на землю, и та же расторопная девка уже раздувала его каким-то старым сапогом. Дедушка, тетка и Семен уселись на балконе в ожидании чая. Со времени отъезда с хутора едва ли прошел час, но уж такой обычай – угостить приехавших полагается по-настоящему. Поди, с дороги-то проголодались. На стол подается всё, чем теткино хозяйство богато, выносится и совершенно высохший, с невероятно твердой коркой лимон. Дедушка доволен, знает тетка, что любит он побаловаться лимончиком. Семену тетка нравится, но первое, что хотелось бы ему – это сейчас же, с места, удрать от стола, перемахнуть через забори, помчаться во весь дух задами по-над речкой, пока не принесут его ноги в родительский дом.
Но ничего из этого желания не получается. После чаепития и осмотра будущей его комнаты заявляет дедушка тете, что отправится он теперь с внуком наведаться к односуму Гаврилу Софронычу.
Народа на улицах хутора не видно. День рабочий, заняты все делами хозяйственными. Только в самом конце хутора, уже у калитки последнего куреня, вон он, сам Гавриил Софроныч, старый, но всё еще прямо держащийся, слегка щурящий глаза румяный гигант. Дедушка весело протягивает ему руку:
– Здорово, односум!
– Здравия желаем! – расцветая улыбкой, отвечает хозяин. – Милости прошу пожаловать с внучком вашим. Заходитя.
Откуда-то из глубины сада выходит и хозяйка дома. В курень дедушка идти не хочет, больно уж в саду хорошо, соглашаются с ним и хозяева, что на вольном воздухе куда способней. За чаепитием, которое немедленно же начинается под высокими вишнями, хозяин орудует и полубутылочкой очищенной. К ней подаются куски тарани. Дедушка и хозяин пьют водку истово, закусывают рыбой, и постепенно завязывается такой душевный разговор, будто вовсе не сидят они где-то в гостях, а в собственном курене, и, того и гляди, выйдет из сада мама или бабушка и тоже подсядут к столу. Радушные хозяева подробно узнают от дедушки о здоровьи всех его чад и домочадцев, о том, что, наконец-то, отелилась та корова, которую купили они у Сидора Петровича, казака с хутора Киреева, знатного, что на левую ногу припадает. Что жеребца, которого так хорошо в прошлом году приторговал дедушка на ярмарке в Ольховке, продал он одному купцу в Камышин, и с пользой продал, что слыхали они вчера от одного помольца, хохла из Ольховки, что у дальнего их родственника, Александра Ивановича, того, что его Обер-Носом величают, свинья пороситься начала, да околела. Что у вдовы-майорши, Марьванны, две наседки пропадало и убивалась она за ними страсть как, всё думала, что хори подушили, когда позавчера глядь – идут они обе от речки из лесочка, того лесочка, возле которого в позапрошлом году телок в трясине завяз и чуть не утонул, спасибо, стряпуха купаться пошла, да увидала, да так вот из того лесочка идут они, наседки, и каждая, одна шесть, а другая восемь штук, цыплят за собой ведут. Ведь вот оказия-то какая, поди ж ты, животные, вроде, а тоже мысли свои имеют.
Дедушка подмигивает:
– Не иначе это как от майоршиного пения, не каждый выдержит.
– Никак не иначе! – Гаврил Софроныч прекрасно знает, что, хоть и старушка она Божья, майорша, но всем взяла: что походкой, что дородностью, что хозяйской ухваткой, что приветом и лаской, но есть у нее одна беда – иной раз петь любит, а ни голосу, ни слуху. Вот и неудивительно выходит, что и наседки от нее со двора бегут...
От хозяина куреня узнают дедушка и внук, что сад его в этом году, Богу слава, уродил хорошо – всего завались. Тут же получает Семен наливное яблоко, и сам, в который раз, с удивлением видит сквозь прозрачную кожицу глубоко внутри его легкие тени семечек.
– Такуя яблоко, – гордо говорит хозяин, – хучь к царскому столу... гм... кх-ха, – и вдруг обрывает сказанное.
– Что это ты, вроде поперхнулся? – дедушка хитро щурится, прекрасно знает, он, что дружок его и бывший сослуживец по атаманскому полку, с детства, от деда и прадеда, не только о царях, о самой России и знать не хочет...
– А вы, вашсокблагородие, Алексей Иваныч, не дюже вспрашивайтя. Тут не захочешь, да заикнесси. Сами не хуже мине знаитя, от отца вашего покойника, от деда вашего, царство яму небесная, сами слыхали, как они, цари ети, с нами, казаками, обходились. За что, спросю я вас, Платов-атаман, Наполеонов побядитель, в Петропавловскуя крепость посажен был? За что Грузинова полковника с братом в Черкасске кнутами до смерти забили? Как он, Стяпан Тимофеич, на Красной площади в Москве под палаческим топором Богу душу отдавал? И как вы яво не называйтя, а за народнуя он правду шел, Емельян Пугачев. А о Булавине уж и гутарить не станем – посля няво окончательно попал Дон наш в Московскую неволю. И што посля всего того началось – да придавили нас до отказу, штоб нас поделить, сословия у нас взяли, дворянев из казаков понаделали, да, кромя того, на генеральном размежевании, отхватили с миллион десятин земли казачьей да и прирезали ее к Расее. Вот теперь и сидим мы с вами на самой на границе Войска нашего, ить граничные-то столбы раньше тут, у нас, не стояли, а во-о-он иде, аж за Камышином... а войсковых атаманов, спросю я вас, могём мы теперь выбирать, ай нет? Не могём! И не только, што не могём, а даже наказных атаманов нам запрещено из казаков посылать. Все из каких-то российских дворянев, то Покотилы, то Граббе, черти кто. А ить вольный мы народ допреж того были, сами по сабе жили. Так ан нет – говори!
Гаврил Софроныч и не замечает, что, разгорячившись, перешел он «на ты», не замечает того и улыбающийся дедушка, только всполошившаяся хозяйка вдруг вскакивает со стула, схватывает со стола водку и, чуть не плача, причитает:
– И всё ето от её, от проклятой. Сроду он у мине такой – ни к кому ни почтения, ни уважения. Хучь бы посовестилси с господином полковником так говорить, рыла твоя неумытая!
– Стой, стой, – дедушка придерживает водку в руке казачки, – станови-ка ты ее назад. Хоть он, Гаврил твой, и перебрал чудок, я еще до точки не дошел. А с ним мы односумы, каждое лыко в строку не ставим.
Гаврил Софронович чувствует себя крайне неудобно. Действительно перебрал трошки:
– Так я чаво-ж, к слову ета, боле б истории, про жизню про нашу, – и вдруг снова разгорается, – а вот повяду я вас обоих на выгон, покажу старый столб граничный, што думаитя на ём написано, а?
Вскочив от стола и не глянув, идут ли за ним его гости, чуть не бежит через сад хозяин с едва поспевающими за ним дедушкой и Семеном. Далеко идти не приходиться. За базами, за канавой, вырытой меж садом и выгоном, в выемке, в которой берут теперь хуторцы глину для хозяйственных надобностей, лежит большой замшелый, длинный камень, служивший когда-то пограничным столбом. Все спускаются в яму и по указанию Гаврила Софроныча с трудом читает Семен глубоко высеченные в темном граните слова:
– «Земля Войска Донского».
– Ага! Понял? Так и упомни – была она, наша граница казачья державная. Да пришел ихний мужичий царь Петро, да перебил тыщи казаков, да пожег городки наши, да отнял и солеварни, и земли, да заставил нас, казаков, Рассее ихней служить. А ить были мы до ниво сами по сабе. Вот и приволок он аж ис-под Камышина суды, к нам, столбы эти. Вот он и дедушка твой, в больших он чинах, в дворянском звании, а нехай он тебе тоже правду расскажить, нехай скажить – бряшу я ай нет.
Семен вопросительно смотрит на деда, тот, нисколько не смутившись, спокойно выбирается из ямы:
– Знаешь, что, односум, пришлю я завтра работника с парой лошадей. Уложите вы столбок этот на телегу, да отвезите его в хутор Гуров, в церкву к отцу Савелию. Правильный он поп, наш, казачий. Ему я и письмецо напишу. Грех это – такая бесценная вещь у вас здесь по ямам валяется. Вот шумишь ты, а сам по ноне не догадался камень этот как след блюсти. И хуторскому атаману скажи, что я это свелел. А то, что ты внуку моему говоришь, за то тебе спасибо, придет время, подрастет он чудок, тогда я ему, без водочного духу, всё сам расскажу, думаю, не хуже твово. Понял ты ай нет?
Гаврил Софроныч понимает, что друг его, Алексей Михайлович, во всем прав и что вел он себя не совсем-то так, как полагается.
– Ну, спаси вас Христос, верно, перебрал я чудок... а ты, вашсокблагародия, хучь и дворянин, но сумел правильную слову сказать, с весом. Ты уж на мине не сярьчай.
– Нам с тобой друг на дружку серчать не приходится... Одни у нас думки, да силов нету.
Дедушка отряхивает чекмень и все отправляются к куреню. Под той же вишней сидят до позднего вечера, пьют домашнюю наливку, вспоминают Польшу и службу царскую, и нет в мире той силы, которая могла бы их сейчас разъединить.
– Ста-а-нов-ви-ись! Напр-раво р-равняйсь! Смирно!
И от дедушки, и от отца, и от своих двоюродных братьев давно знал Семен, как себя в строю держать надо; знал значение команд, и не раз, играя с казачатами в войну с турками, маршировали они, перестраивались, ходили в атаки, строили лавы, рассыпались в цепь, прятались от неприятельского огня, применяясь к местности. Старательно выравниваясь в строю, косит он правым глазом на грудь и носки чириков стоящего справа от него Митьки, которого знает он давно как лихого наездника, хорошого рыболова и пловца. Не раз приходил к нему Митька на хутор, и вместе с Мельниковым сыном Мишкой, с двоюродным братом Валей и двоюродными сестрами Мусей и Шурой, с присоединившимися к ним еще несколькими казачатами, убегали они в Рассыпную Балку, объедались там ежевикой, солодиком и купырями, и вооруженные луками и стрелами делились на два лагеря. Допоздна играли они тогда в войну, пока посланная за ними горничная-хохлушка Мотька не забирала всю их армию в плен и не загоняла ее домой, на ужин.
Старший урядник Африкан Гаврилович Алатырцев, Георгиевский кавалер, давно покончил со службой царь-отечеству. Но после того, как открылось в Разуваеве церковно-приходское училище, доверено ему было, по решению стариков, обучать казачат гимнастике и строю. Приходил он на занятия в полной форме, в мундире с погонами, при шашке и с плетью в руке. Через год после того как переступали казачата порог школы, можно было без страха показать их не только старикам хутора, но и кому повыше, на ученьи: «пеший – по-конному», на легкой джигитовке и на вольных движениях.
– Спра-ва по-три! Ш-шагом ма-марш!
Двадцать четыре казачонка, как один живой организм, ломают строй и в один момент перестраиваются по три в ряд и идут широким шагом мимо далеко в стороне стоящего урядника.
– Здо-рово, лих-хие Р-разуваевцы!
– Здр-равия ж-жалаем, господин урядник!
Дружно, воробьиными голосами, отвечают раскрасневшиеся от марша ребятишки, и чувствуют, что прошли они хорошо и что начальство ими довольно. Погоняв с полчаса свой взвод по лугу, задержавшись особенно на ружейных приемах, выстраивает их урядник в одну шеренгу и начинает обходить строй, зайдя с правого фланга:
– Т-та-так, Кумсков, всё у тибе вроде в порядке, тольки скажи ты отцу свому, штоб он табе получше чирики в школу давал. Ишь ты, кака они каши просють. В строю глядеть на тибе срамота. Понял?
– Так точно, господин урядник, в другой раз получше чирики вздеть!
Кумсков, он же Гришатка, курносый, белобрысый, с уже заботливо отрощенным чубом, краснеет, но держится храбро.
– То-то. Гляди у мине в другой раз. Урядник идет дальше:
– Ага! Казак Семен Пономарев. С прибытием в наш взвод проздравляю. Правильно дедушка твой с отцом поряшили суды тибе, к нам, прислать. Настоящий казак, всё одно офицерский он, аль простого казака сын, должон с из детства со своими хуторцами военную службу проходить. Пригодится это табе опосля, как деду твому и отцу пригодилось. В офицеры они вышли, могёть быть, будешь и ты в золотых погониках красоваться, одно крепко помни: нет у нас никакой разницы в людях, покель мы сапча орудуем. Што в полку, што в строю, да вопче на всяей службе военной, кажному из нас брат ты родный, а мы – твои браты. Понял, ай нет?
– Так точно, господин урядник, понял: все казаки браты меж собой.
– Ага! Ну хорошо. Только на перьвый раз скажу я тибе, што поворачиваисси ты в строю, как та тетка Аксинья, што с кухни в чугунке лапшу к столу несеть. Вострей делать надо.
Урядник идет дальше. Там, на левом фланге, стоит еще совсем малый ростом, сын бедного, многодетного казака Миша Ковалев, явившийся в школу с прорванным левым рукавом рубахи.
– Гля на яво! Ишо один такой орел, што думаить, бытто строй это всё одно, што бреднем рыбалить иттить. Гля – левый рукав пошти што во-взят оторвал. Ты ишо без штанов приди. Да знаешь ты ай нет, што строй есть святое место, што в строю должен ты сибе, как в церкве, понимать... Ежели завтрева в полном порядке не явисси, я и табе, и отцу твому на сборе штатинку вкрутю.
Урядник выходит на середину строя. Казачата, как это и полагается, едят глазами начальство, даже моргнуть не смея.
– Таперь стрялять будем. Вольно! Р-разойтись!
Строй мгновенно ломается. Два-три казачонка бегут в школу и через несколько минут приносят луки и стрелы. Деревянные ружья, точные копии кавалерийских казачьих винтовок, с которыми они маршировали, ставятся ими в козлы. В дальнем, нижнем, углу луга, на старой осине укрепляется хорошо нарисованная цель и переходят к упражнению в стрельбе.
– Это ничаво, што мы сычас с вами с луков стряляем. Подростётя, настояшшие винтовки получитя. Одно знайтя – глаз и руку набивать сыздетства надо. А ну-ка, Пономарев, спробуй.
Первая стрела летит мимо осины, вторая вовсе не долетает, третья остается торчать четверти две под целью, далеко ниже нарисованных на ней кругов.
– Та-а-ак! Так! Ты чаво-ж это, не в дьячки записаться думаишь? Ты суды не в лягушков камнями пулять пришел, а стрялять учиться. Х-ха! Из трех стрел – ни одной! Увидал бы тибе дед твой, срамоты б не обобрался. Ну, ничаво, слухай суды, рябяты, в цель стрялять с пониманием надо. Цель – вяликая вещь. На цель, – урядник поднимает голос, – на цель, на нее осярчать надо. Будто нет у тибе в жизни ничаво, окромя этой цели. Будто ненавидишь ты иё, как волка бешеного. Будто и домой ты ноне не вернесси, ежели в ету самуя цель не попадешь. Озлись ты на ниё до последняго – во, думай, вляплю я сычас в тибе, в самую, што ни на есть, середку, аж луг загудеть. Вот коли не взлюбишь ты ее, коли на свете забудешь, вот тогда и угодишь в самую сирцавину. Понял ты ай нет, што я табе гуторю?








