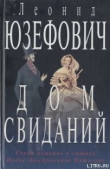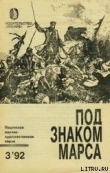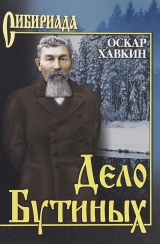
Текст книги "Дело Бутиных"
Автор книги: Оскар Хавкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Экспедиция продолжалась больше года.
Вот такую телеграмму получил в Петербурге старый Иван Андреевич Носков – близкий Бутину человек, партнер по торговым делам и единомышленник по взглядам, – ему, кстати, принадлежат любопытные и содержательные работы о чайной торговле и о кяхтинском купеческом быте, и еще надо сказать, что он немало поспособствовал успеху экспедиции своими петербургскими связями и горячими выступлениями в печати, – вот такую он получил весть: «Тяньцзинская экспедиция вернулась, путь удачный, – телеграфировал Бутин, – хлопочите дозволение свободной торговли, ввоза и вывоза товаров»...
Несколько строк, напечатанных в скором времени в петербургской, широко распространенной в деловых кругах газете «Биржевые ведомости»: «Экспедиция, посланная торговым домом братьев Бутиных для исследования прямого пути из Нерчинска в Тяньцзин, возвратилась благополучно. Путь удачный. Монголы и китайцы рады сближению с русскими. Надо желать разрешения этого пути, который представляет великое будущее для Восточной Сибири». Скорее всего, автор этой заметки – Иван Андреевич Носков. Возможно, он уже знал от Бутина о содержании журнальных записей Лосева.
Бутины не забыли известить о благополучном исходе экспедиции и ее результатах Михаила Семеновича Корсакова, – он олицетворял в их глазах преемственность и продолжение трудов Муравьева-Амурского. Быть может, вполне сознательно и даже убежденно Бутин преувеличивал заслуги генерал-губернатора, заверяя, что «история не забудет его имени».
Донесения Бутина властям об итогах поиска нового торгового пути полны верой в нужность для отечества и в особенности для Сибири этого начинания, убежденностью, что делается дело на благо двух соседствующих народов.
По просьбе Лосева, Вьюшкина и Дарочкина он не упомянул их в своем отчете. Были упомянуты фамилии других лиц, среди них философ и этнограф Павел Ровинский, деятельный участник похода.
Что касается тех троих, то по возвращении из экспедиции, щедро награжденные Бутиным, они нежданно рассчитались, а через день их уже не было в Нерчинске, и вообще они исчезли, будто растворились в океанских просторах Сибири...
24
Миллионные прибыли с приисков, от торговли и винокурения позволили Бутину, как было вскользь сказано, приобрести Николаевский железоделательный завод под Иркутском, устроенный казной в пятидесятых годах и за убыточностью проданный. Богатый иркутский промышленник и купец Алексей Трапезников, перекупивший было завод, вколотил в него целый миллион, а оживить не сумел, перепугался, что завод пожрет все средства, и, не дождавшись прибыли, обрадованный предложением Бутина, уступил ему Николаевский за половинную сумму.
Бутин послал на завод одного из самых даровитых и знающих работников и помощников – Оскара Александровича Дейхмана, – у того за плечами опыт Нерчинских рудников и Петровского железоделательного. Вернувшись через неделю в Нерчинск, Дейхман тут же был приглашен распорядителем дела на «мужской» завтрак вдвоем на «вышку» – в мезонин.
Бутин с беспокойством поглядывал на сильно сдавшего, полу-больного помощника, страдавшего сильными коликами в желудке и едва прикасавшегося к еде.
– Послушайте меня, дорогой Михаил Дмитриевич, – говорил Дейхман. – Я с этим ссыльным элементом почти всю жизнь прожил. Если эти несчастные, обозленные и бесправные люди будут копошиться на заводе, то вырабатываемый там чугун будет обходиться дороже золота. Трапезников не понимал необходимости перемен. Это заблуждение обошлось ему в полмиллиона. Рабы Древнего Рима, милый господин Бутин, были производительней наших кандальных Иванов и Еремеев.
Это – давнее больное место Дейхмана, известное Бутину.
Образованный и гуманный тюремщик сибирской ссылки и каторги с течением времени превратился в злейшего и непримиримого врага этой системы наказания и устрашения. «Издевательство над людьми, затаптывание личности, медленное убиение тела и духа загнанного человека, – как результат – глупейший и непроизводительный перевод средств и жалкое бесполезное перекапывание сибирской почвы» – таков был его приговор каторжной Сибири и той своей долгой службе, которую возненавидел.
– Что же вы имеете нам предложить, бесценный Оскар Александрович? – спросил Бутин, наливая Дейхману крошечную рюмку французского коньяка, единственно употребляемого Дейхманом горячительного напитка. – Ведь нам надобны тысячи, десятки тысяч пудов хорошего и скорого чугуна. Своего! Не с Урала же возить!
– Михаил Дмитриевич, сделайте то, что сделали на наших приисках. Замените каторжный труд трудом свободного человека. Чтобы народ не бежал, но оставался на заводе. И вы получите свой чугун в изобилии и в наилучшем виде.
Он оставил контору на Иннокентия Ивановича и Алексея Ильича Шумихина и вместе с Дейхманом и молодым, но дельным и понятливым Анатолием Большаковым засел на заводе. Через пяток дней они уже знали всех рабочих в лицо.
Поставив два табурета посреди заводской конторы, сели рядом и почти без передышки пропустили задень всех рабочих в коротком и ясном опросе.
– Орест Бянкин?
– Так точно.
– Один тут?
– Так точно, один.
– Семья есть?
– Нет, не завел.
– Поставим дом, двести рублей на обзаведение. Глянется? Есть кто на примете?
– Как не быть? Ежли так, то благодарствую.
– Ну тогда иди с Богом...
– Филипп Котков? Семейный?
– А как же, не парень... Жена, трое детишек...
– Где ж они?
– Да где ж им быть... В деревне...
– Вот тебе деньги, езжай за семьей. Пока едешь, дом оборудуем, а там с женой хозяйство наладишь...
– Да я мигом обернусь.
Рослый хмуроватый Бянкин и бородатый прокопченный Котков тут же передавали заводчанам, какую речь вели с ними приехавшие хозяева.
– А чего они на табуретах расселись? Аль стульев в конторе не хватает?
– Почему ж – стульев цельный ряд. А им вот табуреты по душе.
– Так и сидят без прислони с утра до вечера? Экая блажь!
– Не блажь. А чтоб попроще. Чтоб разговор короткий да в откровенности, не пужливый!
А те продолжали разговоры с одиночными ссыльными, с парнями, пришедшими на заработки со старообрядческого Чикоя, казачьего Бурульдуя, селенгинских урочищ, ордынских улусов, из деревень Доронино и Новодоронино, с лесных дач Хилка, с теми, кому вышел срок и которых можно вызволить до срока, – и уже разнесся слух по всей округе – от Ангары до Шилки – про чудеса на Николаевском заводе, с присущими русскому уму и характеру преувеличениями, – мало того, что, набирая семейных, строят для них дома, дают сто и более целковых на обустройство и обзаведение, – там для рабочих столовая с дешевыми обедами открыта, а еще больница построена, врачи, а не фершалы-костоломы, а сестра бутинского помощника, мужика стоящего, Елизавета Александровна Дейхман, не то полька, не то немка, не то наша, русская, детишек рабочих в группы собирает, занятия проводит...
Так быстро распространились вести не только о том, что делается, но и о том, что еще только собирались сделать Бутины на своих заводах и приисках... «Ага, – говорили неверующие и недоброжелатели, – тама тебе, дураку, начальник даст свой платок, чтобы высморкаться, а высморкаешься – тут тебе на золотом подносе угощеньице зуботычиной с мордоплюем – вкуснота».
А в купеческой среде свои неудовольствия по поводу перемен на Николаевском. Ущемленный в самолюбии Трапезников распространялся об опасных, противных религии и неугодных властям действиях на заводе, о вредном и недопустимом раскандаливании каторжных, занятых на тяжелых работах... Ни единая душа не знала, что, слетав на три дня в Иркутск на быстрейших своих лошадях, Бутин имел тайную аудиенцию у Корсакова на дому у генерал-губернатора. Тот принял Бутина милостиво и дружелюбно, поздравив с награждением Станиславом второй степени. Бутин «под орденок» испросил его согласие на новшества, вводимые на Николаевском.
«Вы у меня не были, я ничего не знаю, под вашу полную ответственность, – говорил Корсаков. И добавил: – Лучше так, чем бунты и волнения». А затем, в конце беседы: «В одном заверяю: мешать вам не буду, но смотрите не оступитесь, а о ходе дел докладывайте – лично мне...» Муравьевская закваска сказывалась, хотя муравьевской смелости не хватало.
Спустя несколько месяцев на Николаевском трудились не полторы тысячи замызганных, угрюмых людей, а три с половиной тысячи опрятно одетых и обутых, довольных своим положением рабочих. И никто не порывался удрать с завода. Немало потрачено времени и усилий, дабы подобрать дельных инженеров, опытных мастеров. Учинили серьезные переделки – поставили новые, большей выработки железоделательные печи, выстроили новую, просторную, хорошо оборудованную модельную, сделали, наконец, изрядные запасы дров и угля. А из удобств для рабочих не все, что хотели, сразу удалось – лишь лавки с недорогими припасами, да читальни с книгами и журналами, да еще клуб выстроили, правда, скорее для служащих, чем для рабочих, стеснявшихся мешаться с «чистой» публикой.
Через год Николаевский завод довел изготовление железа и железных изделий до двухсот десяти тысяч пудов, то есть более чем в тридцать раз увеличил производство. И железо бутинской марки не уступало качеством не только уральскому, но и шведскому покупному, а стоило много дешевле привозного.
25
Зензинов крепко сдал за последние два-три года. Смерть любимой племянницы, а затем обеих дочерей – сначала Лизы, следом Маши– окончательно надломили телесные и душевные силы старика. Безутешность этих утрат велика и мучительна.
Бутин не забывал помогать и поддерживать старого друга, но в силу непрактичности, неумения Михаила Андреевича и слабости духа его Надежды Ивановны он все время пребывал в нужде. Сыновья его, Миша и Коля, работавшие у Бутина, усердные, исполнительные, послушные, росли хворыми, слабыми, подобно ушедшим сестрам, и страх за их будущее терзал старика днем и ночью.
У Зензинова была застарелая, запущенная, словно въевшаяся во все тело простуда. Дышал он тяжело, с надсадным хрипом в легких, задыхался, глубоко закашливался, потому каждое слово давалось теперь с трудом. Мучила и ломота в пояснице, руках и ногах; разгибался и сгибался с болезненной медлительностью; передвигался, превозмогая сопротивление неподдающихся суставов, при помощи толстой суковатой палки, привезенной ему Егором Егоровичем Лебедевым, любимым зятем, мужем милой покойной Машеньки.
Михаил Андреевич все реже появлялся за столом у Бутиных, и нередко Капитолина Александровна посылала к ним домой пироги, блинцы, либо блюдо студня, а то и излюбленного стариком жареного ленка.
Но и будучи тяжелобольным, семидесятилетний Зензинов усердно трудился. Он тащился с самой рани к огромному, в четыре квадратных аршина сосновому столу, прибежищу его трудов и духа. Стол живописно завален стопами книг, исписанными крупным широким почерком листами бумаги, толстыми тетрадями дневников, разноцветными и разномерными минералами, гербариями, коробками с наколотыми под стеклом жуками и бабочками, банками с засушенными, но остро пахучими травами и кореньями, из которых по тибетским рецептам выделывал лекарства от всех болезней, кроме своих собственных. Не стол, а музей – сокровищница Забайкалья!
Сидящим за этим столом и застал его Бутин.
Бутин зашел, как обычно, невзначай. Быстрая, летучая походка, уже по ней угадывается стремительность, энергия, нетерпеливость. И вот в дверях – высокая, худощавая, крепкая, подтянутая фигура, – он и мальчишкой рос в длину, худобу, в жильность, – будто пришел мимоходом, по спопутности, а в руках неизменный пакетик, кладет его на выступ буфета слева от дверей.
– Тут кофе, Михаил Андреич, – чистосортный «мокко», ваш любимый. Ну и всякая мелочь: печенюшки и прочее. А еще милейшая Филикитаита носочки изволила связать из козьего пуха, они, заявила она, не только греют, но и лечат не хуже тибетских лекарств, так и скажите старому безбожнику... Это ее собственные слова... – Бутин усмехнулся в свою волнистую бородку.
– Ну, Михаил Дмитриевич, друг ты мой, ведь не послал с человеком, сам принес и сразу развеселил старика!
Зензинов мигом очистил место на столе, обеими руками разводя бумаги в стороны, и на освобожденном пространстве откуда-то появились глиняный кувшин и два высоких стакана.
– Не привозное бордосское, милостивый государь мой, не абрикотин или другая французская роскошь, – говорил он, простодушно улыбаясь всем лицом. – И не ваше убийственное изделие, не бор-щовское, хлебное зелье, с которого лошади в лежку, – это, друг мой, зензиновка! На травах настоенная самоделка, даурский бальзам... Извольте откушать! – хе-хе! – со старым безбожником!
И он снова кинул взгляд на Бутина – на его литую, стройную фигуру, на его узкую, чуть волнистую густую бородку, на его смуглое лицо, полное мысли и жизни, проявляющихся сквозь привычную сдержанность и невозмутимость.
И хмурые мысли, тяжкие воспоминания, болезненные стеснения в груди, ломота в ногах, – все немощи тела и тяготы жизни будто развеялись, отодвинулись.
Выпили травного бальзама-зензиновки. Бутин повел бородкой, подмигнул узкими глазами, – похвалил. Вот это квасок! Каждый раз, добавляя то смородиновый лист, то шиповник, то облепиху, го голубицу, то травку-чернобыльник, то горьковато-пряную шишечку хмеля, то несколько капель укропного масла, то ягоду-черемуху, – Зензинов, внося новый привкус в напиток, радовался как дитя, когда потчуемые «зензиновкой» гости, нахваливая питье и чуток как бы от весеннего духа трав хмелея, не могли определить состав даурского бальзама.
– Ну как, сударь мой? – с живостью спросил старик. – Угадали? С чего бы чуточная терпкость, а? То-то! Тут я маленько ранеток добавил, от них зимним яблоком, морозцем тянет, наподобие французского сидра, а не хуже, с сибирским прихватом! Ну рассказывайте, Михаил Дмитриевич, что в большом мире творится?
– Да вот, Михаил Андреич, пришел подивиться вместе с вами. Никаких за мною ученых трудов, не то что у вас, а диплом пришел.
– А ну покажете, покажете, – потирая тяжелые морщинистые руки, еще более оживился Зензинов. – Весьма любопытствую!
– Николай Дмитриевич перехватил, – несколько виновато сказал Бутин. – Родичам всем показать. А диплом как члену – сотруднику Императорского географического общества, вона титул выдали!
– Это вам, сударь, за китайскую экспедицию. Не пустой дворянский титул. Это за вклад в отечественную науку, извольте серьезно отнестись к сему диплому... И дело сделано и отчет ваш признан, и статья ваша произвела впечатление...
Он сцепил покривевшие подагрические, побывавшие в лютой стуже и ледяной воде пальцы, они ломко хрустнули.
– Когда вы, еще фирмы не было, роскошный самородный топаз государю преподнесли, и вам за такую... такую учтивость бриллиантовый перстень пожаловали, я, признаюсь, большого восторга не выказал. Награды, заслуженные не умом, не талантами, не трудом неустанным, не имеют ценности в моих глазах. Другое дело – дом вы пожертвовали для женского училища, да еще пять тысяч в придачу на обзаведение. Благодарнасть вам была от нерчинского общества и от духовенства. Нынешний диплом доставляет мне истинное удовлетворение, – он за труд, за риск, за государственность. Позвольте тост за нового члена Русского географического общества! Виват!
Они торжественно осушили стаканы, точно в них искристое шампанское.
– Теперь уж вы, Михаил Дмитриевич, – продолжал Зензинов, – не просто как делец-коммерсант в Америку поедете, а с ученым званием! Пяток бы лет скинуть, и я бы с вами секретарем, слугой – кем угодно! Ниагару ихнюю поглядеть!
– И мне бы лучшего спутника не надо! Помните, как браво по приискам колесили! И на шарабане, и в седле, и пешочком!
– Всю жизнь не сиделось мне на месте! Надежда Ивановна на меня так: рогов и копыт немае, а чистый гуран, все-то скачешь по хребтам да болотам! А я как доберусь до вершины Яблонги-Дабан, ныне Яблонового, – скалы щербатые, воздух колючий, от простора дух захватывает: вон там к северу озеро Арахлей, а там река Конда к Витиму идет, а там Ундугуны – два озерка, а там источник Кука, а на юге Шилка наша – ведь на самом перепутье-водоразделе стою... Будто в главной точке мира! Изъездился, батюшка, какая там Ниагара, мне б нынче до колодца во дворе добрести!
Бутин молчал: «даурский пастух» обманных утешений не терпел.
– Ужо и за себя теперь, и за меня ваши поездки! Дороги ваши удлиняются, усложняются. Сначала поближе, таежные, – по приискам, складам, конторам; после – городские – Чита, Иркутск, Благовещенск, Томск, дале – столичные – к Москве, Петербургу. Глянь – и до международных путей дошли – в Китай, в Америку!
То ли напиток легонький так старика забрал, глаза из-под неровных седых бровей блестят.
– Америка – страна энергичных, практических людей. К их нравам, обиходу, жизни повседневной присмотритесь – что перенять, а что, Бог с ними, пусть при них остается... А я дождусь вас, дождусь, дождусь...
Смуглые скулы дрогнули, резко очерченные ноздри чуть втянулись, затем раздулись, и Бутин шумно вдохнул воздух.
– Дядя Миша, дождитесь, а то рассержусь!
Зензинов невольно улыбнулся. «Дядя Миша» – это из далекого бутинского детства. «И сейчас нужен я ему».
– Да уж постараюсь, – сказал он вполне спокойно, овладев собой. И помолчав: – Вы ведь знаете, как все дорого мне, что полсотни лет копилось. Тут вся жизнь моя... – Он похуделой рукой обвел горы рукописей на столе и этажерках, ряды книг на полках, ящики с камнями, горшки и банки с кореньями и травками. – Не дайте трудам моим развеяться и сгинуть...
Бутин встал, обнял старика за плечи.
– Слово даю.
– А готовы ли вы к поездке? – переменил старик тему. – Все ли ладно на разработках, заводах с торговыми делами? Ведь надолго уедете...
– Идем ровно, без сбоя... Везде дело налажено, везде знающие, верные люди – управляющие, смотрители, доверенные – все народ надежный, дельный. И при деньгах мы, правда, в большие кредиты вошли... Вот только...
– А мы? Мы с Багашевым? – приосанился Зензинов. – Мы что – не сгодимся? Приглядим, милостивый государь, приглядим!
– Спасибо, Михаил Андреич... Мне было бы очень худо, ежели вы от меня отвернулись...
– Да вы что, сударь мой! Всю жизнь впрямую, а под конец вбок? Извольте объяснить старику, чем вызваны ваши подозрения!
– Михаил Андреич... – голос Бутина чуть дрогнул. – Поймите меня... Вам ведомо, что у наших женщин в дому сплошные хлопоты. Семейство большое, гости ежедневно, деловые приемы, а тут еще и спектакли и музыкальные вечера... Невестка моя – натура деятельная, серьезная, – и это вам известно! – раз общество доверило попечительство – душу вложи, а чтоб нерчинская прогимназия была в наилучшем виде: учителя устроены, дети ухожены, родители довольны! Она своих средств едва ль не половину тратит, да и я не жалею. То чаепитие для господ учителей, то подарок юбиляру-математику, то у добросовестнейшей гимназистки день рождения... У нее свои визитерши: с кем-то рукоделием, с кем-то шитьем поделиться, у той музыкальный талант, прослушать, а то целая толпа милочек – на репетицию... У Татьяны Дмитриевны свои хлопоты, она с Маурицем объявлена, осенью свадьба, может, в этом браке найдет счастие свое. У нее одно на уме: закупки, наряды, обставить свой угол, предстоящая поездка по Европе... А за садом смотрит, сад для нее, что для Маурица музыка, а для меня – наша фирма. Так кому дом-то вести? Вот так и получается...
– А что, милостивый государь, получается? – глухо сказал «даурский пастух», низко опустив тяжелую седую голову. Он уже догадывался, с какой главной новостью пришел к нему любезный сердцу его Бутин Михаил Дмитриевич, Миша, зять его любимый...
– Женюсь я, Михаил Андреич, – виновато сказал Бутин. – И дому нужна хозяйка, и мне семья...
– Кто ж жена будущая? – не подымая головы, спросил Зензинов, и будто прозвучало: «А как же жена прошлая? Разве кто заменит тебе нашу Сонюшку?» Зензинов медленно поднял косматую голову. – Или еще не выбрали?
– Марья Александровна... Должны знать ее...
– Как не знать. Из Шепетковских. Полковничья дочка. Собою девушка видная. Хотя из военных, отца разумею, а не свистунья!
Холодок все же пробежал меж ними. Провеял. Однако любовь к Бутину превозмогла и ревность, и боль, и горечь воспрянувшей памяти... Жизнь есть жизнь. Восемь лет прошло с той грустной поры, и восемь лет Михаил Дмитриевич один...
– Друг мой, – сказал старый Зензинов. – Я вам не помеха. Вот этой чашей помянем Софьюшку... Вот так... А этой восславим жену вашу Марию... Будьте счастливы, Михаил Дмитриевич!
26
Собираясь в Америку, Михаил Дмитриевич совершил объезд своей золотопромышленной и торговой «империи».
На посещение главных приисков, Николаевского железоделательного, двух винокуренных заводов, крупнейших складов и контор ушло более двух месяцев. Он любил эти деловые поездки, они помогали находить слабые места в обширном и разнообразном хозяйстве, выявляли работников как старательных, так и нерадивых, а еще – ощущение воздуха, пространства, запаха земли, деревьев, сопок и встречи с интересными людьми. Его сухощавое, костистое, тренированное тело не боялось дорожных встрясок, дощатых нар, неудобных ночевок, долгих перегонов меж Витимом и Зеей, меж Селенгой и Шилкой.
На Амурские прииски он отправлялся вместе с Михаилом Коузовым, механиком-самоучкой.
Три бутинских парохода – «Нерчуганин», «Соболь» и «Нерпа» – грузились с колес у Сретенской пристани товарами для Маломальского, Марьинского, Соловьевского, Нагорного, Золотинского и других разработок. В числе грузов были и две золотопромывальные машины, еще более благоустроенные Коузовым, которому не терпелось самолично собрать и пустить их в ход.
Коротконогий, лысоватый, с вечно взъерошенной бородой, Михаил Авксентьевич Коузов знал себе цену, к золотопромышленникам относился в лучшем случае как равный к равным. Он нагляделся на приисках – каково и каторжному рабочему, каково и такому же подневольному свободному, наемному люду: мастеровым, подмастерьям, рудокопцам, промывальщикам, рудоразборщикам. Видел, как били палками и забивали до смерти розгами за ничтожную вину, как целые семьи жили без хлеба многими днями, дети умирали с голоду, поскольку вольной продажи не было, а из казенных магазинов не выдавали, даже когда управляющие и смотрители просили помочь народу. Видел и обвалы из-за гнилых крепей, когда под толщей породы заживо гибли десятки рабочих. Нагляделся на тупость горных инженеров, обер-офицеров, горных кондукторов, унтершихтмейстеров, штейгеров, не желавших облегчить труд горнорабочих – к чему им механизмы, усовершенствования, когда есть кирка, лопата, а к ним даровые, подневольные руки!
С Бутиным Коузов сошелся, но не сразу, однако вскоре оценил предоставленную ему свободу действий, честную и щедрую оплату труда, а главное то, что Бутин вникал в замысел, интересовался техническим решением какой-нибудь новинки, а другой раз засучивал рукава и брался помогать ему как подмастерье.
Ездил он с Бутиным на Капитолинский, на Дмитриевский, на Михайловский, познакомился с Дейхманом, с Петром Илларионовичем, высмотрел порядки на Бутинских приисках, и постановка дела подкупила его.
Однажды, поняв, как радуется Бутин его новой технической находке, не удержался:
– Очень вам, господин Бутин, благодарен за понимание. Ведь я ради той мелкой железины в бессонницу впал, пока не дошел до мысли!
Ходил он чаще всего в промасленной одежде, руки были у него черные и жесткие. Не пил, не курил и все заработанные деньги посылал своему большому семейству в Петропавловск.
Всю дорогу от Сретенска, когда «Нерчуганин», попыхивая трубой и шумя колесом, сплывал по Ингоде и Шилке к Амуру, один только и был разговор у Коузова: его золотопромывальная машина и как сделать ее еще лучше, еще справнее. И он бегал на корму, где под брезентом были упрятаны бочки, ковши и все прочее – в сохранности ли, хорошо ли укрыты, не скатится ли с палубы...
Стоя рядом с Бутиным на носу, возле перил, где-то у Черной речки, когда пароход, миновав каменные «щеки», вышел на широкую быстрину, Коузов прорвался:
– Вообразите, господин Бутин, что вы уже в Америку плывете!
И страдальческие глаза выдали его: как бы он хотел с Бутиным в Америку, в золотую Калифорнию, поглядел да прощупал, он бы ихнюю технику-механику враз вызнал, може, и перенял бы, что гоже, а скорее бы померился с ними силенками!
А как Бутину Коузова взять? Ему самое время к промывке машины готовить, к сезону бы поспеть.
И Михаил Авксентьевич, глядя на заросшие сосной, черемухой и тальником берега, скалистые и пустынные, впадал в молчаливую грусть.
Когда проезжали мимо гористой ссыльно-каторжной Кары, где столько лет злодейски бесчинствовали Бурнашев и Разгильдеев, Коузов сплюнул в зеленую шилкинскую воду:
– Вот где наша бездушная техника-механика измывательства над человеком – тупость и глупость российская...
И, поймав сочувствие в узких блестящих глазах Бутина, продолжал:
– Вам не знаком Владимир Яковлевич Кокосов? Врач здешний? Нет? Ведь медико-хирургическую академию кончил, сын нищего сельского попишки, до учения и кочегаром по Каме ездил, и грузчиком горбатил на невских пристанях. Каторжные его сразу полюбили, они-то уж чуют, у кого сердце, а у кого железина в груди. Скольких избитых выходил, ночами, рыдая, у их койки просиживал. Он как раз только от сыпняка оправился, когда встретились. В эпидемию, выхаживая больных, сам заразился. Тыща человек тогда на Каре от смертной заразы на тот свет угодили! Вонючие каморы, лохмотья у людей на теле, босые, тощие, заедаемые вшами и клопами, голодные, а когда Кокосов полковнику Маркову заикнулся о том бедствии, тот пообещал его же, Кокосова, на
Сахалин спровадить... – Коузов даже зубами заскрипел, до того ожесточился. – То каторга, казенный завод, казенные чиновники, казенное отношение. А когда ваш брат купец или фабрикант таково поступает с народом?
Бутин промолчал. Он вспомнил милого друга Капараки, просвещенного золотопромышленника Буйвида, вдову-хищницу с Маломальского, куда они с механиком сейчас держат путь.
– Вы знаете, почему я не к Сабашниковым, а к вам пошел? – неожиданно спросил Коузов.
– А разве Сабашниковы вас приглашали? – озадаченно спросил Бутин.
– Не приглашали, а охотились. Как на кабана. Вот ведь тоже слава о них: просвещенные, культурные, с политическими в дружбе, концерты учиняют, благотворительностью блещут, в газетах о них хвалебные статьи...
– Что же в этом худого, Михаил Авксентьевич? Идут в ногу с веком, не разгильдеевские времена!
– В народе так говорят, господин Бутин: молвя правду, правду и чини, делай не ложью – все будет по-божью... А что у них, у Сабашниковых, деется на ихнем Новоалександровском прииске, – у меня свояк из Ульхуна, оттуда, из-под Акши. Они, ульхунские, все знают. Приисковые рабочие, чуть не сотня человек, в Читу за правдой отправились, до того их замордовали! Быком, упавшим в угольную яму, да скотской головой в червях народ кормили! Обещали людям по тридцать пять, а платили по десятке, хотя те свои три сажени пласта и торфу исправно делали. По контракту отдых два дня в месяц, а кто не вышел в тот день, с того два рубля штрафу. Ежли из сил выбился да в больницу пошел, того в арестантскую! Что выдадут рабочим из приискового магазина, то по грабительской цене. Вот так Ононская золотопромышленная компания братьев Сабашниковых идет в ногу с веком, дорогой господин Бутин! Концерты с музыкой! Чтобы я к таким упырям на услужение пошел! Вон как выходит: всяк крестится, да не всяк молится!
Ни одним словом не возразил ему Бутин. Неужели Сабашниковы не ведают, что творится у них на Новоалександровском? А все ли он знает о своих приисках?.. Все ли его управляющие относятся к народу так, как Петр Илларионович Михайлов? Все ли не ложью, а по-божью?
Они расстались в Маломальском, где Коузов приступил к сборке и установке машины. После ее наладки вторую машину надо ставить в Нагорном. А Бутин держал путь в Благовещенск и Приморье, куда продвинулась его торговля и где тоже открылись разработки...
– Ну, Михаил Дмитриевич, – прощаясь, сказал Коузов, – в это лето, как вернетесь, ждите от Маломальского пудов эдак десять золотишка! А мне оттуда, из-за океана, самоновейшие чертежи не забудьте!
– Не забуду, Михаил Авксентьевич! А вы... ежли где приметите какое безобразие – прямо к Николаю Дмитриевичу или Оскару Александровичу. Слышите?
– Слышу! – буркнул Коузов.
На обратном пути с Амура, минуя Нерчинск, Бутин заехал на свои Дарасунские прииски, а оттуда прямиком на железоделательный, потому как не давали ему покоя и во сне и наяву черная от угля бычья туша и коровья голова с кишащими в ней червями...
«Концерт с музыкой!»
Очень было обидно за братьев Сабашниковых...
27
Майским прохладным вечером сидел Михаил Дмитриевич Бутин в венской качалке у себя наверху и рассеянно оглядывал кабинет, который должен покинуть на длительное время... Книги в массивных дубовых шкафах, их уже накопилась не одна тысяча, часть у брата, часть у невестки, часть внизу в общей библиотеке... Медвежья и тигровая шкуры – подарки Афанасия, не забывающего своего друга из «рода Гантимуровых». Картины и гравюры на стенах, их здесь немного – внизу на стенах гостиных и столовой их поболе, – а тут те, навевающие воспоминания. Портрет Петра Первого, подарок Зензинова, – образ царя-преобразователя вызвал почтительно-боязливое внимание Джона Линча. А еще – величавые остроконечные формы и башни Реймского собора и веселый легкомысленный вид Елисейских полей – это поднесли брат и невестка, вернувшись из второй поездки в Европу...
Но размышлял Бутин не о трудах и днях российского императора и не о прекрасных ландшафтах Франции, но о практических начатых и незавершенных делах, оставляемых в Нерчинске. Конечно, в огромном его хозяйстве – от Байкала до Приморья – не все ладно, не за каждым управляющим и смотрителем уследишь, не каждого тут же схватишь за руку, а самовластие, возможность творить что хочешь над подчиненным тебе людом, да еще в глуши, в тайге, портит человека, тем более ежли он мелок, подвержен слабостям.
Что ж, Николай Дмитриевич приглядит. Не внове для него, отлучки распорядителя бывали и прежде: и в обе столицы, и в Томск, и в Иркутск, не говоря уж о челночных поездках по приискам и конторам от Енисея до Амура и обратно. Брат не любит поездок, сидит в своей комнате, читает своего Честерфильда или Теккерея, спустится на полчаса, а то на двадцать минут к Дейхману или Шилову, возьмет палку и свою таксу Черепашку, чтобы прогуляться по набережной Нерчи или забрести в лесочек у верхних улиц, а все знает, всегда в курсе, за всеми делами следит! И всегда рядом с ним разумная и болеющая за фирму жена. И хотя у нее и попечительство, и музыкально-драматическое общество, и благотворительность, а в торговые наши дела вникает. Здесь, в главной конторе, Дейхман, Шилов и Алексей Ильич Шумихин, – он в практических делах сменил Багашева в типографии, тот занят организацией газеты, – а в Чите усердный Василий Иванович Чижик, там и зоркий Иван Степанович Хаминов приглядит, а на вершине Дарасуна – молодчина и ловкач Шипачев, в Сретенске – наивернейший Федор Степанович Мещерин, сына которого, страдавшего припадками, Бутин возил на излечение к знаменитому Боткину в Петербург. Везде крепкие люди, надежные, дельные, работа с ними спорится, и рабочий народ они не обижают, тут у Бутиных строго.