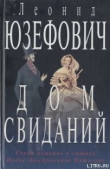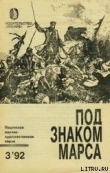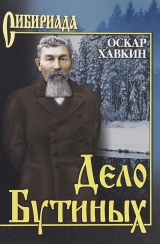
Текст книги "Дело Бутиных"
Автор книги: Оскар Хавкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Бутин, поднявшись, смотрит в увеличенные стеклами очков рассерженные глаза, в топырящиеся клочья бороды, в искаженное страданием лицо маленького человечка.
– Помилуй Бог, Иван Васильевич, что с вами... Садитесь, милостивый государь, успокойтесь да объяснитесь!
– Нет, не сяду. Там внизу коляска, я велел Яринскому запрячь, едемте со мной, вы сейчас сами увидите...
Они проехали всю Большую, свернули к Нерче, а там, неподалеку от реки, к не огражденному кривобокому домику, производившему впечатление покинутых всеми руин.
– Да это же бывший Петра Андреича дом, – сказал Бутин. – При нем усадьба целая стояла, с флигелями!
– То Петр Андреич, а то сынок с придурью! Все разорил! Поглядите, какая в ограде заваруха творится.
Дверь в дом на замке, а двор распахнут со всех сторон. От изгороди только со стороны улицы еле держался полузавалившийся плетень.
Сначала Бутин не мог понять, что за белые листки и клочья усеяли серо-бурую землю запущенного двора, и не только двора, но и бугорка за домом, за которым пологий скат к реке.
Багашев поднял припавший к ноге листочек и протянул Бутину. Бутин узнал крупный размашистый почерк Зензинова.
Позвав на помощь Яринского, они стали собирать развеянные ветром бумажные клочки, вывалянные в грязи, подмоченные снегом и дождем, покоробленные, пожелтевшие, в расплывшихся синих чернильных пятнах.
– Вон эдакую охапищу я унес к себе, – сказал Багашев. – Я тут вторично. Возможно, кто-то побывал здесь и до меня – задняя стенка чулана, на улицу, выломана. Племянничка-то дух простыл!
– Этому Бобылю голову бы прошибить, – сказал незлобивый Яринский. – Так надругаться над трудами дяди Миши!
А Бутин, собирая с грязной земли драгоценные листочки, в запоздалом раскаянии корил одного себя. Ну что взять с дурной головы Бобыля, если умные головы так провинились...
Дневники, письма, разные заметки, выписки, черновые наброски, непонятные отрывки – сидя в своей библиотеке, в течение нескольких дней вчитывался Бутин в эти неразборчивые черновики «для себя»...
В этих записях он чуть ли не через страницу встречал свою фамилию или, в теплом произношении, свое имя, – и это еще больше растравляло горечь утраты и голос совести... Вот Миша Бутин – ребенок, школьник, юноша, вот Михаил Дмитриевич – приказчик у Кандинского, вот начинает с братом дело, вот приходит к Зензинову за советом. Вот уже не «купеческий племянник», а купец первой гильдии, коммерции советник, у руля развивающегося дела, господин Бутин, удостоенный орденов, грамот, разных званий...
Разрозненные бумаги, сложные письмена, в которых слово втягивалось в слово или слова в скорописи разъединялись, и не признавались знаки препинания, ни точки, ни запятые, да еще обилие прописных букв как проявление восторженного в характере автора... Не сразу найдешь памятное, крупное, настолько важное, что и пояснений не надо:
«Михаил Дмитриевич принял на службу трех ссыльных каракозовцев, люди, по всему, бывалые, неразговорчивые и сильные духом».
Или: «Михаил Дмитриевич и Николай Дмитриевич вернулись с Петровского завода, поехали по моей мысли, и я бы с ними, так Надежда Ивановна прихворнула. Впечатления у братьев от петровских встреч глубокие, на года вперед...»
Или: «Принят Бутиным на службу Оскар Александрович Дейхман, что был приставлен к ссыльному поэту Михаилу Михайлову и уволен за послабления бедняге. Пострадал и брат поэта Петр Илларионович, горный инженер... Оба теперь у Бутиных и у обоих жалованье назначено двойное против прежнего казенного. Каково!»
«Отмечали втроем – у меня – я, Багашев и Михаил Дмитриевич, – день 14 декабря. Читали Пушкина, Одоевского, Федорова-Омулевского, Бальдауфа, Таскина, обо всех переговорили, более всего о Горбачевском, Бестужеве, Завалишине, о княгинях... Почтили память погребенных в нашей земле...»
«Решили с М.Д. начать сбор средств среди порядочных людей на памятник нашему Ивану Ивановичу Горбачевскому...»
Но местами были и фигуры укоризны, отеческого порицания или даже сурового осуждения:
«Смотритель Маломальского оказался человеком негодным, жестоким и развратным... Слухи доходили до нас... Таких не увещевать, таких плетями гнать от рабочего народа, от порядочного дела... Неуж Бутин не разобрался в этом проходимце Селезневе! Иль вовсе некого поставить?»
«Не забывать, что мы воины народа русского, как хорошо сказал когда-то Искандер в “Колоколе”»...
Книги Зензинова, что сохранились, поставлены особым рядом в бутинской библиотеке. Несколько дней по распоряжению Бутина верные люди собирали зензиновские бумаги на берегу Нерчи, позже находили даже в виде кульков в лавках Торговых рядов...
Не слишком ли много надежд возлагал на Бутина умный, добрый и наичестнейший «даурский пастух»!
35
В эти годы, с середины семидесятых, Бутин много строил. Покупал готовые строения, перекраивал их и строил заново.
Это работа для дела, но это работа и для души. В этом было что-то от искусства.
Он вспоминал слова Старцева, сына Николая Бестужева: «Вместе со зданием и душа тянется ввысь. Это угадано готикой. Камень поет. Ближе всех к божеству строитель! Значит, строя, делаем богоугодное дело!»
Бутина почти не видели в Нерчинске. Он неутомимо разъезжал по приискам: с Капитолийского на Нечаянный, с Нечаянного на Михайловский, с Михайловского на Маломальский... Объехал прииски, пора заглянуть на Новоалександровский винный, побыл там – время проверить любимый железный Николаевский... Пожил там малость, неделю, ан – необходимо проведать Амурское пароходство...
А следом – очередь торговли. Дотошная выверка – нет ли где сбоя, везде ли порядок, как идет завоз, не нарушаются ли контракты, не опоздать бы гам на торги, а там на распродажу...
От живости и надежности торговли, от непрерывности завозов и пополнения припасов зависела работа приисков, заводов, судоходства. От намыва золота, продажи вина, железа, соли шли средства в торговлю и оплату кредитов.
К концу семидесятых годов на приисках, заводах, в торговле «бутинской империи», по грубым подсчетам, занято до ста тысяч рабочих и служащих!
Богаче, сильнее, могущественней купцов первой гильдии Бутиных в Нерчинске не было...
Дела фирмы шли хорошо. Даже очень хорошо!
Михаил Дмитриевич услышал мягкий баритон брата и его приглушенный смех.
– Анекдот! – отворяя дверь в кабинет и продолжая смеяться, сказал старший Бутин. – Анекдот, иначе не скажешь!
В руках он держал развернутый газетный лист, и Михаил Дмитриевич издали узнал ее по бумаге и шрифтам, – наверняка, «Биржевая газета».
– Что вы там, дорогой брат, вычитали смешного? – спросил младший Бутин, откладывая в сторону ручку и заполненный наполовину листок почтовой бумаги – спешное письмо Ивану Степановичу Хаминову в Иркутск.
Николай Дмитриевич протянул брату газету, сложив ее так, что бросался в глаза текст, отчеркнутый синим карандашом. Старший прямо из конторы – в жилете, на белой шелковой рубашке синие нарукавники, просидел с утра за торговыми книгами, а тут после обеда и почта пришла.
– Почитайте, друг мой, – он опустился в кожаное кресло у стола. – А я воспользуюсь вашими сигарами, у меня вышли, – он повел пышной квадратной бородой. – Умора, скажу вам!
Михаил Дмитриевич придвинул ящичек с «Гаваной». Еще не приступив к чтению, безотчетно подумал: «Из-за статейки брат поднялся? Или за сигарой? Скорее – с серьезным разговором».
В «Биржевке» напечатали пространную статью о печальной участи одесского ресторатора Исаака Швейковского, владельца «Одесской гостиницы». Коммерсант этот прогорел, гостиница дает сплошной убыток, пассив полтораста тысяч, актив семьдесят. Швейковский мечется в поисках кредита. Ему предлагают ссуду, однако же в счет продажи движимости гостиницы. Не берет. Конкурсное управление довело дело до полного раззора, – продажа гостиницы дала пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят пять рублей плюс две копейки, а расходы по курсу вылились в ту же сумму, лишь на копейку меньше!
– Ну не анекдот? – Николай Дмитриевич попыхивал сигарой, приятный запах распространился по комнате. – Кредиторы сначала рассчитывали на полтинник с рубля, потом на двадцать семь с половиной копейки, а повели конкурс так, что разделу между кредиторами подлежит одна-единственная копейка!
Бутин-младший тоже взял сигару, медленно закуривая, пожал плечами.
– Николай Дмитриевич, чего ради вы приволокли сюда этого несчастного Швейковского? Не в назидание ли?
– Несчастного Швейковского? – переспросил старший. – Не тот ли этот Швейковский, о котором вы мне так похвально отзывались после возвращения из Одессы? Когда вы ездили к зафрахтованным немецким судам, пришедшим из Гамбурга с грузом? Не в «Одесской» ли вы жили в нумерах у господина Исаака?
– Тот самый. Память вас не подвела. Исаак Айзикович. Умный и дельный господин, чересчур лощенный и весьма самонадеянный. К начальству одесскому вхож был.
– Не помогло! – вздохнул старший Бутин. – В коммерции это не лучший козырь. В коммерции – наличность, капитал, свободные деньги.
Бутин начал догадываться, к чему Швейковский и «Биржевая газета».
– Надо было без оговорок взять кредит. И продолжать дело. Там, где конкурс, там и воронье. На части капитал разорвут.
Они долго молчали, дымя сигарами, поглядывая друг на друга и думая об одном и том же, но по-разному, и понимали это.
– Николай Дмитриевич, – как можно спокойней заговорил младший брат. – Мы с вами не слепые. Таких дел, как со Швейковским, ныне много. Вон Лапинская мануфактура лопнула. Сергеев, купец, наш добрый московский знакомец, погорел. В сделках порядочен и крайне точен был. Николая Федоровича, слышал, Кноп подсадил. Это делец опасный. Знает, что у тебя гладко и чинно, так весь в готовности услужить, как туго – первый бежит, навострив когти. Морозовы упреждали: Кноп за версту банкротство чует, надо с этим немчурой осторожней. О нем в деловом мире дурная шутка ходит: «Дом не может без клопа, а торговля – без Кнопа!»
– Видим, слышим, знаем, – сказал старший брат. – И предупреждены. А меж тем с Кнопами водимся. Ведь мы у него кредитованы, не так ли, Михаил Дмитриевич?
– Кредитованы, Николай Дмитриевич!
Он сделал долгую затяжку, кончик сигары вспыхнул острым глазком.
– Нам-то чего бояться? Мы прочно сидим. У нас дела по-крупному ведутся.
– Чем крупней, тем рискованней, дорогой брат, – возразил старший.
Михаил Дмитриевич мягко, с некоторой снисходительностью обратился к старшему брату:
– Ну вспомните же, Николай Дмитриевич, наш давний разговор. В этом самом кабинете. У нас тогда не такой размах был, какой теперь имеем! На два миллиона кредитов набрали, иначе не вывернулись бы. Все прииски обеспечили припасами. И пароход на Амур прикупили. И в торговле – товары из складов вывозились, а не выводились. Часть до весны оставили. С надбавкой распродали, а к началу последующего года вчистую рассчитались – золотом да пушниной! А долгосрочные кредиты попридержали. Наше право. Не такой уж безрассудный я распорядитель дела, согласитесь!
У Николая Дмитриевича сигара загасла, и он, чуть смочив кончик ее пальцем, положил «Гавану» в жилетный карман.
– Тогда я вас напрасно потревожил. И вообще – кто бы из нас мог так предусмотрительно, так умело руководить делами фирмы? Ни я, ни Дейхман, ни Шилов! Во всяком случае, я вам и помехой никогда не был!
– Брат мой, что вы говорите! Разве я не обращаюсь к вам за помощью и советом? Ваше знакомство с Морозовыми положило начало самым выгодным московским контрактам фирмы! Ваш визит к Михаилу Семеновичу Корсакову, убежден, спас нашу китайскую экспедицию. И кому бы я мог оставить дело на время поездки в Америку? Вы умеете управлять людьми и предприятиями одним движением рук, как... как Мауриц оркестром!
– Однако, брат, у вас сравнения сегодня артистичные! Но у вас были и другие сравнения. Как раз над вами, на крючочках, предметы, делающие ваш кабинет миром современного делового человека – барометр и компас. Не вы ли утверждали, что в нашем общем деле я вроде барометра, а вы в роли компаса?
– Не отрекаюсь. Компас. Уверен, что направление нами избрано верное. А что показывает барометр?
– Живой барометр вроде меня – это инструмент особого рода. Ясно, брат, ясно, в наших делах без перемен. А вот душе неспокойно.
Тут сдержанность покинула младшего, смуглое лицо передернулось. Но голоса не возвысил.
– Ах, Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич! Это вы говорите! Вам ли одалживаться смелостью. Вы не побоялись пойти на выкуп приисков Капараки, у нас тогда грош ломаный остался. Вы не пожалели средств на машину Коузова, мы очень стеснены были. Вы ни слова не молвили против китайской экспедиции, она обошлась в двести тысяч. И вы пошли на самый крупный за все время контракт с Морозовыми. Или все эти пятнадцать лет мы шли вовсе без риска? Тогда бы у Бутиных и была бы всего-навсего прадедовская мелочная торговля в Гостином двору!
Бутин оборвал себя, вглядевшись в брата. Как же он постарел за эти годы! Он совсем уже седой, лишь в бровях черные ниточки. Ему уже идет к шестидесяти. Впрочем, и у себя он приметил в шевелюре и бороде белые волосинки. Но он-то в свои сорок с лишком не чует себя состарившимся; силы и энергии в нем хватит и за себя и за брата!
– Простите меня, брат, наш разговор вас утомил. Вы не раз жаловались на боли в печени и желудке. Я слышал, доктора советуют вам ямаровские воды. Я прикажу Яринскому снарядить удобную повозку. Что касается наших дел, то обещаю со всем тщением обревизовать наши книги и вместе с господами Дейхманом и Шиловым обсудить то, что является предметом вашего беспокойства.
Разговор был окончен. Или, точнее, оборван.
36
Татьяна Дмитриевна и Маврикий Лаврентьевич Маурицы воротились в Нерчинск после европейского вояжа.
Татьяна Дмитриевна выглядела суховато-деловито-торжественной: она ознакомилась с жизнью нескольких государств, имела встречи со сведущими в ботанической науке и садоводческой практике людьми, привезла для своих парников, цветников и грядок разнообразных семян овощных культур, плодовых и декоративных растений. Увлечение садоводством переходило у нее в страсть, для которой сонаты, рапсодии и кантилены, разучиваемые ее мужем, были весьма подходящим фоном.
Бутин предоставил сестре и зятю постройку в саду – деревянный трехэтажный домик с крытыми верандами внизу и наверху. Уединение, тишина, фортепиано и клавесины в отдаленной комнате, широкие, полные света окна, дыхание густо разросшегося сада с весны до осени, цветы в вазонах и кадках круглый год. Дом укрыт густой растительностью, – в саду клумбы, плодовые деревья, аллеи, оранжереи, а стены дома увиты растениями – нерчинским плющом, хмелем, а еще странным вьюном с белыми цветами, который даже осведомленная Татьяна Дмитриевна не могла определить – то ли «климатис», то ли что-то родственное этому ползучему растению.
Если из азиатских стран Татьяна Дмитриевна более всего вывезла цветов, – одних орхидей вырастила десяток сортов, то в европейских странах ее в особенности подманили овощи.
Так, из южной Германии она привезла в бело-розовых ростках роскошные клубни картофеля «баварец», видом похожие на розовые обкатанные камни, – это на вид, а варились недолго и при сухой и нежной рассыпчатости имели пряный и тонкий привкус каштана.
Из Голландии привезла необыкновенный живучий неприхотливый сорт капусты, на родине своей называемой «прелюд». Музыкальное имя капусты привлекло даже внимание ее дорогого Маврикия, не могущего за столом отличить сельдерея от петрушки. Сочная и приятно сластящая капуста оказалась жизнеустойчивой на новой родине, прижилась на суровой ее земле, выдерживая и весенние ветры, и летние засухи, и осенние ливни, и даже ранние августовские заморозки. Особенно крупной она не была, но кочаны урождались плотные, крепкие, тяжелые, а лист был литой, тугой и цельный. Петр Яринский, любимец сестры, – возмужавший, уширившийся в плечах, по поручению Татьяны Дмитриевны раздавал семена привившихся растений всем охочим нерчуганам. По ласковости своей натуры и нелюбви к трудным наименованиям, он прозвал голландскую пришелицу «прелюдкой», и так ее стали звать все другие огородники. Татьяна Дмитриевна, будучи проездом в селе Знаменка, что на речке Торге, при впадении ее в Нерчу, поинтересовалась у знакомого мужика, удалась ли капустка из дареных семян. Тот переспросил: «Энта, которая “приютка”? Приладилась, свойская капустка, что в щи, что в соленье, сажаем не тужим, едим в обед и в ужин».
Так чужестранка получила русское имя, приютившись на забайкальской земле, породнившись с природой сурового края.
При неровностях своего характера, упрямстве, жесткости Татьяна Дмитриевна была целеустремленной, в ней жила привязанность к земле. В этом она оказалась ученицей Зензинова и продолжательницей Поджио и Завалишина с его великолепными арбузами. Декабристы с замечательным усердием и настойчивостью внедряли в жизнь «чалдонов» и злаки и огородные культуры. Она продолжала их усилия! Нет, не просто сестра – единомышленница, соратница...
Татьяна Дмитриевна привезла из Богемии чудесные семена моркови, – от родственников мужа, чешских землевладельцев и музыкантов! Из Франции – спаржу, из Болгарии – тыкву. Она доказала, что все российские и европейские овощи удаются здесь, на этой земле!
Из иркутских семян выведенная, вдруг пышно и свободно разрослась в саду облепиха, и в сентябре часть сада засияла, словно солнцем залитая, зацвела некрупными, желтыми, не похожими ни на какие другие плоды ягодами!
Из бурсинских семян, собранных ею лично, при поездке с братом на Амур, Татьяна Дмитриевна вырастила несколько десятков кустов темно-лиловой сирени – густой, душисто-пахучей, смело и ярко зацветающей в самом начале короткого сибирского лета.
Глянул как-то Бутин за обедом на руки сестры и отвел в неловкости глаза, – как же они, руки ее, огрубели, в каких черных трещинах и серо-желтых мозолях. Эти руки обертывали нежные растения рогожами, засыпали корни сухой листвой и черноземом...
И все же не все растения выдерживали...
Однажды весенним утром поднялась она к брату в мезонин. Михаил Дмитриевич, одетый, причесывался у зеркала, готовясь спуститься в контору. Он увидел в зеркале, не оборачиваясь, осунувшееся лицо сестры с покрасневшими глазами. Слезу Татьяна Дмитриевна считала недопустимой женской слабостью. Однако же она плакала!
Он кинул щетку для волос и подошел к сестре.
– Что-нибудь случилось? – отрывисто спросил он.
– Ах, брат, такое несчастье! Те вишни, помните, за беседкой. Летом была такая густая листва и свежие побеги. Михаил Дмитриевич, они засохли, не вынесли февральских морозов. Я так за ними ухаживала...
И смотрела так просяще-жалостливо, будто распорядитель дела в силе дать распоряжение Оскару Александровичу или Иннокентию Ивановичу оживить погибшие деревья...
– Очень жаль наши вишенки, – сказал он. – Я помню, какие они стояли нарядные и веселые, как украсили бы наш сад. И труды твои, Таня, жалко. А все же сад ширится, цветет. И сколько людей, не веривших в него, теперь помогают тебе. Не только домашние – Капитолина Александровна, Мария Александровна, но и все Чисто-хины и Налетовы, и Марфа Николаевна, и молодчина Яринский, и девочки из прогимназии. Ведь лестно, когда нерчугане говорят: «Наш сад!» Нет-нет, сестра, не поддавайся, прирастут и вишенки, почувствуют, что им здесь хорошо...
Когда он спускался в контору, новая важная мысль владела им.
То хорошо, что в семье Бутиных все заняты делом. У него с братом прииски, торговля, промыслы, пароходство, у невестки – дети, их обучение и нужды, вот у Татьяны – сад, ферма, земля, зять радует всех настоящей музыкой, прекрасными концертами, приезжие артисты считают, что у нас благородная публика. И все это способствует прогрессу.
37
Не понапрасну Бутин, увидев несчастное лицо сестры, в первую очередь встревожился за мужа Татьяны Дмитриевны, за Маврикия.
Мауриц вернулся из заграничной поездки другим, чем был до нее, что-то в нем надломилось, – он загрустил, притих и будто стал еще меньше росточком.
За столом, встретив взгляд Бутина, он, как мальчишка, пойманный с рукой в сахарнице, поспешно отводил глаза. Не так часто, как прежде, искал встречи со своим патроном, – разве лишь тогда, когда заминка в чем-то главном – в его музыке, в оркестровых делах, в устройстве очередного концерта. А то не явится к ужину, и еду тогда сама Филикитаита благоговейно приносила в деревянный дом в саду, очень она была расположена к Маврикию Лаврентьевичу с его угодной Богу музыкой. «Сказался нездоровым», «пишет партитуру», «пошел прогуляться», – по-разному, но всегда односложно сообщала Татьяна Дмитриевна.
Может быть, размышлял Бутин, Мауриц, побывав в своей Моравии, пообщавшись с близкими, пожалел о своем порыве, унесшем его на край света, в ледяную Сибирь, – и его давит чувство вины перед матерью, сестрами, перед родной землей, родным языком, родной музыкой. Или, напротив, неловкость перед семьей, в которую вошел, перед Нерчинском, усыновившим его, перед музыкальным обществом, в котором его боготворят – «наш Маврикий, милый наш Маврикушка», – ведь бросил нас на полгода, проездил в свое и жены удовольствие, оставил нерчуган без музыки, концертов, танцев, развлечений.
Не надо его трогать, пусть притупится острота полученных впечатлений, пусть умиротворится взбаламученное воображение, пусть снова войдет в жизнь семьи, углубится в репетиции оркестра, заживет интересами города, а музыка обережет его от видений прошлого или из видений прошлого выйдет музыка, и это то, что излечивает душу художника...
Верно то, что Мауриц с горячностью возобновил прерванные поездкой музыкальные занятия.
Чаще обычного собирался оркестр в Золотом зале – и мебель, и драпри, и обивки – все здесь сияло позолотой! – и сначала нестройно, сбивчиво, розно, дисгармонично, а вскорости – слаженно, во взаимном тяготении, стали выстраиваться звуки разучиваемых вещиц, и слышался отрадный для слуха Бутина короткий, дробный выстук по пюпитру дирижерской палочки и тонкий, звенящий, требовательный голос Маурица. Тут он не робел, не жался, не таился.
И снова зазвучали в Нерчинске – в залах магистрата, Гостиного двора, в доме Верхотурова – Капараки, во дворце Бутина, – веселя сердце и завораживая чувства, Моцарт и Шопен, Бетховен и Бах, Глинка и Мусоргский с прекрасными голосами Капитолины Александровны и Домны Савватьевны. И снова вышел к публике хор женской прогимназии.
Приехала к нерчуганам их любимица госпожа Леонова. И так пела Дарья Михайловна, так душевно и трогательно – и старинные «Выйду я на реченьку» и «Стонет сизый голубочек», – что даже задиристая певунья-свистунья Марфа Николаевна Багашева бежала за занавес ей ручки лобызать! А заодно и Маурица чмокнуть – «Ох же дьяволенок, как песню русскую чует, а скрозь нее душеньку русскую. А ведь австрияк, немчина». – «Чех, славянин!» – поправлял кто-нибудь из Бутиных.
Обе невестки – и старшая и младшая – с истинно женской сострадательной наблюдательностью замечали то, что упускали в деловой повседневщине мужчины.
Как-то после репетиций Капитолина Александровна под золочеными ножками одного из кресел обнаружила скомканный батистовый платок с багрово-черными сгустками крови. Через короткое время Марья Александровна, принимавшая от кастелянши белье, узнала от доброй женщины, что из деревянного дома постельное белье стало поступать в стирку со странными красными пятнами...
Они с опасением стали прислушиваться к мелкому, обрывистому кашлю, нападающему на миленького музыканта то за столом во время трапезы, то из гостиной в часы репетиций, то из сада на прогулке.
И, уже сговорясь, пришли осенним вечером вдвоем к Татьяне Дмитриевне попить чаю с золовкой – из Москвы от Блуфье присланы новые партии конфектов и бисквита, их доставил в Нерчинск из Иркутска близкий служащий Хаминова, молодой да пригожий Иван Симонович Стрекаловский.
Самоварничали в доме частенько, и Татьяна Дмитриевна не удивилась приходу братниных жен. Повод подходящий был – роскошный цветастый коробок, полный трюфелей и прочих шоколадных конфектов. Элегантный и предупредительный Стрекаловский в утреннем визите произвел на всех впечатление – учился в Петербурге, доучивался в Цюрихе и Сорбонне, побывал в тех же странах, где невестки были, и про фонтаны Рима, и про Букингемский дворец, и про дворец и сад Люксембург в Париже – обо всем непринужденно, обстоятельно – будто только оттуда, и очаровал тем, что, столько повидав, стал хвалить Нерчинск, дворец и сад. Но увы, прекрасные дамы, должен немедля возвратиться в Иркутск, для сопровождения господина Хаминова в Москву...
Дамы сидели в башенке-гостиной деревянного дома, расположенного в саду, еще зеленом, дышащем терпкостью осенних зрелых плодов и цветов; лишь кое-где деревья подернуты ржавью усталости и отдохновения – стояло «бабье лето», сухое, солнечное, щедрое, каким оно бывает только в одном месте на земле – в раскинувшемся в глубине Сибири на тысячи километров Забайкалье.
Дело шло к вечеру, и хотя солнце и яркость воздуха, а в открытое окно тянуло свежестью от реки и прохладным ветром с ближних сопок.
На Капитолине Александровне было ее любимое платье из темно-синего плотного шелка. Марья Александровна, помоложе, повыше ростом и менее полная, чем старшая невестка, скорее худощавая, была одета похолодней и построже: скромное коричневое шерстяное платье, отделанное черным воротником-косынкой. Ну не хозяйка дворца, а гувернантка в купеческом доме!
Небрежней всех одета сама Татьяна Дмитриевна. Она вообще одевалась вызывающе-своевольно. Привезла из Франции рабочий костюм для садовника-мужчины и разгуливала в синей блузе и яркой косынке, в широких штанах на лямках крест-накрест! Не только по саду, по городу, в этой одежке к обеденному столу заявлялась! Все нерчинские купчихи расфыркались в своих тафтовых кофтах, широкорукавных лифах и кружевных чепцах!
Все трое были достаточно рассудительны и в необходимых пределах расположены друг к дружке. Они сходились в том, что неизменно взвешивали и принимали во внимание мнение, вес, репутацию и деятельность своих мужей, а Татьяна Дмитриевна почитала своим непременным долгом прислушиваться к взглядам и советам своих братьев.
Но в характерах, привычках и вкусах главных дам бутинского семейства существенные отличия и несходства.
Капитолина Александровна при решительности и твердости взглядов редко выходила из себя, была сдержанной и простой в обращении, склонной по-учительски прощать проступки и оправдывать промахи, особенно свойственные созданиям юным и непросвещенным.
Марья Александровна была в своей требовательности более жесткой и прямолинейной, решала не чувством, а умом, считала, что ее правила жизни наилучшие, требовала понимания верности ее позиции, не любила просителей и жалобщиков, но ей не чужды были доброта, сочувствие в нужде, и, простив, она забывала любую обиду.
В Татьяне Дмитриевне главной чертой была бутинская деловитость при отсутствии бутинской широты. Ежели ей хотелось чего-либо добиться, она проявляла завидное упрямство и настойчивость, – будь то вояж за границу, семена для сада, красивый аргамак, новая пролетка, редкая картина или статуэтка.
При всей своей воспитанности и образованности не всегда владела собой, нередко порывы скупости и вспыльчивости портили ей отношения с домашними и посторонними людьми. Бывало, что она во время спокойного обсуждения драматического вопроса, вскочит с места: «Делайте как хотите, а мне позвольте жить своим умом!» И стремглав мчится в своих синих парижских штанах с исступлением ворочать землю заступом или лопатой – своим умом! А явится к ужину и проворчит в кулак: «Уж ладно, не сердитесь, я не против, делайте как лучше!»
На чем дамы прочно сходились, так это в общем доброжелательстве к Маурицу. Для Татьяны Дмитриевны он был избранным ею супругом, для Капитолины Александровны не просто мужем золовки, но близким по музыке человеком, требовавшим материнской заботы. Марья Александровна, встречая в Маурице покорность, смирение и зная привязанность к нему Бутина, рассматривала музыканта как самого безобидного члена семьи. И то, как он восторженно отнесся к Сашеньке и Милочке, ее детишкам, и то, с каким неподдельным горем провожал он их, когда Господь взял малышей, делало его причастным к самой мучительной боли женского сердца.
На столе шумел самовар – на этот раз Филикитаиту оставили в большом доме, дабы не возникало помех свободному разговору.
В доме было тихо, покойно. Сад из окон – как на ладони, и будто во всем мире тишина и ублаготворение. Хотелось говорить о том, что вот сад уже не летний, но и не осенний, хотя плоды почти все повыбраны. И что сад дал дому нынче столько малины, смородины, крыжовника, что хоть в бочках храни варенье! И не только теплицы и парнихи, но и открытый грунт дает вдоволь всего. И сколь много труда, знаний и просто-таки диковинного упорства проявила Татьяна Дмитриевна, борясь за плодовые деревца, ягодники, кустарники и цветы!
– Не успокоюсь, – говорила своим грубоватым голосом золовка, – покуда не добьюсь, чтобы мои растения, самые южные и прихотливые, не вымерзали даже при самых лютых морозах!
– Людей в шубах да катанках до костей пробирает, – рассмеялась Капитолина Александровна. – А вы от нежных, в тепле взросших растений требуете послушания!
– Тут, дорогая моя, вся суть в семенах, – с энергией ответила золовка. – Их подбирать надо, хитрить с ними. Я вон семена малины первую зиму после всходов в комнате держала, а весною высадила, и они укоренились. В эту зиму листом укрою, погляжу. – И вдруг с непонятной резкостью в голосе: – Бисквит аж во рту тает, спасибо иркутскому дядюшке!
– Что это вы так о Хаминове? – спросила Марья Александровна. – Он человек услужливый. И для фирмы полезный. Бутины ценят его.
– Хитер мужик, – отрезала Татьяна Дмитриевна. – Себе на уме. Не знаю, каков его приказчик... Стрекаловский, говорите?
– Да, Иван Симонович. Молодой, обходительный, – ответила Капитолина Александровна. – И с образованием.
– Они все такие, Стрекаловские. Из чиновников, все по канцеляриям болтались, от дедов до внуков в прихожих у начальства, своего дела не заводили, а купцов пощипывали. У кого картину выпросят, у кого книгу редкую, у кого монету времен Ивана Грозного. Да тут с ними, за бисквит этому красавчику наше с кисточкой!
– Мы о холодах говорили, а мне вдруг жарко стало, – сказала Капитолина Александровна. – Однако же, с вашего позволения, сестра, скину я свой балахончик...
Она сняла мантилью, положила ее на стоящую поблизости софу.
Марья Александровна поджала красивые холодные губы.