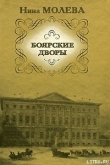Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Какое но? Да не тяните же, князь! Вы боитесь касаться дел князя Потемкина, как если бы он имел какие‑либо преимущество перед всеми остальными военными начальниками.
– Князь Потемкин запретил переход Дуная. Одержанные победы вполне его удовлетворили. Он ограничился тем, что приказал Гудовичу взять Аккерман. 3 ноября Бендеры сами сдались, и кампания была закончена.
– Позвольте, позвольте, но ведь австрийцы перешли Дунай.
– Совершенно верно, ваше величество. Русские войска проложили им дорогу к победе. 1 сентября австрийцы форсировали Дунай, 24–го сентября взяли Белград, в течение октября некоторые крепости в Сербии, а вот сейчас принц Кобургский занял Бухарест.
– Думаю, вы знаете, как обеспокоены Пруссия и Англия нашими действиями. Наши агенты доносят, что они обещают свою поддержку султану в случае продолжения Турцией военных действий.
– Этого следовало ожидать, ваше величество. Тем более, что мир не заключен.
– Именно это больше всего беспокоит меня, но никак не Потемкина. Я благодарю вас за доклад, Николай Иванович. А, кстати, удовлетворите мое чисто женское любопытство: что в вашем портфеле?
– Мой адъютант подготовил последние сочинения великих князей, матрикулы с их балами и несколько рисовальных опытов их высочеств.
– Ваш адъютант? Не тот ли это молодой человек, который дожидается в антикамере?
– Он самый, ваше величество. Я позволил себе такую вольность – явиться с адъютантом, потому что он у меня настоящая ходячая энциклопедия. Я употребляю его вместо календаря. Он ничего не забывает и обо всем напоминает. К тому же он на редкость скромен, нетребователен и трудолюбив.
– И, сколько я могла заметить, хорош собой.
– Не мне судить, ваше величество.
– Я говорю с точки зрения наших придворных красавиц.
– О, Зубов не знаком с ними и никогда не выражал желания познакомиться. Платон не тщеславен.
– Но вы явно благоволите своему сокровищу. Завидую вам, князь, как вам известно, мой флигель–адъютант предпочел службе государственной прелести тихой семейной жизни в московской глуши. И я пока осталась как без рук.
– Думаю, он уже раскаивается в своем решении.
– Если и так, это ничего не изменит в его судьбе. Я не перерешаю единожды принятых решений. Прощайте, князь.
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императрицы. Екатерина II, граф де Сегюр.
– Я хотела вас видеть, господин посланник, чтобы составить себе сколько‑нибудь внятное представление о происходящих в вашем государстве событиях. Со стороны они смотрятся настоящим сумбуром. Но как же чувствует себя мой брат король? Как он справляется с этим взрывом страстей?
– Ваше величество, у нас есть надежда на благополучное разрешение этого кризиса, но – если бы не другие европейские страны!
– Другие? Что вы имеете в виду?
– Нельзя отрицать, что бредни наших смутьянов нашли живейший отклик среди так называемых мыслящих людей в иных державах. Ваше величество не может не знать, что даже появилось крылатое выражение: ехать во Францию подышать воздухом свободы. Эти, с позволения сказать, безответственные искатели приключений способствуют разжиганию самых низменных страстей и самых невероятных желаний.
– Но ведь так можно дойти и до того, что толпа сочтет ненужным самый институт королевской власти!
– О, этого не может случиться. Под рукой у короля достаточно полков, которые вмешаются в случае…
– В случае чего, господин посланник? Разве его величество не считает, что необходимость вмешательства уже заявила о себе?
– Его величество полагает, что лучше сумасбродам дать выпустить в воздух избыток энергии. Горячие головы в конце концов остынут, и тогда можно будет восстановить былой порядок е минимальным усилием. Сейчас же всякое вмешательство чревато кровопролитием. Разве его величество допустит обагрить потоками крови подножие своего трона!
– И тем не менее эта вольная пресса, ее вопли, совершенно недопустимые статьи…
– Газетная перепалка – не более того, ваше величество.
– Но при таких головокружительных тиражах! И притом мне сообщили, что «Революции во Франции» – далеко не единственная газета революционного толка.
– К сожалению, это так. Есть еще «Народный трибун» Фрерона, «Революции во Франции и Брабанте» Камилла Демулена, «Точка зрения дня» Баррера, «Друг народа» некоего Марата и…
– О нет, господин посланник, этого одного предостаточно. А что же точка зрения короля? Ее никто не выражает?
– Как можно! В Париже выходят газеты «Журнал Двора и Города», «Друг короля», «Апостольские акты».
– Мне довелось держать в руках «Журналь де Халль», и, не стану скрывать, грубость в отстаивании принципов монархии мне показалась неуместной и оскорбляющей королевское достоинство.
– Признаю вашу правоту, ваше императорское величество. Но на войне, как говорит наша пословица, как на войне. Все средства признаются хорошими и допустимыми. Должен сказать, антикоролевские листки кишат бродящими в обществе слухами, бросают – и очень расчетливо – тень неблагонадежности на своих политических противников. Они выступают с прямыми обвинениями против отдельных лиц и целых категорий граждан в самых грубых и резких выражениях. Что там! Они проповедуют прямое насилие, ваше величество.
– Король мирится со всем этим бунтом?
– Конечно, нет. Газеты королевской ориентации не остаются в долгу. Получая субсидии от двора, они стремятся заставить замолчать противника, совершенно также проповедуя насилие. Издатели и редакторы подвергаются в них откровенным оскорблениям. В Париже стало обычным сжигать газеты противников – устраивать некое средневековое аутодафе перед дверями кафе, где собираются единомышленники противоположной ориентации.
– У меня сжимается сердце при мысли о переживаниях короля. Выносить такое каждодневно и уже столько времени – это ли не истинный подвиг монарха!
– Ваше величество, наш король держится с великолепным достоинством. При дворе не меняется ничто: ни принятый церемониал, ни празднества, ни танцевальные вечера и балы. Король не замечает черни, и это так естественно.
– Но у меня к вам еще один вопрос, господин посланник. Что происходит в Национальном собрании? Такие же ожесточенные споры?
– И да и нет, ваше величество. В Национальном собрании стало не принятым принадлежать к какой‑то определенной политической группировке. Его депутаты стараются стать выше подобных откровенных делений. Тем не менее есть направление, к которому принадлежат высшее духовенство и дворянство, мечтающее о восстановлении былых порядков.
– Насколько я понимаю, запоздалые мечты!
– Ваше величество, хочется верить, что все‑таки не совсем запоздалое, хотя необходимость перемен очевидна для всех. Рядом с ними немало таких, которые хотят сохранить за королем одну лишь исполнительную власть.
– Одну исполнительную? Не понимаю.
– Они хотят сохранить первенствующее положение за духовенством и дворянством и разделить Национальное собрание на верхнюю и нижнюю палаты. Это господа Лалли–Толлендаль, Клермон–Тоннер, Мунье.
– Их имена мне незнакомы.
– Ничего удивительного. Зато, к сожалению, вашего слуха, ваше величество, должны были коснуться имена Мирабо, Лафайета, аббата Сийеса.
– Ах, этого автора брошюры о третьем сословии, не так ли?
– Вы превосходно информированы, ваше величество. Это они мечтают о конституции и однопалатном парламенте. Но рядом с ними есть депутаты, которые хотели бы придать большее влияние парижскому населению и клубам. Их имена вам также незнакомы, ваше величество.
– И тем не менее назовите их – у меня хорошая память, кто знает, при каких обстоятельствах подобные сведения могут мне пригодиться.
– Мне остается присоединиться к восторженному хору поклонников вашей несравненной политической проницательности, ваше величество. Это некие Дюпор, Барнав, братья Ламеты. Но несомненно первым оратором собрания остается господин Мирабо. Иногда ему удается достичь невероятного воздействия на депутатов, но в целом его программа сочетания политической свободы и крепкой правительственной власти вызывает одинаковое недовериё и у собрания, и у королевского двора.
– Да, подобная идея на практике представляется достаточно фантастичной. Но мы с вами говорим о Париже, не правда ли? А каково отношение к парижским событиям в остальной стране? Они затрагивают воображение провинциалов?
– К сожалению, ваше величество, в сильнейшей степени. С осени в разных местах страны устраиваются бесчисленные празднества.
– В честь чего? Ведь результатов пока нет никаких.
– В честь свободы, ваше величество.
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. Н. И. Новиков и Левицкий.
– Сюда, сюда проходите, Николай Иванович. Агапыч! Беги Настасье Яковлевне сказать: гость у нас дорогой, сам господин Новиков – пусть обед как на праздник готовит.
– Что это вы, Дмитрий Григорьевич, беспокоитесь так. Да и честь не по мне. Кто я, голубчик, чтобы дом на ноги ставить.
– Сами знаете, для меня дороже друга нет.
– Знаю, знаю, Дмитрий Григорьевич, потому прямо с дороги к вам направился. Даже с жильем и ночлегом не определился, и к вам.
– Как это не определились? А мой дом на что? Неужто старого друга обидите – не останетесь у нас?
– Хлопот много.
– Какие хлопоты – радость одна. Сейчас распоряжусь, чтобы вещи ваши в дом вносили.
– Надо ли, Дмитрий Григорьевич? Да и знакомство со мной до добра не доведет.
– А со мной, Николай Иванович? Что мы с вами страхами считаться‑то будем. Мой дом – ваш дом, всегда так было и будет.
– Спасибо вам, друг мой.
– И спасибо не стоит. Вам спасибо, что дружбы нашей не забываете. А вот и Настасья Яковлевна моя.
– Николай Иванович! Радость какая! Верите, дня не прошло, как о вас с Дмитрием Григорьевичем целый вечер толковали.
– Благодарствуйте, хозяюшка. Вам от Александры Егоровны поклон да кое–какие гостинцы наши авдотьинские.
– Неужто в Авдотьино перебрались?
– Да нет, в Москве живем. Это нам оттуда привозят. Малинка лесная отменная. От вареньица дух удивительный. Александра Егоровна велела непременно вас попотчевать. Да еще там в возке разные разности.
– И все‑то Александра Егоровна помнит, всем‑то угодит. Мне бы только перед ней в долгу не остаться.
– Полноте, Настасья Яковлевна, что за счеты! Может, когда в наше Авдотьино выберетесь – благодать такая.
– Пойду распоряжусь, как гостя поудобнее устроить. Разве что рядом, с твоей спальней, Дмитрий Григорьевич? Ночью бессонница одолеет, ближе вам друг к другу ийти будет. Агапыч! Чемоданы наверх неси, слышишь!
– Бессонница и вас не миновала, Дмитрий Григорьевич?
– Кого ж она минует? Всем достается.
– Да и осунулись вы будто. В Академии что?
– Потом, Николай Иванович, лучше скажите, какая беда вас в Петербург привела.
– Ваша правда, беда и, боюсь, неминучая.
– Так ведь улеглось все с Филаретом, и типография ваша, слыхал, работает.
– Пока работает.
– Почему пока? Опасения какие имеете?
– И немалые. Да что там, не угодил государыне, а иначе поступить не мог.
– Вы о книжках?
– Этим разом о голоде, о недороде хлебном.
– Голоде? Слыхал я, что под Москвой урожаи плохи были, но чтобы голод!
– Судите сами. Морозы были зимой минувшей страшенные – деревья трещали, оконницы лопались, а снегу – что кот наплакал.
– Озимые…
– Они и есть. Все под метелку вымерзли. Пересевать нечем. Крестьяне чем могли запасались. Мох ели, сено, листья.
– Господи! Да как же это!
– Скотина едва не у всех пала – корму и вовсе никакого.
– Это когда князь Потемкин путешествие государыни в Тавриду готовил…
– А путешествие‑то сие причем?
– Притом, что зерна на него пошло видимо–невидимо: где для виду в степи сеяли, где мешки напоказ насыпали.
– Я надоумил к государыне императрице обратиться: хоть не деньгами, так хлебом, помочь.
– И что же? Помогла?
– Ответу не дождались. Что писали, что не писали. По учреждениям ходить стал, ответ один: нету и ждать Нечего.
– Так и мне подумалось.
– Вам подумалось? Так ведь друг ваш Гавриил Державин как Фелицу превозносит – и мудрая, и милосердная. Слов ему на панегирические вирши не хватает.
– О Гавриле Романовиче особый разговор.
– Разошлись во мнениях?
– Тут другое.
– Пиитом придворным стал?
– О дворе много думает, не спорю. Только после путешествия государыни в Тавриду Потемкина божеством своим объявил. Его талантами да победами восторгается.
– Но он же сам недавно…
– То‑то и оно, что недавно сатрапом его видел, а теперь, когда весь спектакль сей узрел, в восторг от Таврического пришел.
– Чудны дела твои, Господи.
– Все наши в путешествии сем участие принимали. Капнист – как предводитель дворянства киевского, Львов – как архитектор храма. Державину ли не знать, каким представление сие было для зрителей просвещенных и непросвещенных. Сам в нужде горькой вырос, за одежу ветхую в герольдмейстерской конторе дворянином признан не был: документов и искать не стали. Сообразить нетрудно, как это ни с того ни с сего в голой степи поселяне в одеждах праздничных скот пасут. Да не один пастух, а толпою, да еще хороводы вокруг скотины водят, песни поют. Но Бог с ним. Вы‑то что же делать стали?
– После государыни, как понял, что никакой помощи не последует, к помещикам бросился. Чуть не на коленях молил хлебом с крестьянами поделиться. Их‑де крестьяне, с кого оброк брать будут, коли все голодом перемрут?
– Не помогло?
– Где там! Одна надежда осталась на собственные запасы.
– Да много ли их у вас, Николай Иванович?
– Сколько было, столько и роздал. До последнего зернышка. Своим давал, чужим не отказывал. Кто приходил, тому и давал.
– Святой вы человек, Николай Иванович!
– Не говорите так, друг мой, не надо. Нам с вами о святости думать ни к чему – тщеславие из сердца искоренять следует. От тщеславия звереет человек, сердцем каменеет.
– И многим вашей раздачи хватило?
– Немногим, это правда. Потому мы тогда с братом и порешили те три тысячи рублей, что на дела припасены были, тоже на хлеб потратить. Положили половину ярового на семена, половину ржи – для прокормления. Тут уже всех удовольствовали. Даже запасец небольшой остался, чтобы, если кто новый добредет, оделить.
– И все сами?
– Нет, пришлось на управляющего положиться, а самому в Москву возвращаться.
– Так в Авдотьине и без вас раздача продолжалась?
– Что управляющий меня послушался, дива тут нет. Главное было, чтобы злоупотреблений каких не явилось. Тут уж я велел всем свидетельства да расписки давать, а для помещиков афишку напечатал – советовал, как лучше крестьянам помогать. О долге им дворянском напомнил.
– А душа в то время за типографию болела.
– Болела, Дмитрий Григорьевич, как же иначе. Дело‑то мы огромное развернули, на всю Россию работать стали.
– Лабзин мне с великим прискорбием сообщил, что ограничения большие по типографии установлены были.
– Так и есть. Книги нравственного и философического содержания отныне мне печатать запрещено. Или разрешено одним духовным типографиям под соответствующим синодальным надзором заниматься.
– И даже того вам в заслугу не поставили, что вы в голод столь много отечеству послужили.
– В вину, Дмитрий Григорьевич, только в вину.
– Ничего не пойму!
– Вам непонятно, а властям все просто. Мол, деятельность новиковская филантропическая привлекает к его вредному учению многих людей. Из чего следует рекомендовать ему впредь от подобных хлебных раздач воздержаться, тем паче других дворян своими афишками не прельщать.
– А крестьянам умирать?
– Все в руке Божией – так и митрополит мне сказал.
– Спорить с ним решили?
– С митрополитом? Господь с вами, Дмитрий Григорьевич. Ведь о главной беде я вам сказать не успел. Все с силами собираюсь?
– Николай Иванович, друг мой бесценный, неужто мало горестей вам пережить пришлось?
– Видно, мало. На высшем суде их никто и не заметит. А испытания, Дмитрий Григорьевич, сами знаете, посылаются нам по силам и терпению нашим. Раз ниспосланы Господом, значит, и выдержать их сможем. Сверх сил человеческих Господь не наказует.
– Знаю, друг мой, твердо знаю.
– Когда Спаситель крест свой на Голгофу нес, нешто по силам он ему был, а ведь донес. Духом Сын Божий сильнее нас был – в этом и вся разгадка.
– Чем же ваш крест еще отяжелел?
– Сказать страшно, Дмитрий Григорьевич. Кончился у меня только что срок аренды университетской типографии. Казалось бы, великое дело – продлить, ан личный приказ государыни последовал: с Новиковым договора не подписывать. Вот она где смерть моя, Дмитрий Григорьевич. Как мы с вами с людьми теперь говорить станем, как обратимся. Просвещение без книги ни в одной стране невозможно, а уж в России тем паче. Не будет больше новиковской типографии, не будет…
– Спасти ее, только бы спасти!
– Потому и в Петербург собрался. Может, Перед государыней похлопотать можно, снисхождения какого добиться. Вам с Бецким поговорить, мне с Безбородко встретиться. А то ведь десяти лет как не бывало. Пришлось на страницах «Московских ведомостей» проститься мне с читателями нашими, поблагодарить их за верную поддержку и на том кончить.
– Николай Иванович, друг мой, новостей вы наших петербургских не знаете…
– Каких?
– У Бецкого теперь к государыне ходу нету, а у меня к президенту. Кончилась моя служба академическая, Николай Иванович, на пенсион меня списали.
– Вас? Вас, Дмитрий Григорьевич? Да кто же на вас, первого портретиста российского, руку поднял?
– Кто бы ни поднял, а Бецкой сию экзекуцию провел. Не соглашался я, чтоб академистов рабами потемкинскими на юг для работ пустых гнали, доводы из государственных распоряжений приводил. А как Потемкина лавровым венком за вымыслы его да растраты увенчали, меня за болезнями множественными уволили. И Безбородко вам не поможет. После триумфа потемкинского тише воды ниже травы стал, ни во что не мешается.
– Я и так Александру Андреевичу по гроб жизни благодарным останусь.
– Да, ведь он первым расследовать дело с типографией вашей отправлен был.
– Конечно, он, благодетель мой. Со мной сердечно потолковал, никакой вины за мной не нашел. Для государыни решение такое придумал, что, мол, московские чудаки не более как скучные ханжи.
– Рассчитывал, что с ханжами государыня милостивее обойдется. Посмеяться посмеется, и дело с концом.
– Расчет‑то его не оправдался. Государыня следствие Прозоровскому передала. Будто ждала, кто самый суровый приговор вынесет. Да все это дело прошлое, вспоминать не к чему. Мне бы еще раз выстоять – не получилось.
– С здоровьем что‑нибудь, друг мой?
– Припадки нервические у меня начались. Сознание потеряю, так час–другой в себя привести не могут. А тут еще Александра Егоровна моя…
– С супругой‑то что, Николай Иванович?
– Чахотка у нее. Доктора советуют в Италию везти не медля. Какая там Италия! Так полагаю, самое время нам в Авдотьино перебираться, коли в поездке моей нынешней смыслу не будет.
– А без лекарей‑то как же?
– При крайней нужде до Москвы добраться можно. Родился‑то я в Москве, дом вы знаете на Большой Ордынке.
– Как не знать – через переулок от моей Екатерининской церкви. Место славное.
– Того не скажу. Я ведь, Дмитрий Григорьевич, с Авдотьиным моим всей юностью связан. Родители меня еще совсем дитятею туда перевезли. Деревня небольшая, в наследство матушке пополам с кузиной, супругой сенатора Александра Васильевича Алябьева, досталась. Там же учителя первого своего увидел. Дьячок был местной церкви. Худо ли, бедно ли с грамотой меня познакомил, а дальше родители в гимназию при Московском университете привезли. Одним из первых учеников. Только терпения моего и на один год не хватило: отчислили меня за нехождение в классы. Родитель бранить меня не стал и тут же повез в Петербург записывать в лейб–гвардии Измайловский полк. С отставкой я поспешил – дальше поручика не пошел и с 1768 года издательским делом занялся. Тут уж и вовсе Авдотьино забыл. А теперь тянет. Ночами Северка снится. Берега пологие, песчаные. Травы луговые в воду смотрятся. Камыша в тех местах не сыскать. Леса славные. Сосновые. По лету гречиха зацветет, как море голубое по подам разольется. Пчелы жужжат. Жаворонки заливаются…
– Вот и Настасья Яковлевна моя стала деревню поминать. Говорит, кабы в деревне жили, сыновей бы своих не схоронили. Дочь – что, отрезанный ломоть.
– Да я про жаворонков между прочим. Главное, Дмитрий Григорьевич, может, будет у наших мартинистов прибежище? Собираться в Авдотьине станут. Храм я там отстрою, чтобы главным у мартинистов был. От столиц далеко. Может, власти в покое оставят, как полагаете?
– А если все же похлопотать попробовать? Одно дело – единомышленники, другое – Россия. Книжку каждый прочесть может. Вы руки опустите, кто о просвещении народном думать станет?
– Друг мой, рук опускать не собираюсь – характер беспокойный. Но если всю свою жизнь просмотреть, тучи надо мной год от года сгущались. Неба ясного над собой никогда не видел.
– Вы о первых журналах подумали?
– А как же? «Трутень» выходил, «Живописец», «Кошелек» – и все закрывать пришлось из‑за монаршего гнева. Того задел, о том не так высказался. Сатира никогда власть имущих не радовала. Спасибо, Михайло Матвеевич Херасков аренду типографии университетской московской предложил, а то беда.
– Зато в Москве все отлично у вас пошло.
– Надолго ли, Дмитрий Григорьевич? У меня в памяти каждый день на счету.
– Разве вы не сразу Дружеское ученое общество образовали? А через год и до первой в России Типографической кампании дошло. На паях.
– Кабы не было указа государыни «О вольных типографиях», ничего бы не вышло.
– Так был указ!
– А не успела его государыня подписать, как мое дело с учебниками началось. Ведь одного хотел – чтобы книг побольше было да стоили они подешевле. Ревизоры проверили: копейки себе не нажил, а едва не всего состояния лишился. За что пеню наложили, по сей день не знаю.
– Друг мой, есть у меня одна мысль.
– Какая же?
– Государыня слишком предубеждена против мартинистов и уговорить ее вряд ли кто сможет.
– Но мартинисты не представляют никакой опасности для престола. Наше дело – просвещение и только просвещение. Кому же оно может вредить?
– Николай Иванович, мы будем попусту терять время. Вот если предпринять иной демарш. Ведь место главы ложи у нас пустует.
– Вы сами знаете, о какой кандидатуре все думали.
– Еще бы, о великом князе Павле Петровиче.
– Тише! Бога рада, тише! Так не к нему ли обратиться?
Царское Село. Екатерина II, А. А. Безбородко.
– Государыня, известия от нашего посланника во Франции!
– Что вас так взволновало, Безбородко?
– Бастилия пала, ваше величество!
– Бастилия? Обыкновенная тюрьма? И что значит – пала? Ее кто‑то пытался штурмовать?
– Ваше величество, сообщение посланника на редкость подробно о сем рассказывает. Если позволите…
– Прошу вас. И – не пропускайте мелочей, раз это произвело такое впечатление.
– Во всех государствах, ваше величество. Наверно, надо начать с того, что это была действительно крепость, обращенная одной стороной к Парижу, другой к Сен–Антуанскому предместью. Заключенных в ней содержалось очень немного, только по личным распоряжениям короли, но условия содержания отличались большей, чем в других тюрьмах, строгостью. Парижане ненавидели при всем том Бастилию настолько, что уже существовал план ее сноса и устройства на этом месте площади, которой предстояло носить название площади Людовика XVI–го.
– Это значит, король предугадывал возможные события и, как всегда, опаздывал.
– Да, государыня, именно так. 14 июля вооруженная толпа парижан подступила к тюрьме и потребовала от начальника сдачи. Губернатор, как здесь его называли, наотрез отказался.
– Но ведь король не мог не знать о намерениях этого вооруженного сброда!
– По всей вероятности, но от него не последовало никаких указаний. Губернатор был предоставлен самому себе. Впрочем, наш посланник пишет, что в его распоряжении имелся гарнизон из 82 инвалидов, 32 швейцарцев, и это при 13 боеспособных пушках. Но главное Бастилию защищали толстые стены и могучие подъемные мосты.
– Большим такой гарнизон назвать трудно, но ведь они были наверняка достаточно хорошо вооружены и обучены?
– Государыня, по всей вероятности, число нападавших оказалось слишком велико, а их ярость не знала границ. Чтобы защитить себя от выстрелов сверху, народ притащил три огромных воза соломы и поджог их. Едкий дым лишил защитников крепости всякой ориентации, и губернатор решил Бастилию взорвать.
– Он остался верен своей присяге! Впрочем, на что было ему рассчитывать: толпа все равно растерзала бы его. Можно сказать, что он искал более легкой, но и достойной смерти.
– И это ему не удалось. Унтер–офицеры предупредили намерение губернатора, заставили его созвать военный совет, который почти единогласно постановил сдаться мятежникам.
– Это отвратительно! Офицерам и солдатам сдаться уличному сброду!
– Они заплатили за свою измену, государыня. Часть из них тут же была повешена. Не удалось спасти даже губернатора, хотя начальники мятежников и гарантировали ему жизнь. Губернатора обезглавили, а его голову, воткнутую на пику, потом таскали много часов по всему Парижу.
– А узники? Они были освобождены? Сколько их было?
– Всего–навсего семеро, государыня, среди них граф де Лорж, который содержался в заточении сорок лет.
– И кто‑то среди парижского сброда помнил еще о нем?
– Вряд ли. Во всяком случае, посланник ни о чем подобном не пишет. Скорее всего толпа боролась с символом королевского могущества – не за отдельных узников.
– Но вы ничего не говорите о короле! Где был он во время этих событий? Что делал? Какие приказы отдавал?
– На следующий день после падения Бастилии распорядился начать работы по разборке крепости. Он даже не позаботился о разграбленных или попросту выброшенных архивах.
– Кажется, я припомнила это имя. Дюк де Лорж был племянником маршала Тюренна. Впрочем, это относится ко временам Петра Великого.
Петербург. Дом Н. А. Львова. Н. А. Львов и В. В. Капнист.
– В одном году какие обстоятельства сошлись!
– Опять ты, Капнист, в восторге пребываешь. Тебя послушать – все округ событиями кипит, а на деле…
– Не всякому душевное равновесие твое, Львовинька, дано. Знай за своими чертежами сидишь, света Божьего не видишь, а меня же в восторженности обвиняешь. Ты дворец‑то потемкинский видел ли?
– Как не видеть. Который год строится. Спешка только сейчас началась. Старов совсем с ног сбился. Неделями из него не выходит.
– А что за спешка?
– Ну вот слона‑то ты и не приметил! Государыня дворец сей князю Потемкину–Таврическому предназначила, чтоб, вернувшись из Новороссии, в достойную резиденцию въехать мог. Отделка внутри самая что ни на есть богатейшая. Мебель, хрусталь, полы штучные – цены нет.
– Проложил‑таки светлейший себе дорожку во дворец снова, исхитрился.
– Не торопись, Василий Васильевич, не торопись. Цыплят по осени считают. Каково‑то его ещё Петербург встретит.
Раз государыня решила…
– Что государыня! Между нами, друг мой, и годы ее величества уже не те, и характер изменился – подчас и вовсе не узнать. Больше внимания на людей случая обращать стала, а Зубовым‑то светлейший здесь совсем ни к чему. Одно хорошо – в Петербурге одним дворцом больше стало. Старов – зодчий от Бога, да и на Александра Сергеевича Строганова опереться в случае нужды может. Не шутка! Слыхал, поди, что о родстве их судачат. Кто знает, есть ли в том правда. А так сынку привалянному почему не помочь. Да ты никак еще о каких‑то обстоятельствах сообщить собирался?
– Собирался, а как же. Светлейший здесь резиденцию получил, а Николай Иванович Новиков в Авдотьине своем обосновался. Такое празднество закатил, что Москва опомниться не может.
– Новиков? Празднество? Да что у него там в этой деревне‑то?
– Иван Петрович Тургенев [15] в письме все подробнейшим образом описал. Он сам там всю неделю празднеств провел. В истинном восторге пребывает.
– Даже неделю? Не узнаю Николая Ивановича. Никогда он богатством не отличался. С чего разбогател‑то вдруг?
– Да и не в богатстве тут дело. Ты вот, по своей части о доме спрашивал. Дом у него деревянный, двухэтажный, под железною кровлею. Никаких украшений нету. Зато преогромный: по фасаду восемь окон с дверью балконной, да по торцу в четыре окна тоже с балконом. Так что кругом балконами каменными, как гульбищем церковным, окружен, и превысокими. Веришь – по десяти ступеней!
– Поди, у реки стоит. Значит, от сырости.
– Твоя правда – у реки. В вестибюле лестница дубовая на второй этаж. Там уж и парадные комнаты, и жилые: зала, гостиная, кабинет хозяйский. Библиотека у Николая Ивановича всегда преотличнейшая была, аж завидки брали.
– Это верно. Сам, грешный, всегда такой завидовал. Выходит, из Москвы ее туда перевез. На лето стоит ли?
– С первопрестольной распрощался. Без дела ему в ней сидеть трудно, а дела больше никакого нет. Все запретили.
– И не будет, уж это ты мне поверь.
– Не удивлюсь. Тем интереснее, что в Авдотьине было. Шесть дней хозяин на праздники назначил. В первый – сбор гостей, а их из Москвы множество понаехало. Второй – день рождения Тургенева. Третий – Ивана Купалы, как праздник всех мартинистов, орденский день, иначе сказать. Четвертый – храмовый праздник в местной авдотьинской церкви – Тихвинской Божьей Матери. Пятый – именины Тургенева. А на шестой – разъезд самый что ни на есть торжественный. Но главное, Львовинька, вообрази только себе: все вместе с крестьянами праздновалось.
– Наикапитальнейшая глупость! Что ты хочешь, за то государыня мартинистов так особо и опасается. Дворяне – одно, селяне – совсем другое. Нечего их в наши дела вовлекать, головы им мутить.
– А вот мы с Дмитрием Григорьевичем – рассказывал я Левицкому про это все – не думаем так. От рождения все люди одинаковы, и чувства у них одни. Да ты послушай, что у меня в письме написано: «Господский двор, все жилые покои и оба берега реки против дому и саду были иллюминованы. Народ, восхищенный таким необычайным зрелищем, всеми знаками старался изобразить радостные свои движения. Иные пели простые свои песни, другие играли на свирелях; а иные, плавая по реке в лодках, которые все также были освещены, возносили в различных тонах гласы радости и удовольствия». Каково?
– Что ж, отличный праздник. Следовало ли только Новикову столько шуму устраивать да народу собирать? Аффектацию эдакую? Вот увидишь, никак не понравится это начальству. Опять неприятностей не оберется. Разве не видит, как недовольна им государыня. Попритихнуть бы ему до поры до времени.
– Это что же, выходит, и в своей деревне шагу без оглядки да опаски ступить нельзя? Полно, Львовинька, ты у нас человек светский, придворный, как же ты свои рассуждения к простому помещику применить хочешь? Хозяин же он у себя, хозяин!
– Не простой хозяин и не простой помещик, а почти что ссыльный. Эдакий парад мартинистов устроить! И что же там директор университета Московского – другого места Иван Петрович Тургенев не нашел, где все свои праздники семейные за один прием отпраздновать? Чиновный же человек, служилый! Подумал бы, кому такая демонстрация на пользу.