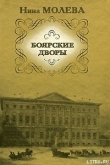Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Ну, Платон Александрович, это как сказать…
– И говорить нечего – подкинули.
– Может, и подкинули.
– А перед тем сочинили да написали.
– Как это? О чем ты, батюшка?
– О том, что чужую руку подделать невелик труд.
– Понадобилось покойницу обнести, вот и обнесли.
– Да для чего, скажи на милость?
– А тебе и невдомек, Анна Степановна? Совсем ты у нас проста стала.
– Хоть убей, Платон Александрович…
– Что мне тебя, красавицу нашу, раньше времени убивать? Дело нехитрое – чтобы цесаревич никакой супруге больше не верил. Сомнение в духе поселить. Много ли цесаревич один во дворце нашем, среди доносчиков и шпионов, навоюет?
– Да уж, Наталья Алексеевна, царство ей небесное, только о престоле и мечтала. Цесаревича тоже подзуживала: как это он править станет, какими, делами займется, как себя всему миру представит.
– Вот–вот! Не от родов, так от чего другого следовало такой великой княгине помереть, чем раньше, тем лучше. Разве нет, друг ты мой, Степановна?
– Тебя послушать!
– Умнее станешь. А когда же цесаревичу снова охота в брак вступить пришла? Помнится, недолго траур‑то он соблюдал.
– Недолго! Через четыре месяца свадьбу сыграли [18].
– Так не положено вроде.
– Цесаревич ни траура соблюдать не стал, ни на одну литию погребальную ходить не стал – как отрезало. И женился как со зла. На невесту глядеть не стал. Кого государыня выбрала, то и ладно.
– Ничего не скажешь, лекарь из нашей государыни отменный: ухо лечит – голову рубит. Вот оно откуда у них ни любви, ни согласия.
– Да, великая княгиня Мария Федоровна по первоначалу уж как к мужу ластилась, чего–чего ни делала, ничем цесаревича не проняла.
– Квочка. Ей бы детей рожать да семейные вечера устраивать.
– Твоя правда, великая княгиня семью свою ни на какую власть не променяет. Одна беда – учит детей государыню бабушкой звать. Прямо как назло. Они и поздравлять только бабушку приучены. Огорчение одно!
– Это верно – куда лучше внучкой, чем бабушкой быть. Вот ты мне про внучку и скажи. Значит, матушка нашей невесты по второму разу в Россию прибыла, только теперь уже не себя престолу российскому, а дочку свою продавать. Вернее, двух дочек.
– Видишь, Александр Павлович сразу к старшей потянулся. И впрямь хороша принцесса! Уж такая‑то скромница, такая разумница!
– Главное – против императрицы голоса не поднимет, муженька не настроит. А титул какой – принцесса Луиза–Мария Августа, принцесса Баден–Дурлахская.
– В святом крещении Елизавета Алексеевна.
– Гляди‑ка, как княжна Тараканова! А выбор снова верный: поди, цесаревич до гробовой доски обиды от тетки принцессиной не забудет, значит, и сердцем к ней не пристанет.
Петербург. Дом Д. Г. Левицкого. Д. Г. Левицкий, Н. А. Львов.
– От души поблагодарил бы вас, Николай Александрович, за столь лёстное предположение, только магический сей круг свое глубокое обоснование имеет – мартинизм, а сие означает общность взглядов. Не так ли?
– Ничего не возразишь. Вы Дмитриеву, когда он еще в полку служил, писали.
– Нет–с, в полку Иван Иванович только переводами с французского занимался, еще к дарованию своему как бы примерялся. А вот потом, в «Московском журнале» Николая Михайловича Карамзина, напечатал свою сказку «Модная жена» и песню свою, начал я портрет его списывать.
– Верно, верно, тогда дома, кажется, не осталось, где бы юные особы под аккомпанемент гитары «Голубочка» не пели. Как это там: дмитреевские стихи текут:
Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.
Он уж боле не воркует
И пшенички не клюет;
Все тоскует, все тоскует
И тихонько слезы льет.
– Что до барышень, то Иван Иванович в этом году вновь их сердца поразил. Уж на что моя Агаша скромница, а и та, как одна в дому остается, непременно запоет:
Ах! когда б я прежде звала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды!
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца;
Не была б в надежде сладкой
Видеть милого льстеца!
К удалению удара
В лютой, злой моей судьбе,
Я слила бы из воска яра
Легки крылышки себе
И на родину вспорхнула мила друга моего.
Мила друга моего;
Нежно, нежно бы взглянула
Хоть однажды на него…
– Думается, немало чувства в сии превосходные строки вложили собственные переживания Ивана Ивановича, несчастливая любовь его, которой замену он искать не хочет, да и не сможет.
– Кто‑нибудь из здешних питерских?
– Нет, горе сие постигло поэта нашего в Москве. Я имел счастие с сей достойной девицей познакомиться – она из Пушкиных. Анна Львовна Пушкина, сестрица не лишенного способностей пиитических Пушкина Василия Львовича.
– Сего молодого человека знаю.
– Иван Иванович барышне Пушкиной не один раз предложение делал. Каждый раз – отказ. Не то чтобы родители не хотели – сама невеста выбор сделала.
– Сердечно сочувствую Ивану Ивановичу. Человек он великих душевных достоинств. Остроумец, спорщик, каких поискать. Но никогда на позициях своих настаивать не будет. Непременно и чужой толк с великим терпением выслушает, поразмыслит, а уж потом то ли возражать станет, то ли согласится. Упрямства в нем никакого нет. Доброта к людям – ее бы у Ивана Ивановича многим и из наших мартинистов позаимствовать.
– Мечтает в отставку выйти. Службой уж давно тяготиться стал.
– Даст Бог, своего добьется.
– А там, так и говорит, стихами, знакомцами своими литературными и садом заниматься будет. Цветочным. Более всего цветы любит.
– Какой в Петербурге сад!
– А Дмитриев о Москве думает. Там и родных у него полон город – Бекетовы, Карамзин Николай Михайлович.
– Храповицкого Александра Васильевича недоставать ему будет. Друзья они большие.
– Немудрено. Способности литературные у обоих немалые, только Александру Васильевичу и служить не в тягость, и при дворе он своим человеком стал. Давно вы знакомы с ним, Дмитрий Григорьевич? Портрет‑то вы его, поди, много более десяти лет назад писали.
– Портрет здесь не веха. Александр Васильевич еще на Украине у графа Кирилы Григорьевича Разумовского службу начинал. Очень графу по сердцу пришелся легкостью и плавностью сочинений. Григорий Николаевич Теплов к заслугам его также относил, что пишет начерно так четко и красиво, что никогда рукопись перебеливать заново не приходится.
– Канцелярист!
– Александр Васильевич на том и в Сенат попал – равных ему не найти было. Только в департаментах много не высидишь, как он сам говаривал.
– А к государыне в личные секретари как же попал? Кто помог?
– Тут уж гадать не приходится. Покровителями Александра Васильевича и граф Александр Андреевич Безбородко и граф Петр Васильевич Завадовский были. Оба и помогли.
– Ласковый теленок двух маток сосет.
– Я бы по–иному сказал. Александр Васильевич всем полезен умел быть. Переводы превосходные делал, песни в русском стиле сочинять принялся и снова не без успеха. Но убеждениям своим ни на какой должности не изменял. У государыни оказался в доверенных лицах, и то утверждал, что самодержавие ограничить следует. Без того державе в цветущее состояние никогда не прийти.
– Многое своими глазами видел.
– Как и Гаврила Романович. Пока письмами государыниными заниматься не стал, о Фелице что ни день писал. Лишь потом уразумел – Фелица есть существо неземное и в жизни встретиться с ней никому не дано.
– Да, не случайно Александр Васильевич первые уроки языка российского Александру Николаевичу Радищеву давал.
– Какая же случайность. А Михайла Васильевич, брат ихний, и вовсе открыто об отмене крепостного права рассуждает. Мол, не имеет права один человек быть господином живота и смерти другого человека, одинаково с ним Господом Богом созданного. Оброки в своих деревнях до крайности снизил. Школу открыл.
– Слыхал, государыня по этому поводу известное недовольство высказывала, что сия поспешность ни к чему хорошему, кроме брожения умов, привести не может, и не следует одному помещику нарушать порядок, среди всех остальных помещиков установленный. И снова о мартинизме в дурном смысле поминала, так что Александру Васильевичу нелегко пришлось.
– Не за то ли и Гаврила Романович наш поплатился. Всего‑то три года секретарем при государыне пробыл и – отставка.
– Если и отставка, то хоть почетная. Сенатором стал, орден дали, чин тайного советника.
– Лишь бы с глаз долой. Не того от Державина ждали.
– Натурально, не того. Государыня полагала, что Гаврила Романович не только оды в честь монархини продолжать писать будет, но и в письмах необходимый порядок наведет: о каких докладывать, каких не замечать.
– Ведь находил же слова для Потемкина, и какие. В то время, когда государыня весь потемкинский спектакль собственными глазами лицезрела.
– Одним словом, сам о себе лучше всех Гаврила Романович написал:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняга вместо свисту;
А ей твердят: пой, птичка, пой!
Петербург. Зимний дворец. Бал у Екатерины II. Великая княгиня Елизавета, великий князь Александр, П. А. Зубов.
– Нет! Нет! Я не буду танцевать с вами во второй раз, граф.
– Но почему же, ваше высочество?
– Это неудобно.
– Неудобно на балу? Но для чего же тогда существуют балы? Я так плохо танцую? И не устраиваю вас как партнер?
– Вы чудесно танцуете, но…
– Тогда в чем же дело?
– Граф, вы же видите, бабушка–императрица недовольна, и я не собираюсь ее гневить. Ее величество так бесконечно добра ко мне.
– Императрица вам что‑нибудь говорила, ваше высочество?
– Нет, нет, ни единого слова. Просто я чувствую это.
– Отлично. Давайте поступим совсем просто. Я пойду и испрошу разрешения у ее императорского величества. Не сомневаюсь, государыня в одном танце нам с вами не откажет.
– Не делайте этого, граф, пожалуйста, не делайте!
– А это еще почему? Вас же смущает только недовольство бабушки, вот мы и выясним, существует ли оно на самом деле.
– Вам никто этого открыто не скажет, а на меня все будут дуться. Я не ищу неприятностей.
– А вам не кажется, ваше величество, чем так долго и бесплодно разговаривать на глазах у всех, мы бы уже давно протанцевали этот злополучный танец. Смотрите, он уже кончается.
– Боже мой, сюда направляется мой супруг.
– И что из этого?
– Я видела, его послала бабушка.
– Какое же тут основание для смущения? Мы же с вами просто мило болтали. Но как же вы очаровательно смущаетесь, ваше величество!
– Лиз, бабушка хотела, чтобы мы с тобой открыли этот котильон. Ты не обещала его, надеюсь, графу?
– Я ничего не обещала графу, решительно ничего. Но граф так настойчив. И он даже хотел идти к бабушке, чтобы она приказала мне с ним протанцевать. Я не разрешила ему, но он…
– Думаю, это пустые слова, бабушка бы такого разрешения ему никогда не дала. Но тебе, Лиз, следует быть наперед осмотрительней. За вами наблюдал весь зал.
– Боже мой!
– Да, да, именно весь зал. Даже бабушка несколько раз отрывалась от карт и смотрела на вас.
– Но что же мне делать? Я уверена, граф не оставит меня в покое. Ему доставляет удовольствие вгонять меня в краску.
– Ты должна придумать способ. Должна! Всегда можно выдумать предлог. Или наконец вообще уйти из зала. Пойми, мне трудно тебе чем‑нибудь помочь. Гнев графа нам совершенно не нужен. Он означает гнев бабушки, а мое будущее целиком зависит от императрицы.
– От императрицы? Ты хотел сказать, Александр, от твоего отца?
– Причем же здесь отец? Ты все еще не разобралась в хитросплетениях петербургского двора? Бабушка не терпит моих родителей, и даже не знаю, кого в большей степени – мать или отца.
– О да, императрица дарит тебя гораздо большей привязанностью, чем весь Малый двор. Но все равно твой отец…
– Лиз, я говорю тебе это потому, что ты моя жена. Что мое будущее – это и твое будущее. Так вот, императрица хочет передать престол – мне.
– А цесаревич?..
– В обход моих родителей. Так бывает, Лиз. Редко, но бывает в правящих домах. Бабушка с пеленок готовила меня занять престол. Она никогда не скрывалась с этим от меня. И я знаю, именно так написано ее завещание.
– Значит, все решено.
– В том‑то и дело, что нет. Завещание можно переписывать хоть каждый день. Все зависит от перемены настроений у бабушки.
– Но раз она так давно готовила тебя к престолу…
– И это тоже ничего не значит. Сейчас ее главным советчиком стал граф Зубов. Он может подсказать бабушке любое иное решение, и тогда все будет кончено.
– Этот ужасный граф Зубов!
– Ужасный только потому, что захотел протанцевать с тобой менуэт? Не настраивай себя против него.
– Александр, мне показалось, что он делает это назло бабушке. Я не могу избавиться от чувства, что в него вселился сегодня какой‑то злой дух.
– Думаю, этот злой дух сидит в нем всегда. Но бабушке так не кажется. Кто бы и что бы ни попытался рассказать императрице о графе, гнев обрушивается на рассказчика, а не на графа – запомни это, Лиз. Я ведь тоже не умею с ним справиться. Я порой чувствую, что он делает из меня игрушку, Но ничего не могу ему противопоставить.
– Он не показался мне очень умным.
– Никто и не говорит, что Зубов умен. Но он околдовал бабушку, и она готова на весь мир смотреть его глазами. Но не это самое страшное, Лиз, не это.
– А что же? Ты можешь мне сказать?
– Пожалуй, должен. Зубов всячески выражает свое почтение цесаревичу и – хочет завоевать именно симпатии.
– Но ведь бабушка…
– Лиз, есть еще одна возможность. С его помощью завещание в мою пользу… может исчезнуть. И тогда мне предстоит целая жизнь под солдатским сапогом отца. От одной этой мысли я готов во всем мириться с графом. Пойми, это очень важно, чтобы он оставался расположенным к нам. Ко мне и – к тебе. Если он хочет.
Петербург. Зимний дворец. А. С. Протасова.
Что делать? Что делать? Государыне не скажешь – обида горькая. Да и тебе не поверит – за Платона Александровича все объяснит, все оправдает. Перекусихина же виновата выйдет. Нет, только не это.
И Анна Степановна ничего не делает. Молчит. И ее понять можно. Как тут упредишь государыню. Да и то сказать, что она‑то, голубушка, сделать может. Начнет Платону Александровичу выговаривать, все равно проговорится, кто донес, кто осмелился. А как же! Они‑то с Платоном Александровичем помирятся, известное дело, а мне что делать?
Дальше молчать? Неужто государыня не видит, ведь волочится наш граф новоиспеченный за великой княгиней. На глазах у всех волочится – ни тебе стыда, ни совести. Да еще победно так округ поглядывает, мол, нет на меня управы.
Какая уж управа! Государыня день ото дня все больше ублажить его хочет. Разгневать боится. Ее государынино дело. А только при дворе все притаились. Ждут, какой скандал будет. То ли государыня Платона Александровича прогонит, то ли великой княгине достанется на орехи. В четырнадцать‑то лет как от себя беду отвести.
И зачем ему блажь такая? Чего, кажется, Не хватает. Государыня каждое словечко ловит, наглядеться–надышаться не может. Так нет – мало, все мало.
От великого князя–супруга чего ждать! Поди, и заступиться‑то как, сам не знает. А, может, бабушку прогневать боится. Ждет – глядишь, обойдется.
А не обойдется – разведет его бабушка, и весь сказ. Не любит Александр Павлович супругу свою. За версту видать – не любит. Слов досадливых не говорит, а интересу никакого нету. За целый вечер словом не перекинется. Танцевать пригласит, только если государыня прикажет.
Мальчишка, известно. Порода у них такая – забывчивая да отходчивая. Заступиться за великую княгиню как есть некому.
Вчерась подсмотрела – вышла великая княгиня в сад, горестно так задумалась, головку опустила. Хороша, что и говорить, хороша. Недаром француженка эта, что портреты пишет, Любрен, кажется, ангелом белым ее называете
Стоит княгинюшка. Бледней простыни кажется. Платочек кружевной в руке мнет. И слезы горохом сыплются.
А наш сокол‑то из‑за колонны на нее смотрит. Думала, с ходу к ней побежит. Ан как вкопанный встал. Глазам своим не поверила – так это он наглядеться не может.
Как у княгинюшки слезки‑то посыпались, побледнел весь. Желваки на скулах заиграли. Губы стиснул. А что если – и впрямь влюбился?
Время по его годам самое подходящее. От игр дворцовых к тому же притомился. Иной раз так государыне небрежно ответит, плечом досадливо поведет, что и на поди. А тут…
Удержу ведь не знает. Избаловали так, что руки опускаются. Государыня иным разом не знает как подступиться. Он ни перед чем не остановится. Себя погубит – это уж его дело, а вот княгинюшку жалко. Куда ей после сраму такого. Да и государыня никаких объяснений слушать не станет.
Видно, заподозрил вчера, что догадалась старуха Саввишна. Ввечеру в комнатки зашел. Так, мимоходом. Гостинчики на стол положил. Во все глаза смотрит: знаю – не знаю.
Эх, молодец! Да нешто по старухе что узнаешь! Присматривается, разговоры окольные заводит. Обо всем семействе государынином. И что в Гатчине бывал – цесаревича очень уважает. Ну, это‑то понятно – на всякий случай. О Великой княгине Марии Федоровне с великим почтением отозвался – мол, семью любит, детей столько – не тяготится. Рукодельничать любит. О Нелидовой ни полслова. А там и до внуков государыниных дело дошло.
Взяла старая грех на душу. А что делать? Взяла да и сказала, мол, не на сносях ли Елизавета Алексеевна. Бледна больно, дай про еду вроде забывать стала.
Вскинулся весь. Нет! Быть такого не может! Почему же, спрашиваю. Чай, с супругом живет. Молодым. Преотличным.
Закипел весь: нет! Знаю, и не подступался к супруге своей. Где ему! Да и она, мол, не торопится.
Обомлела вея: откуда ж тебе, батюшка, знать? Меж мужем и женой один Господь Бог – судья и свидетель.
Знаю, кричит, и весь разговор. Не мели, мол, ерунды, Марья Саввишна, сплеток не плети.
– Да какие ж сплетки, батюшка? Зазорного‑то в том что? На то люди и женятся, чтобы род человеческий продолжался, разве не так? А уж от царственной пары тем паче дитяти все ждут – наследник‑то нужен.
Все решила вызнать. Семь бед – один ответ. Как дело‑то далеко зашло? Никогда таким Платона Александровича не видала. Распалился весь, а уходить не собирается. Кто знает, может, старуха Саввишна чего интересного скажет. Ждет. С надеждой смотрит.
– Да потом, говорю, княгинюшка наша младшенькая очень супруга своего любит. Опять разгневался: откуда, мол, тебе знать? Александр Павлович, сколько мне известно, с тобой в твоей комнатке не секретничает.
– Не секретничает, это верно. А вот великая княгинюшка иногда посещением своим и пожалует. Застыл весь: у тебя бывает? Вот в этой комнатке?
В этой, батюшка Платон Александрович, в этой. Другой у меня тут для гостей и нету. – Напрягся весь: и часто? Часто к тебе, Марья Саввишна, заходит?
Где часто, отвечаю. Так, мимоходом. А он посмотрел мне в лицо – глаза бешеные, отчаянные. А это, говорит, она, наверно, бабушку заходит проведать. Вот и мне говорила, что бабушку огорчать не хочет. Известно, у старого человека и здоровье не то, и сердце шалит. У бабушки‑то.
Царское Село. Великая княгиня Елизавета, П. А. Зубов.
– Ваше высочество!
– Боже, вы меня напугали, граф!
– Напугал? Я просто стремился как можно скорее оказаться рядом с вами. Если моя поспешность могла вызвать ваш испуг, ради Бога простите вашего самого верного и покорного слугу.
– Не надо было торопиться. Я хотела проехаться в одиночестве. И моя кобыла не любит спутников. Так что разрешите мне остаться одной.
– Ваше высочество, все говорят о вас, как о самом мягком и благорасположенном человеке. Почему же мне ничего не достается от вашей доброты. Со мной вы положительно суровы.
– Я не сурова, граф. Я просто ценю свое одиночество. Мне так редко удается оставаться одной даже в Царском Селе.
– Я готов молча ехать вслед за вами и ни единым словом не нарушить столь любезного вам молчания.
– Нет, нет, это совсем не то. Граф, ваше присутствие меня стесняет.
– Позвольте, ваше высочество, но вы направили свою лошадь на самую оживленную аллею. А как же прелесть одиночества?
– Она уже рассеялась. Я постараюсь найти способ ее испытать в другой раз.
– Вы считаете меня назойливым, когда я просто боюсь за вас. Верховая езда – огромное удовольствие, но такая ли вы уверенная всадница, как самой себе кажетесь? Мне легче думать, что в случае чего я окажусь рядом и сумею вас обезопасить.
– Это совершенно лишнее. Я уверена в своих силах.
– Где же вам доводилось учиться верховой езде, кроме как в манеже?
– В манеже? Граф, вы не представляете себе моего родного герцогства. Шварцвальд не создан для прогулок в экипаже. Зато там есть тропы для прогулок верхом. Мне кажется, меня посадили на лошадь прежде, чем я научилась говорить.
– Вы так привязаны к своим родным местам?
– А разве это не естественно? Густые леса. Рейн. Скалы. Как все это непохоже на здешние виды…
– Но вы еще так мало видели, ваше высочество, и совсем не путешествовали.
– Вы думаете, у нас есть какая‑нибудь перспектива путешествий? С супругом? Пожалуй, очень небольшая.
– А у Александра есть?
– Само собой разумеемся. Императрица хочет, чтобы ее любимый внук знакомился с государством, которым ему придется управлять и которое он по необходимости должен знать. Потом всяческие маневры. Летние военные лагеря.
– Но вам можно будет его сопровождать.
– Вряд ли. Императрица отделяет семейную жизнь от государственной. А чем обычно занимаются при дворе дамы?
– Пересудами, сплетнями. Конечно, балами, туалетами.
– Но меня все это мало интересует.
– Правда? Тогда примите, ваше высочество, мой добрый совет. Вам нужен собственный малый двор. Круг близких людей, которые бы постоянно у вас собирались, могли бы рассеивать вашу скуку и – впрочем, пожалуй, больше ничего.
– Но вы хотели что‑то сказать, граф, договаривайте же.
– Всегда граф И ТОЛЬКО ГРАФ. Я ни разу не услышал из ваших уст своего имени. А мне так бы хотелось его услышать. Я сам не люблю его. Оно не кажется мне благозвучным, но что делать.
– Я не привыкла к принятому в России обращению по имени и отчеству. К тому же на французском они звучат не слишком удачно. Особенно в моем произношении.
– Но это может быть и просто имя.
– Граф, вы уходите от ответа. Чего же вы не договорили?
– Ах, это… Такой постоянный кружок ваших личных друзей снял бы всякие подозрения с отдельных участников.
– Подозрений? Но в чем?
– Ваше высочество, вы знаете, как беспощадны придворные сплетники. Но в таком варианте они окажутся бессильными.
– Не думаю. Впрочем, я посоветуюсь с Александром, если ему подобная затея покажется уместной.
– С вашим супругом? Но зачем? Неужели вы никогда не станете принимать собственных решений?
– Но ведь такой, как вы выразились, малый двор будет нашим с Александром, не так ли?
– И да и нет.
– Не понимаю.
– Вряд ли императрица благосклонно посмотрит на появление еще одного двора. Тем более ей хочется все время иметь Александра Павловича рядом с собой.
– Вот видите, граф, вы сами признаете свою затею невыполнимой.
– Вполне выполнимой, если это будет кружок ваших друзей, собирающихся постоянно в ваших апартаментах. Не все же время вы проводите в обществе императрицы. У вас остаются свободные часы, и вы вольны заполнять их тем, что вам приятно.
– Но я совсем не уверена, что такое собрание мне будет приятно.
– И вы были бы против, ваше высочество, если бы, предположим, само собой разумеется, в числе других ваших друзей у вас бывал бы и я. Вы бы скучали моим присутствием?
– Вы, граф? Вы среди моих личных друзей? Но как это возможно?
– Почему бы и нет? Разве я не бываю в разных петербургских домах?
– Но вы никогда не бываете в Павловске, не правда ли? Почему?
– Ваше высочество, вы самое недоверчивое существо, какое мне только доводилось встречать в жизни. Вы все время ускользаете из рук.
Царское Село. Екатерина II.
Одна… Все равно одна…
Для разговоров о делах – собеседников пруд пруди. О сердце – как улитке в раковине прятаться надо. Виду не подавать. Перекусихина с Протасовой довольны – на Платона не нарадуются. Похоже, он для Королевы Лото имя особое нашел – Анетт. Краем уха услышала. Старая дура как огнем обливается. Хуже собаки самой преданной в глаза смотрит.
Пусть. Какая разница. Покоя больше.
Чем только интересоваться ни стал. Удивительно, первый раз подумала: никогда с книгой в руках не видела. Храповицкий сказывал, и в доме его библиотеки нет. Журналы, газеты в руки не берет. Если что расскажешь, так и то вполуха слушает. Скучает.
Всегда так было. Со всеми. А здесь почему‑то в глаза бросилось. Князь Таврический с книгой! Придумать такое надо. А вот с Платоном подумалось.
Ничему не учился. Интереса, говорит, не имел. Больше по практической части. Это значит – прожектерство обожает. Планы всяческие строит. Не посоветовавшись, всем рассказывать принимается. Бог с ним. Не в книгах дело. Доброты нет. Не в словах резок – в поступках. Иной раз так глянет, язык к гортани присыхает. Изменился ли? Нет, пожалуй. Разве что язык развязал. Другим быть не может. Княжна Вяземская, что за Дмитрия Александровича вышла, тоже будто на мужа жаловалась. А живут обыкновенно. Дети пошли. О детях невзначай спросила: любит ли. Плечами пожал: пойдут – заботиться надо. А любить – чай, не полюбовники. Может быть, в семье так.
Марье Саввишне Шкурин сказал – сама за дверью слышала – Зубовы все такие: красивые да злые. Она тихо так прошелестела: уж какие есть. Человека не переучишь, когда поперек лавки не положишь.
Другое в голову пришло. Около великой княгини Елизаветы Алексеевны вертеться стал. Забавляется. То на танец пригласит. То по парку провожает. Ей не по душе – сразу видно. Дразнит девочку. От скуки, полагать надо. На придворных наших красавиц никогда не оглядывается. Вроде и нет их. Может, взгляда императрицы опасается. А тут – девочка. Шейка тоненькая. Локотки острые. Чуть что – в краску. Голоса – к губам наклонись – не услышишь. Сколько раз говорила: перед зеркалом упражняться непременно надо. Кивает согласно, и того тише шепчет.
Вот оно что: похоже. Похоже на Гри. Гри. с его кузиной. И возраст тот же. И манеры.
Нет! Нет! Все другое. Девица и великая княгиня. Как только подумалось. К нему приглядеться надо. Может, Марью Саввишну спросить. Нет, и ей признаваться не к чему. Только сама.
Гри. Гри. говорил: как такое в голову тебе пришло. Шутил. Иной раз и меру перебирал. Девочка, мол, ей бы в куклы играть. А вышло – свихнулся, когда померла. Свихнулся богатырь, что былинка такая согнулась.
Вчера вечером задерживать не стала. Пусть сам решает. До полуночи о проекте своем персидском толковал. Как войска российские до окиана Индийского довести, чтобы им там башмаки свои в водах теплых, заповедных вымыть.
Бред! Спорить не стала: только злиться начинает. И будто с военачальниками все обсудил. И будто расходы подсчитал. И сам готов в поход идти.
Долго ждала. Уняться не может. С покойным князем Таврическим по поводу Византийской империи сражаться продолжает. В азарт вошел. Руками машет. Комнату взад–вперед меряет. Чуть что не кричит.
Отговорилась: все обдумать надо. Вспыхнул: мои планы обдумывать, а новости французские без конца слушать изволите. Нету ваших интересов в Европе. На Восток наш исторический путь лежит. О восточных походах и заботиться надо. Надоели якобинцы! Надоел Конвент! Ничего о них слышать не хочу!
Так ведь не отмахнешься. Сам видишь, зараза день за днем по нашей стране расползается. Вот и надо, говорит, армию собирать, людей в поход отправлять, и мы, графы Зубовы, первые. Своего рода не посрамим.
Остановила: поздно уж. Спохватился. К руке приложился. И нет его. Поцеловать и то забыл.
А все‑таки похоже: Гри. Гри. и Зиновьева. Катенька…
Царское Село. М. С. Перекусихина и великая княгиня Елизавета Алексеевна.
– Марья Саввишна, вы принимаете гостей?
– Ваше высочество! У меня! Такая честь! Прошу вас, прошу вас!
– Дело у меня к вам, Марья Саввишна.
– А коли дело, так послали бы за мной, ваше высочество. Не трудились бы сами. Не для вашего высочества мои каморушки. Господи, уж не знаю, как ваше высочество и усадить. Может, чайком угостить? Да что это я, совсем с пути сбилась!
– Да вы не тревожьтесь, Марья Саввишна. Я к вам потихоньку. Чтоб никто не видел. Не знаю я, у кого совета спросить. Страшно мне, Марья Саввишна, так страшно.
– Ваше высочество, голубушка вы моя, ишь как дрожите. Да вы говорите, говорите. Коли смогу, всегда помогу, а чайку отхлебните. Чай у Перекусихиной кто только не пивал, все довольны оставались. Чаек‑то я научилась заваривать. Пейте, пейте, ваше высочество, за чайком и об деле вашем потолкуем.
– Марья Саввишна, может, и не надо было мне к вам приходить. Может, лучше было бабушке прямо сказать. Только решиться не могу. Не прогневать бы бабушку, Александру не повредить.
– Еще отхлебните, ваше высочество, еще глоточек. Успокаивает чаек‑то, отлично успокаивает.
– Я о… насчет графа…
– И не надо больше ничего говорить, ваше высочество, себя‑то тревожить. Старуха Перекусихина все знает.
– Что знаете? Господи, неужели все заметили?
– Все не все, а до меня давно дошло. Баловство‑то это. Как есть дурит наш Платон Александрович.
– Зачем это ему, Марья Саввишна? Ведь нарочно он все – то час битый с разговором пристает. Уйти – неучтиво, остаться – еще хуже. В боскетах меня на конной прогулке отыскал. Не езжу я больше верхом. Так люблю, а не езжу. Люди ведь Бог весть что додумать могут.
– Люди‑то куда ни шло, а вот государыня…
– Я и хотела государыне сказать, чтобы она графу приказала…
– Что вы, что вы, ваше высочество, и думать о таком не смейте. Вот уж тут горя настоящего наживете.
– Может, кажется так, только граф будто нарочно на балу подойти старается. Танца как начнет добиваться, я теперь и танцевать не стала. Только когда бабушка с Александром прикажет. Не знаю, что делать, Марья Саввишна, не знаю. Дома папеньке бы сказала, а тут…
– Подождите, ваше высочество, не убивайтесь так. Придумаем, быть такого не может, чтобы не придумали. Только государыне ни словечка не говорите. Как мне вам получше‑то сказать. Для государыни Платон Александрович всегда прав будет – вот дело‑то какое. Так что уж вы, ваше высочество, потерпите, поостерегитесь. Лучше иной раз больной сказаться, чем так‑то… Вот беда‑то. Господи прости!
– Я и Александру говорила. Он тоже остерегаться велел, а сам…
– Александра Павловича тут винить, ваше высочество, нечего.
– Да разве я виню. Рассказываю вам просто.
– А самой‑то вам, ваше высочество, наш граф часом не приглянулся? Хорош ведь молодец, так хорош, ничего не скажешь!
– Зубов? Да ведь он грубый, Марья Саввишна. Может, мне показалось. Книг никаких не читал. Говорить с ним не о чем. И на лошади плохо сидит. И всем хвастается.
– Тихо, тихо, ваше высочество! Таких речей тоже, не дай Господь, не заводите! Не приглянулся, и слава тебе, Господи! Значит, от большой беды Вседержитель наш отвел. А уж во дворце‑то мы с Божьей помощью управимся.