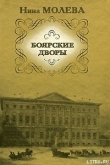Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– К сожалению, все выглядит именно так, ваше величество. Правда, Людовик поспешил дать отставку министерству, но этим вызвал лишь народный бунт. Наш корреспондент пишет, что 20 июня произошло нечто страшное. Толпы народа ворвались в королевский дворец и, окружив короля, стали требовать немедленного подписания декретов об эмигрантах и священниках и возвращения жирондистских министров.
– Правление из‑под палки! До чего же жалкая роль у короля!
– Государыня, если бы только одним этим ограничилось дело!
– Что бы вы ни сообщили мне дальше, это будут всего лишь логичные следствия жалких поступков. Людовик сумел до конца скомпрометировать самую идею самодержавной власти. После него будет одинаково трудно управлять своими государствами всем монархам. Уверена, ему не удалось откупиться от толпы.
– На этот раз во всем был повинен манифест командующего австро–прусской армией герцога Брауншвейгского. Он пригрозил французам сожжением домов, разрушением Парижа и прочими насилиями. 10 августа в столице вспыхнуло новое народное восстание, причем восставшие перебили всю стражу короля.
– Боже правый! А король? Он жив?
– Был жив, пока писалось донесение, во всяком случае. Вместе со всем семейством он искал спасения в Законодательном собрании.
– Вы так говорите, как будто он не нашел защиты.
– Возможно, король спас в этот момент жизнь себе и своему семейству, но лишился власти. Навсегда. Законодательное собрание приняло решение отрешить его от власти и взять под стражу до решения вопроса о будущем политическом устройстве государства. Соответственно принято следующее решение – немедленно созвать чрезвычайное собрание под названием Национального конвента.
– Это конец.
– Страшно подумать.
– Это конец, Храповицкий, и нечего себя обманывать. Пугачевский бунт теперь охватит всю Европу. Кому поручена исполнительная власть?
– Дантону, который и был одним из организаторов восстания 10 августа. Наш корреспондент утверждает, что время становится все более и более тревожным. Начинается иностранное нашествие, но французская армия на деле оказывается никуда не годной. Лафайет, который командовал одной из армий, после событий 10 августа хотел двинуться на Париж, чтобы подавить бунт, но солдаты отказались ему подчиняться. Лафайет не нашел ничего лучшего, как бежать в Германию. После этого Дантону уже ничего не стоило добиться от Национального конвента разрешения обыскивать родственников эмигрантов, не присягнувших новому правительству священников и вообще кого сочтет «сюспект» – подозрительными.
– Это означает полный разгул и бесправие. Так можно сводить счеты с любым непонравившимся тебе лицом и грабить все, что тебе приглянется. Как теперь его величество видит дело своих рук – своих уступок и компромиссов!
– Да, письмо было доставлено нам с превеликим трудом. Агенты Дантона и вообще ретивые сторонники новых властей хватают всех подряд. Тюрьмы переполнены. Арестовывают не только мужчин и женщин, но и стариков и детей. Если мест в тюрьмах не хватает, их просто избивают. К тому же власти сочли нужным допустить в тюрьмы шайки мародеров, которым было разрешено в течение трех первых дней сентября творить все, что они хотели. Число убитых и замученных колоссально. Между тем через восточную границу во Францию вступили уже австро–прусские войска.
– Это хотя бы отрезвило народ?
– Ни в коей мере. Этот сброд с диким восторгом пополняет ряды народного ополчения. 21 сентября открылся в Париже Национальный конвент, а днем раньше при Вальми была отбита атака прусаков. Более того. Французы перешли в наступление. Может быть, хоть это приведет к некоему порядку.
– Нет, Храповицкий, никакие интервента здесь не смогут помочь. Нужен внутренний мир, а он без сильной власти не наступит. Дантоны созданы не для того, чтобы созидать, но только разрушать.
Павловск. Дворец. Личные комнаты Е. И. Нелидовой. Великий князь Павел Петрович, Е. И. Нелидова.
– Государь, какой у меня сегодня счастливый день!
– Что же могло вас так обрадовать, Катишь? День как день. Серый. Пустой.
– И вы спрашиваете? Вы можете спрашивать, ваше высочество!
– Но право же, мне ничего не приходит в голову.
– Боже, государь, но вы же видите причину моей радости – она у меня в руках!
– Письмо? Мое письмо?
– Конечно же! Битую неделю я не получала от вас ни строчки, и это было ужасно.
– Но мы виделись с вами каждый день. И не только виделись…
– Но меня это совершенно не удовлетворяет. Встречи на людях! Под ревнивыми и недобрыми взглядами. Бр–р-р! Меня прохватывает от них зимним холодом. А все иное – рассчитанное по минутам. С оглядкой. Вечными опасениями…
– Что делать, это была и на самом деле неудачная неделя. Мария Федоровна неважно себя чувствовала и настаивала на постоянном моем присутствии. Какой же невыносимой она способна быть!
– И вы верили в эти дипломатические недомогания?
– Я знал им цену. Но окружающие, ее друзья с их нарочитыми хлопотами, разговорами о докторах, о предосторожностях…
– Мне кажется, великая княгиня положительно злоупотребляет вашим долготерпением и добрым сердцем. Вы и так вынуждены отдавать ей весь досуг, посвящая его занятиям, которых не любите, едва выносите. Всего несколько считанных минут для нас двоих – разве этого так много?
– Бесценный друг мой, вы же знаете, вы единственный в моей жизни источник добра и света. Я бы с величайшей охотой переменил все, но нахожусь под двойным наблюдением: Большого Двора и собственной жены, которая к тому же не устает прибегать к слезам и жалобам, чего я совершенно не выношу. А императрица! Вообразите, она вчера начала читать мне мораль в присутствии своего любовника! В присутствии развалившегося в креслах Зубова!
– О Боже, какой ужас! Мой государь, простите меня! Я не должна была начинать этого неприятного и бессмысленного разговора. Но если бы вы знали, какое счастье получать от вас хотя бы несколько строк, набросанных вашей любимой рукой, и перечитывать их совсем одной, запершись в собственной спальне без свидетелей. Мне кажется, вы должны чувствовать эти минуты такой поразительной близости, вы, как никто, умеете вложить в несколько слов столько непосредственности, доброты и чувства.
– Я часто думаю, мой друг, что мне вас послало Провидение. После первого своего брака я потерял всякую надежду на личное счастье.
– Государь, я не буду вас отговаривать вспоминать те далекие дни, но поверьте, я сердцем чувствую: ваша первая супруга не могла быть виновата перед вами.
– Вы действительно не верите, Катишь, в ее измену?
– Нет и нет! О, я слишком хорошо знаю, как легко создать видимость обстоятельств супружеской неверности, даже прямого предательства. Где, как не во дворце, обитают самые умелые мастера этих омерзительных метаморфоз.
– В этом вы безусловно правы.
– Но тогда почему же вы не распространяете этой правоты на самую близкую вам когда‑то женщину? Почему так поторопились ее осудить?
– Но факты…
– Они не сами открылись вашим глазам – их вам сумели представить. Разве не так?
– Если бы вы знали, как я был тогда ошеломлен и подавлен.
– Легко себе представить! Вы с вашей легкоранимой душой, измученным сердцем, в окружении сплошных доносов и лжи. Это было бы также, как если бы вы, мой государь, отвратили от меня свое сердце.
– Этого никогда не произойдет, и вы это отлично знаете.
– Пусть вашими устами глаголет истина. Для меня в этом вся жизнь, мой государь.
– Скажите же, мой друг, что я мог сделать бы еще, чтобы вас уверить в глубине и вечности своего чувства?
– О, это совсем просто. Тратить несколько минут, пусть даже не каждый день, на крохотные записки.
– Эта ваша извечная скромность, Катишь. Впрочем, пока я почти ничего не могу, будущее.
– Вы перестаете верить в будущее, мой государь? О, как вы неправы. Теперь оно уже совсем близко. Каждому человеку отведен свой век, и ваша августейшая родительница не составляет исключения.
– Ее век может оказаться дольше моего.
– Нет, нет! Это было бы вопиющим нарушением справедливости и – законов натуры.
– Но разве вы не видите, как расцвела она с появлением нового фаворита. Она даже позволяет себе опускаться до прямого кокетства, чего с ней никогда не случалось…
– И которое так явственно подчеркивает прожитые ею годы.
– В вас говорит, мой друг, предубеждение любящей женщины. Именно оно заставляет вас ревниво находить то, чего не видит равнодушный глаз.
– Вы требуете полной моей откровенности, государь? Что ж, я решусь и на нее. Если только она не вызовет в конечном счете вашего неудовольствия. Ваша родительница…
– Прошу вас, не пользуйтесь этим подчеркиванием семейных уз. Мой несчастный отец, но она…
– Мой государь, пусть императрица. Разве вы не обращали внимания, каким по утрам представляется лицо императрицы? Эти мелкие отеки, которые не способен уничтожить даже лед, которым императрица, как обычно, пользуется для умывания. Эти мешки под глазами. Синева вокруг глазниц. Подтянутые сухие губы в сети мелких морщин.
– Говорят, она и смолоду не была хороша собой.
– Государь, императрицу делали величественной ее художники. Она никогда не ошибалась в их выборе. Они делали свое дело придворных льстецов, императрица же следовала их видению. Поверьте мне, государыня штудировала часами свои улыбки, снисходительные кивки, протянутую руку, выражения благоволения, равнодушия, легкой брезгливости. В этой палитре ей действительно нет равных. Но ведь рядом с человеком, которым она увлечена, женщина не может не терять контроля над собой. Она словно растворяется в своих восторгах, оправданных или неоправданных. Она живет им – его вниманием, оттенками его чувств. Иными словами, она становится просто женщиной, а для такой метаморфозы время императрицы слишком давно прошло. Эпизод с Зубовым это так ярко выявил.
– Катишь, оказывается, в вас пропадает великолепный психолог. Вы должны были бы обратиться к литературным опытам, поверьте мне. И если бы вы знали, ваш монолог принес мне странное облегчение.
– Мой государь, может быть, он просто заставил вас обратиться к вашим собственным впечатлениям. Вы прояснили для себя то, над чем не задумывались, что ускользало от вашего внимания.
– Вы правы. Я словно увидел Екатерину в другом свете.
– А этот капот, в котором императрица стала позволять себе появляться в утренние часы. Он доказательство ее истинного возраста, естественного старческого желания покоя. Ведь она путает его с очарованием дамского неглиже, которое способно усилить женское очарование. Походка императрицы стала более размашистой, широкой. Она медленнее садится и с заметным трудом встает. Рядом с Зубовым это становится особенно заметным.
– Друг мой, мне всегда казалось, что вы находитесь в большей степени под воздействием императрицы. Еще со времен института.
– И да и нет. Истинному увлечению скорее всего помешали мои актерские опыты. Актер невольно слишком внимательно присматривается к людям, как бы раскалывает скорлупу ореха, в которую каждый из нас заключен.
– Признаюсь, мой друг, что меня задевает еще одно обстоятельство. С каким оживлением императрица обсуждает матримониальные планы моих дочерей. Кажется, она вообще считает их собственными детьми, забывая о существовании истинного их отца и матери.
– Вы имеете в виду проект брака великой княжны Александры Павловны с королем Швеции, мой государь?
– И это тоже, при том, что Густав IV совсем юн, да и нашей невесте далеко до брачного возраста.
– Но ведь все это можно отнести за счет дипломатических игр. Между тем портреты Александры Павловны прекрасны. Мне одинаково нравятся все три, которые принадлежат кисти Левицкого.
– Вы не ошибаетесь. Катишь, разве их не четыре?
– Давайте сочтем. На лестнице Камероновой галереи Царского Села, в рост.
– Эго профильное изображение мне не кажется слишком удачным. Александра смотрится старше своих лет. К тому же ей не к лицу туалет большого выхода со всеми орденскими регалиями.
– Но разве плохо представить великую княжну почти хозяйкой дворца? Когда я вспоминаю достоинства вашей старшей дочери, мне остается только удивляться талантливости ее родителя, от которого она их позаимствовала. Говорить с такой легкостью и грацией на четырех языках, отлично писать и рисовать, играть на клавесине, петь, танцевать – и все это с одинаковым совершенством!
– Плохо другое: ее трудно назвать красавицей.
– Полноте, государь! А как хороша Александра Павловна на трех остальных портретах, из которых один вы оставили себе в Павловске, а еще один забрала императрица–бабушка.
– Я так хочу счастья для нее.
– На портретах Левицкого в ней столько очарования юности, непосредственности, поэтичности! Счастье не может ее миновать!
– Вы положительно неравнодушны, Катишь, к кисти этого художника.
– О, еще бы, мой государь. Он заставил вас обратить на меня ваше внимание.
– Это произошло бы и без портрета Левицкого, моя прелестная Сербина, хотя я не отказываю в очаровании и его холсту.
– Вы балуете меня своими похвалами, мой государь. Но вы знаете, чему я искренне была удивлена? Тому, как Левицкий точно уловил характер Марии Павловны.
– Маши?
– Она же истинный сколок с вас, мой государь, с вашей живости и решительности.
– Не знаю насчет сходства со мной, но ей следовало родиться мальчишкой. Достаточно посмотреть на ее любимую позу – взяться руками под бока и в таком виде шагать по комнате.
– Мой государь, но даже юный возраст не мешает нашей независимой нравом особе проявлять редкие способности.
– Вы и у нее их находите, Катишь?
– Мария Павловна любит читать, обожает музыку, и ее почти невозможно оторвать от картин в галерее Павловска. Было бы удивительно, если бы она не стала вашей любимицей.
– Вы правы, мой друг. Она мне особенно дорога. Как Катенька матери и своему старшему брату. Александр способен возиться с ней часами, как заправская нянька, что никак не свидетельствует о мужественности его характера. А ведь он прежде всего будущий император и воин.
– Не будем говорить о престоле, мой государь. Он прежде всего надлежит вам, и я уверена: вы будете царствовать долго и счастливо. Сын должен почитать за счастье именно ваше правление. Но вместе с тем как не чувствовать Александру Павловичу любви к такому крошечному и к такому веселому существу?
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. В. Храповицкий, С. И. Шешковский.
– Ваше величество, вы сами распорядились, чтобы он явился к вам только с необходимым признанием Новикова. Его нет скорее всего потому, что не удалось добиться нужных результатов.
– Шешковский? Никогда не поверю. При всех обстоятельствах он должен быть сегодня у меня с докладом. Я не хочу выглядеть смешной в глазах Платона Александровича, который вполне справедливо обвиняет – да, да, именно обвиняет! – свою государыню в излишней мягкости и снисходительности.
– Ваше величество, а Степан Иванович уже в антикамере!
– Ты и в самом деле удивительный слуга, Степан Иванович, только что сказала, что хочу тебя видеть, а уж ты на пороге.
– Матушка–государыня!..
– С поклонами и присказками потом, сначала о деле. Чего добился от своего подопечного?
– Так я для того, государыня–благодетельница, и пришел, чтобы досконально узнать – в чем мой узник повиниться должен.
– А сам он? О событиях французских хотя бы что говорит?
– Ничего, матушка–государыня, ни единого словечка. Я уж и кнутик в ход пустил. Пока еще легонечко – для понятия больше. Зубами скрыпит и молчит. Откуда силы берутся. Ведь в чем только душа держится. Уж такой гнилой, такой хилый…
– За силами у мартинистов дело не станет. Всегда знала – беды с ними не оберешься. На своем стоять умеют. На деньги не идут. Корысти не знают. Друг друга нипочем не предают. Радетели народные, чтоб они сгинули. Господи, прости!
– Еще, государыня–благодетельница, князь Прозоровский предположение такое высказывал, что господин сочинитель Карамзин Николай Михайлович путешествие свое по Европе на новиковские деньги совершал. Своих‑то у господина Карамзина кот наплакал. Из товарищей тоже – наверняка известно – никто его нужной суммой не ссужал. Князь полагает, что бесперечь новиковских рук это дело.
– Узнал?
– Где там, только досада берет. Кнутобойству бы его по полной форме подвергнуть, если ваше на то разрешение, матушка–государыня, будет.
– Не выживет, думаешь?
– Не выживет, государыня–благодетельница. Тюремный лекарь так и сказал: пустое дело.
– А про Малый двор хоть намеком оговорился?
– Один раз сказал: знать ничего не знаю, и все тут. Да вы, матушка–государыня, и в мыслях дела этого не держите. Разберемся во всех винах вольных и невольных. Ведь я, государыня–благодетельница, без Божьей помощи ни шагу. Коли где силу и приходится применить, так сразу акафист Иисусу Сладчайшему и Пречистой его Матери прочитаю.
– Знаю, знаю, Степан Иванович. Ты лучше скажи – в крепости Новиков под своим именем?
– Как можно – под нумером. Преступник государственный, особо опасный – какие уж тут имена.
– Вот что я тебе скажу, Степан Иванович. Хочу, чтоб над твоим подопечным суд был!
– Государыня–благодетельница, а как же с оглаской? Не избежать ведь!
– При закрытых дверях чтоб судили.
– Как прикажете, государыня. А приговор какой?
– К тягчайшей и нещадной казни.
– Через повешение? Или четвертование?
– На усмотрение судей.
– Судей когда, государыня–благодетельница, назначите?
– Держи записку – всех написала. Прочтешь – уничтожь. Нечего ее хранить.
– И приготовьтесь вот к чему. Сначала Новикову приговор объявить и в камеру смертников забрать. А на следующий день, как все перечувствует, о великой монаршей милости сообщить: пятнадцать лет заключения. В крепости. Одиночного.
В. В. Капнист – А. А. Капнист. Петербург. 31 декабря 1792.
Прибыл сюда 26 рано поутру, ибо остановился на восемь дней у Николая Александровича [Львова] в Черенчицах. Тотчас же отправился к Гавриле Романовичу. Он, как и Катерина Яковлевна, был очень рад видеть меня. Остановились у Николая Александровича, где встретил Федора Петровича и мы вместе обедали у Гаврилы Романовича. На другой день ввечеру был им представлен Платону Александровичу Зубову, который очень хорошо меня принял.
В тот же день отправился с визитами, и, между прочим, был у Петра Федоровича Квашнина–Самарина, который, как и все его семейство, был мне очень рад. Забыл сказать, что в день приезда был я у Михаила Никитича, который приветливейше меня принял и на другой день, возвращаясь от Платона Александровича, снова был у него с Гаврилой Романовича.
Павловск. Великий князь Павел Петрович, Е. И. Нелидова.
– Боже, как я ненавижу эту женщину, как ненавижу…
– Государь, я не спрашиваю, о ком…
– Я ничего не скрываю. И не буду скрывать! Речь идет об императрице, об этом чудовище, отравившем мне всю жизнь!
– Бога ради, государь! Как можно!
– Я так думаю и так чувствую!
– Но ведь кругом уши! Вы не в безопасности каждую минуту. Если вам не дорога ваша собственная жизнь, пожалейте тех, кто без вас не мыслит своего существования. Поостерегитесь, сир!
– Император! Если бы это говорили не вы, Катишь, я бы принял подобное обращение за насмешку. Да, да, именно насмешку.
– Мой государь, я говорю о том, что неизбежно совершится: вы поднимитесь на отеческий престол и тогда…
– Вы повторяете эту перспективу как заклинание, Катишь, но ваше заклинание раз от разу теряет свою силу.
– Заклинание! Побойтесь Бога, мой государь, это всего лишь констатация освященного временем порядка вещей.
– Катерина Ивановна, остановитесь! Вы знаете, что довело меня до исступления? Нет? Так не пытайтесь осуществить воскрешение Лазаря – оно удалось только нашему Вседержителю. Вы знаете, что этот несчастный книгоиздатель Новиков был привезен из Москвы в Шлиссельбургскую крепость? И подвергнут допросу не кем‑нибудь – самим Шешковским?
– Господи, сохрани и помилуй…
– Да, да, императрица передала в руки кнутобойцы умирающего человека. Более того – дала этому выродку рода человеческого специальные указания не предпринимать никаких мер предосторожности.
– В чем бы он ни был повинен, но Шешковский…
– Почему же, я скажу вам, в чем вина Новикова. Меня не интересует, что именно решили ему приписать.
– До меня дошло, что речь шла о масонстве.
– И что из того? Оно никогда еще в Российской империи не запрещалось, не так ли?
– Да, но воля императрицы…
– Воля императрицы обратилась на одну–единственную подробность: связь масонов с великим князем, наследником престола.
– Но ведь это дело вашей совести, государь, вашего душевного выбора. Человеку нельзя приказать…
– Катерина Ивановна, вы говорите глупости. Масоны – это множество мыслящих, не подчиняющихся монаршей воле людей, объединенных в организацию с твердой дисциплиной. Дисциплиной по разуму – не от страха. И все эти люди могут оказаться сторонниками наследника престола. Вот вам суть дела.
– Неужели это так, государь? Неужели ревность к власти…
– А что иное? Хотя императрица и делает в своем указе все, чтобы скрыть истинные свои побуждения.
– Что же, императрица права в главном: масоны все на вашей стороне, как все сколько‑нибудь образованные люди.
– Ей стали известны даже те немногие личные встречи, на которые приходилось согласиться.
– Но ведь каждый раз речь шла всего лишь о книгах, которые вы, государь, хотели иметь, а они вам доставляли. Вы не крылись с этими встречами.
– Как видите, к сожалению. К сожалению прежде всего для этого злосчастного поручика. Хотите знать содержание указа? Нет–нет, вы положительно должны его знать. Мне кажется, в нем эта до мозга костей фальшивая женщина превзошла самою себя.
– Государь, сжальтесь!
– Оставьте меня в покое. Вот вам обвинения, в некоем, никак иначе не раскрытом, гнусном расколе. Некие корыстные обманы, также никакими документами не подтвержденные. Сношения с герцогом Брауншвейгским и многими иностранцами – открытые, явные, связанные исключительно с масонством.
– Но государь, значит, обвинению подверглись все масоны? Это произведет настоящий переворот в нашем обществе.
– В том‑то дело, что нет. Указ не распространяется на всех масонов. Он выбирает единственного среди них – кто общался с наследником престола – и на него одного обрушивает всю тяжесть необъясненных обвинений и фантастическую кару. Вы можете себе вообразить: 15 лет одиночного заключения в крепости!
– Боже праведный!
– И это еще в виде величайшей монаршей милости. Именно милости! Высочайший указ так и говорит, что за свои «обнаруженные и собственно им признанные преступления», а дальше – «хотя он и не открыл еще сокровенных своих замыслов». Каково?
– А у него, говорят, остались дети круглые сироты. Супругу господин Новиков недавно будто бы похоронил. Она кончила наш Смольный институт.
– Вполне вероятно.
– Не знаю, стоит ли вас, государь, огорчать еще одной подробностью. Но вы говорили о жестокости…
– Я слушаю, Катишь.
– Эти дети больны. Тяжело больны. Когда посланная главнокомандующим Москвы князем Прозоровским в новиковскую деревню команда производила обыск, солдаты настолько напугали детей, что один потерял с того времени дар речи, а другой бьется в постоянных нервических припадках.
– Наглядная иллюстрация к образу всемилостивейшей и справедливейшей убийце моего отца.
– Государь, им надо помочь!
– И тем приговорить к смертной казни. Императрица в таком случае отыграется не на вас или мне, а на самых беззащитных. Вы еще не поняли этого?
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, П. А. Зубов.
– Ты не перестаешь меня удивлять, мой друг.
– Что же на этот раз, ваше величество, вы хотите поставить мне в вину?
– Почему же сразу в вину. Я просто удивлена, что ты не прибег к моему вполне дружескому, да кстати и необязательному для тебя совету.
– Вы хотите сказать, я не озаботился получением соответствующего указа императрицы. Но я подумал, что шефу кавалергардов нет нужды беспокоить государыню таким простым вопросом, как назначение собственного секретаря. Я не ошибся – разговор идет об Альтести?
– Никогда не слышала этого имени.
– Что же из того?
– По–видимому, этот господин никак не зарекомендовал себя по службе и не известен среди высоких чиновников.
– Значит, у него замечательная перспектива. Кто знает, может, через считанные месяцы или даже недели вы сами захотите иметь Альтести в своей высочайшей канцелярии.
– Время покажет. Но хоть сейчас объясни мне, Платон Александрович, чья это креатура?
– Креатура? Вы полагаете, ваше величество, я не сумею сам отыскать полезных мне людей, во всяком случае, без подсказок ваших прямых слуг.
– Единственное, что я узнала о нем – он совсем недавно вступил в российскую службу.
– Ах, так вы уже собрали необходимые сведения, ваше величество. В таком случае у меня есть встречные претензии: почему вы не пожелали обратиться непосредственно ко мне? Чем вызвано ваше недоверие или предусмотрительность?
– Платон Александрович, поверь, я меньше всего хотела уязвить твое самолюбие.
– И тем не менее чувствительно уязвили чувство собственного достоинства. Я не желаю жить, как таракан в стеклянной банке. Бели вы желаете применять свои методы просвещенного правления, или иначе – просвещенного сыска, то ради Бога, не на мне. Я этого не потерплю.
– Но, друг мой, ты снова возбужден выше всякой меры.
– Ищите причины в собственных действиях, ваше величество. Сомневаюсь, чтобы у вас был более преданный человек, чем Платон Зубов, и тем не менее вы не устаете его подозревать и проверять.
– Платон Александрович, ты делаешь из мухи слона.
– У нас разные точки зрения. Мне кажется, это ваше величество хочет представить слона мухой. Ваше величество поручили мне высокую должность, следовательно, я один в ответе за нее, а не вместе с вашими бесконечными соглядатаями и доносчиками.
– Друг мой, друг мой, ради Бога прости, если тебя так волнует этот твой новый секретарь. Я ничего не подозреваю и ни в чем никого не обвиняю, но разве не естественно хотеть узнать о тех, кто окружает близкого тебе человека? Если тебе неприятен этот разговор, давай его прекратим.
– И ваше величество без моего участия соберет все равно необходимые сведения о моем новом сотруднике. Нет уж, увольте, я предпочту сам отчитаться в интересующих мою государыню сведениях.
– Платон Александрович, ты незаслуженно обижаешь меня.
– Теперь мне еще предстоит выслушивать бесконечные сетования! Но я сказал, что сам отчитаюсь во всем и попрошу прекратить ваши розыски. Все равно они станут мне известны, а это ничего доброго не ворожит для наших отношений. Которыми я хотел бы бесконечно дорожить. Потому что ничего, кроме них, ценного не вижу в жизни.
– Как я люблю в тебе эту смесь независимости и искренности.
– Значит, во мне все же имеются какие‑то достоинства. Это меня возвращает к жизни.
– Платон Александрович!
– Так вот, Альтести. Андрей Иванович вступил в Коллегию иностранных дел. Он не первой молодости. У него сын, уже вступивший в русскую военную службу. Он служит на сегодняшний день поручиком в Изюмском гусарском полку, и я не прошу для него никаких чинов или перемещений. Молодой человек вполне доволен своим положением, а его командиры – таким гусаром.
– Его фамилия говорит об итальянском происхождении.
– Андрей Иванович уроженец Рагузы.
– Рагузы?!
– Что вас так смутило, ваше величество? Этот город…
– Я слишком хорошо знаю этот город. Из него произошло несколько русских государственных деятелей самого высокого ранга. При Петре Первом…
– Не старайтесь меня убедить, что вас интересует Петр Первый, ваше величество. Бьюсь об заклад, речь идет о событиях меньше чем двадцатилетней давности. Не правда ли?
– Действия нашего флота в Средиземном море…
– И снова не то, ваше величество. Вот видите, насколько я откровеннее вас. Рагуза напомнила вам события, связанные с делом княжны Таракановой, а вернее – той, которую называли этим именем.
– Что значит – называли? Это была авантюрьера, охотившаяся за российским престолом.
– Так все‑таки именно ее вы имели в виду, удивившись месту рождения Андрея Ивановича Альтести.
– Ты успокоишься, мой друг, если я соглашусь? Просто мне неприятно вспоминать все связанные с этим слишком долго тянувшимся делом перипетии.
– Не сомневаюсь. В таком сомнительном деле все должно было быть неприятным для вашего имени и вашей славы.
– Как легко ты обо всем судишь, Платон Александрович! Даже не поинтересовавшись сутью дела.
– Но оно меня ни в коей мере не касается. Хотя красавица, умершая в темнице, прямо напротив окон вашего дворца, заключенная туда по одному вашему приказу, не может не волновать воображения.
– Ты решил меня сегодня дразнить, Платон.
– Как бы я осмелился на что‑нибудь подобное, ваше величество? Шеф кавалергардов, который дразнит свою императрицу, – это нечто совершенно несообразное.
– И откуда ты знаешь, что авантюрьера была красавицей?
– Одно из двух, ваше величество: либо покойница не была авантюрьерой и ее притязания на престол, о которых вы упоминали, были в большей или меньшей степени обоснованными. В этом случае ее внешность, как у всех лиц царской крови, не имела решительно никакого значения. Престол и венец – лучшая гарантия красоты, которую все начинают безоговорочно признавать. Либо покойница в самом деле представляла авантюрьеру и тогда могла надеяться только на редкую красоту, иначе никто не обратил бы на нее внимания. А между тем слухи утверждают, что так называемая княжна имела несчетное количество поклонников и соискателей ее руки. Или я ошибаюсь?
– Авантюристы привлекают всегда себе подобных.
– Вот как! А чтобы закончить разговор о благонадежности Андрея Ивановича, скажу одно: его дочь – невестка нынешнего венецианского посла при вашем дворе.
– Ты бы начал именно с этого. Венецианцы очень чувствительны на всякие отклонения от порядочности.
– Вы так думаете, ваше величество? Надо будет запомнить на будущее. У меня сложилось мнение, что это обыкновенные торговцы, больше всего беспокоящиеся о своем промысле и его безопасности.
– Но я не знала, что ты так интересовался историей. Оказывается, твой выбор был далеко не случайным. Или, во всяком случае, он пока удовлетворяет тебя.
– О да. А разговор о моем секретаре – тем более. Думаю, ваше величество, вы слишком хорошо знаете господина Альтести. Разве не вы сами решали его судьбу?
– Что за идея!
– Самая обыкновенная. Альтести участвовал в поисках и поимке вашей авантюрьеры. Вы разрешили вести эту поимку не вполне законными методами, а после счастливого окончания дела предпочли всех действующих лиц задержать в России. На всякий случай. И на очень выгодных условиях. Альтести оказался превосходным подручным графа Орлова–Чесменского, значит, ему нечего было рассчитывать на возвращение на родину.