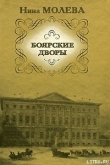Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Где же вам, Александр Федорович. Молодые всего‑то не более пяти лет прожили. А под венец графиня тринадцати лет пошла. Добра была очень. Хороша ли? Пусть вам Гаврила Романович ответит. Это он ей строки посвятил: «Как ангел красоты, являемый с небес, приятности лица и разума блистала». Когда графини не стало, все находили, что Григорий Григорьевич в уме тронулся. В Москве засел, чтобы из своего Нескучного не выезжать.
– Протасова же о родственных протекциях, поди, тут же забыла, хлопотать за дядюшку не стала?
– Вот это вы напрасно. Битой посуды все равно не склеишь, а отступного Анна Степановна для своих родственников огромного добилась. Может, и не она одна, да без нее не обошлось. Все дворцы московские, с меблировкой, лошадьми и прислугою императрица графу Григорию Григорьевичу пожаловала, пока своим дворцом не обзаведется, если, впрочем, обзаводиться пожелает. Серебра и бриллиантов из дворцовых кладовых – без счета. Анна Степановна, думается, за всем проследила, хотя верность государыне и соблюдала. А уж, кажется, как императрица над графиней только не смеялась: и королевой Лото ее звала, и королевой с острова Гаити. Шутила о Протасовой всегда, а милостями засыпала.
– Что же, графиня так замуж и не вышла? Неужто партии при дворе не могла найти?
– Захотела – нашла бы. Да и не нужна ей семья была. У нее и так, при дворе, толковали, обязанностей да хлопот хватало. Не знаю, правда, нет ли, будто графиня на своем опыте решала, быть ли новому человеку в случае или нет, и государыне подробно докладывала.
– Неужто, Дмитрий Григорьевич, вы подобным скабрезностям верить способны? Ложь ведь это должна быть. Ложь!
– Я иначе вам, Александр Федорович, скажу. Каждый человек сам за душу свою бессмертную в ответе. Просветить его в добре и зле можно, а поступать – он все равно по своей совести и разумению поступать будет.
– Тогда заставить его надо! Силой!
– И снова с вами не соглашусь. Как себя выше другого человека поставить? Где то Божеское право, по которому один человек другого судить может? Или по какому Божественному произволению наречет себя учителем и судией иных? Самого себя судить можно и нужно – вот в чем долг наш.
– Но одним правда Божественная открывается, другим – нет. Почему же избранным не возложить на себя нелегкую миссию поучения?
– Потому что это избранничество определяется вашей совестью и разумом противу совести и разума другого, равного вам во всем остальном человеком.
– Вы так полагаете? А тогда ответьте мне, Дмитрий Григорьевич, можете ли вы как христианин простить Радищеву смертный грех его?
– Какой грех?
– Вы что про Радищева не знаете? О позорном конце его?
– Каком конце? Опомнитесь, Александр Федорович. Знаю от общих знакомцев, что приезжал он в Москву на коронацию нового императора, здрав и весел был, всяческие планы на будущее строил.
– Да когда это было! Руки на себя Радищев наложил, вот что!
– Господи! Да что же это? Ведь все запреты с него сняты были! На свободе! На своей воле!
– Вот тут, Дмитрий Григорьевич, вы к моим словам и прислушайтесь. Внимательно прислушайтесь. Да, покойная императрица Радищева осудила, а император Павел Петрович свободу ему вернул. Так ведь с ограничениями – с наблюдением над поведением и перепискою. Уж на что покойную родительницу не жаловал, а к решению ее с полным вниманием отнесся. Тут бы Радищеву и подумать, тут бы и сообразить, что не одну государыню он мыслями своими, раздосадовал, что учение его каждому порфироносцу неудобно.
– Император Александр Павлович назначил Радищева членом Комиссии для составления законов. Это ли не знак, что и времена изменились и довлевшее над Александром Николаевичем обвинение рассеялось.
– Времена меняются, вы правы. Но идея престола измениться не может. Господину Радищеву бы попритихнуть, а он сразу на заседаниях стал отмены крепостного права требовать. Мало что самих крестьян освободить, так еще и с землей. Каково?
– А какой же смысл без земли освобождать? Что же, крестьянам родные места бросать?
– Бог знает, что выговорите, Дмитрий Григорьевич! Сразу видно, не государственный вы человек. Петр Васильевич Завадовский – совсем другое дело.
– Что, Петр Васильевич Комиссией этой руководит?
– Совершенно верно. Вот у него с господином Радищевым разговор и состоялся. Граф Завадовский, не таясь, сказал, что коли бунтовщик не уймется, то сможет все заново испытать: и суд, и ссылку, только много суровее, чем те, через которые господину Радищеву пройти пришлось.
– Граф так Александру Николаевичу и сказал?
– В тех словах, в других ли – поручиться не могу, но суть одна. Господин Радищев, испугавшись плодов своей неразумной смелости, вернувшись домой, и наложил на себя руки. Конец позорный и нехристианский.
Ничего не было страшнее этого переодевания русского в мальтийца. Государь, поверх носимого им постоянно Преображенского мундира, надевал далматик пунцового бархата, шитый жемчугом, и поверх широкое одеяние из черного бархата; с правого плеча спускался широкий шелковый позумент, называемый «Страстями», потому что на нем разными шелками изображено было страдание Спасителя. Слагая императорскую корону, он надевал венец гроссмейстера и выступая рассчитанным и отрывистым шагом.
Современник об императоре Павле I в Мальтийского ордена одеянии.
Петербург. Васильевский остров. Дом Д. Г. Левицкого. В. В. Капнист, Д. Г. Левицкий.
– О ком я более всего сожалею, Василий Васильевич, так это о князе Иване Долгоруком. Способнейший юноша и в нашем кружке львовском прекрасным бы украшением был.
– Это вы об Иване Михайловиче, друже?
– Конечно же, о нем.
– Помню, помню его портрет вашей кисти. Преотличнейшая работа. Он тогда еще совсем молод был. А знаете, Дмитрий Григорьевич, не перестаю удивляться, как вы в юношах различие порывов духовных усматриваете. Молодость – она едва не всех на крыльях романтических поднимает. Различия приносит столкновение с грубой прозою повседневности.
– Нет двух одинаких физиогномий, Василий Васильевич. И романтические крылья, как вы изволили выразиться, также различны.
– К тому князь Иван Михайлович, не в обиду ему будь сказано, привлекательностью внешней никогда не отличался. Иначе как Губаном да Балконом его из‑за губы преогромной оттопыренной никто и не звал.
– И в этом позволю себе с вами не согласиться. Отдельные отклонения от канонов классических придают лишь своеобразие человеку, и нельзя в них уродство усматривать. Князь, как понимаю, до чрезвычайности характером, всем складом своим душевным бабку свою напоминает.
– Наталью Борисовну Долгорукую – да, горестную жизнь сия достойна особа прожила. Кроме горестей ничем судьба ее не наделила. Дочь Шереметева, красавица, богатейшая невеста во всей России, и на тебе – выбрала в женихи фаворита императорского. Никто об Иване Алексеевиче Долгоруком слова доброй го не говорил. Умом скуден, образования никакого, капризен, избалован – император Петр Алексеевич Второй надышаться да надивиться на любимца не мог, – вниманием дам и девиц пресыщен. На Шереметеву польстился из‑за богатств несметных – родные присоветовали. Вся семейка жадная, до денег охочая. А батюшка его, сказывали, и вовсе ненасытен на добро и деньги был.
– Так ведь сватовство состоялось, когда позиции фаворита уже пошатнулись.
– Не совсем так, Дмитрий Григорьевич. Сватовство‑то состоялось еще при императоре, а император возьми да в одночасье и умри от простудной горячки. Вот тут бы Наталье Борисовне и свобода выбирать – помолвку‑то разорвать ничего не стоило. Все Шереметевы на том стояли, а невеста ни в какую: раз в счастии слово ему дала, не откажусь от него и в горе.
– Любила сильно.
– Полноте, Дмитрий Григорьевич! Вам бы поэтом – не живописцем быть. Какая любовь? Жениха толком не видала, двух слов с ним не сказала – за гордостью своей пошла. Долгоруков и сам готов был отступиться, она на своем настояла.
– Князь Иван Михайлыч рассказывал, свадьба что ни на есть самая скромная. Только что венчание церковное. Да и то большинство родных и не подумало приехать: кому знакомство с опальным фаворитом надобно? Вот тут Наталья Борисовна со своими юными годочками‑то и вскинулась. Мол, долг мой – мужу опорой стать.
– Опорой ли, обузой ли – кто теперь скажет.
– Никогда не соглашусь, Василий Васильевич! Разве не счастье, когда родная душа рядом – и погорюет, и позаботится.
– Только не для Ивана Алексеевича Долгорукова. Из дворцовых‑то покоев да в ссылку! Ему все близкие виноватыми представлялись. На ком только зла не вымещал, а уж на Наталье Борисовне прежде всего. А тут еще дети пошли – в сараюшках да избах!
– Князь Иван Михайлович сказывал, что родитель его в Березове родился.
– Вот видите – в Березове! Сколько в тех краях народу сгинуло. Поди, году не прошло, как Меншикова там же схоронили, за ним дочь его, за императора Петра Алексеевича Второго просватанную. А тут и вторую невесту–горемыку привезла, государыню–невесту Екатерину Алексеевну Долгорукову. Нрава государыня была крутого. С братцем никогда не ладила. Во всем его одного винила. А уж невестку–дуру, как сама выражалась, прямо возненавидела.
– Любовь, Василий Васильевич, все претерпит – вам ли этого не знать!
– Любовь‑то да. Когда со смыслом. С пониманием. Наталье Борисовне одни детки достались. Сама своих младенцев выходила, подняла, а тут как раз и мужа лишилась. Императрица Анна Иоанновна велела по делу Долгоруковых вторичное следствие учинить, в заговоре мнимом обвинить да и порешить всех разом. Тут уж родитель Александра Васильевича Суворова постарался. Спуску никому не дал.
– А смелость, смелость‑то в княгине какая! Вернулась с сыновьями из Сибири судьбой их сама занялась. Ничьей помощи не ждала и не просила. По ее словам, все руки родственные с негодованием отвела: не помогли в несчастье, не нужны после. Вот и во внуке ее сила эта оказалась, и доброта, и любовь великая. Да знаете ли вы, какую он сам на себя эпиграмму написал? Сам же мне и подарил. Многим ли такое дастся:
Натура маску мне прескверну отпустила,
А нижню челюсть так запасну припустила,
Что можно из нее, по нужде, так сказать,
В убыток не входя, другому две стачать.
Глаз пара пребольших, да под носом не вижу,
То есть я близорук: лорнета ненавижу!
– При Малом дворе он в любительских спектаклях участвовал и с отменным успехом. Там и супругу свою будущую встретил. Фрейлину.
– Наверно, живостью своею не угодил великому князю.
– Вовсе нет. Так по сердцу наследнику пришелся, что императрица его немедля в Пензу служить назначила. Не по душе государыне было, чтобы вокруг цесаревича преданные люди находились. А уж коли о Долгорукове заговорили, в голову мне пришло: скольких же вы, Дмитрий Григорьевич, литераторов наших, изобразили! Не есть ли это некая магическая связь вашего таланта живописного с талантами российскими литературными? Полюбопытствовать хотел: никак вы и с доверенным секретарем нашей государыни, Александром Васильевичем Храповицким, дружбу водите? Портрет его, поди, уж лет десять как вами написан. Способности что в службе, что в литературе у господина Храповицкого немалые.
– С Украины знакомы. Александр Васильевич там еще у графа Кирилы Григорьевича Разумовского службу начинал. Очень графу по сердцу пришелся легкостью сочинявшихся им бумаг. Григорий Николаевич Теплов к заслугам его и то относил, что писать умел четко и красиво – без перебеливания. Никогда его рукописи перебеливать не приходилось.
– Канцелярист!
– Александр Васильевич на том и в Сенат попал – равных ему не найти было. Только в департаментах много не высидишь в смысле чинов и жалованья, как сам он говаривает.
– А к государыне в личные секретари как же попал? Кто порекомендовал или поручился?
– А чего же тут гадать. Граф Александр Андреевич Безбородко да граф Петр Васильевич Завадовский. Оба постарались.
– Ласковый теленок двух маток сосет.
– Я бы по–иному сказал. Александр Васильевич всем полезен умел быть. Переводы, говорили, превосходные делал. Песни в русском стиле сочинять принялся и опять же с успехом. И притом убеждениям своим не изменял. У государыни в доверенных лицах оказался, и то утверждал, что самодержавие ограничить следует. Без того условия державе в цветущее состояние никогда не прийти.
– Выходит, не случайно Александр Васильевич первые уроки языка российского Александру Николаевичу Радищеву давал.
– Какая же случайность. А Михаила Васильевич, ихний братец, и вовсе открыто об отмене крепостного права рассуждаёт. По его суждению, не имеет права один человек быть господином живота и смерти другого человека, одинаково с ним Господом нашим созданного. Оброки в своих деревнях снизил. Школу открыл.
Слыхал, государыня по этому поводу известное недовольство высказывала, что сия поспешность только к брожению умов привести может и не следует одному помещику нарушать порядок, среди всех остальных Помещиков установленный. И снова о мартинизме в дурном смысле поминала, так что Александру Васильевичу нелегко пришлось.
– Не за то ли и наш Гаврила Романович поплатился? Всего‑то три года секретарем при государыне пробыл и – отставка.
– Если и отставка, то хоть почетная. Сенатором стал. Орден дали. Чин тайного советника.
– Лишь бы с глаз долой» Не того от пиита ждали. Находил же слова для Потемкина, и какие! Вот Зубов и решил, со своей стороны, Гавриле Романовичу посодействовать, да обманулся.
Все современники отмечали любовь императора Павла I к церемониалу, превращавшую придворную жизнь в род маневров. Особенно велико было его пристрастие к церемонии целования руки по каждому поводу и случаю, каждый праздник и воскресенье; причем сама церемония была, во всех мелочах разработана специалистом по этим вопросам Валуевым: надо было, после глубокого поклона, опуститься на одно колено и в этом положении запечатлеть долгий поцелуй на руке императора [это особенно рекомендовалось], затем повторить ту же церемонию в отношении императрицы и уже потом отступить назад, не поворачиваясь спиной, что заставляло наступать на ноги тем, кто шел на твое место, вызывая неизбежную неловкость, несмотря на все усилия церемониймейстера.
Князь Адам Чарторыйский.
Петербург. Дом А. А. Безбородко. А. А. Безбородко и Д. Г. Левицкий.
– У меня к вам просьба, Дмитрий Григорьевич, потому и просил ко мне заехать. Забыли вы старого знакомца, совсем забыли.
– Не корите меня, граф Александр Андреевич, до художника ли вам теперь. В вашей канцелярской должности! Боялся побеспокоить, а коли понадоблюсь, так адрес мой вам известен.
– Полноте, полноте, Дмитрий Григорьевич, я старые времена забывать не склонен. Дел немало прибавилось, а влечения к кружку нашему не убавилось, а к живописи тем паче. Вот и тут хочу вас просить портрет зятя моего графа Григория Григорьевича Кушелева написать.
– Сердечно признателен за честь.
– Вы, поди, с Григорием Григорьевичем не один раз у меня встречались? Человек достойнейший.
– Помню, граф Кушелев при великом князе еще Павле Петровиче состоял.
– В чине полковника. А нынче государь император его заслуги не забыл. Как вам, поди, известно, из генерал–майоров в вице–адмиралы переименован, тут же и в адмиралы. Нынче вице–президентом Адмиралтейств–коллегии состоит. И по случаю возведения в графское достоинство хотелось бы галерею мою живописную портретом вашей кисти обогатить.
– А размер какой пожелаете?
– Скажем, в малую натуру, поясной. И непременно с аксессуарами. Как положено.
– Отлично. Так и сделаем.
– Что‑то вид у вас невеселый, Дмитрий Григорьевич. Неприятности какие дома?
– Благодаренье Богу, на дом пожаловаться не могу.
– Супруга, дочка здоровы ли?
– Благодарствуйте, Александр Андреевич. Непременно утешу их, что помните.
– А коли не семья, то что же, Дмитрий Григорьевич? Может, чем помочь смогу.
– По правде сказать, за друзей тяжело.
– О ком это вы?
– Николаю Ивановичу Новикову тяжко приходится. Я бы и рад помочь, да не всегда получается. Приупадло его Авдотьино, крепко приупадло.
– Новиков хозяин отменный. Год–другой, глядишь, и опять поместье свое в порядок приведет. Тут и грустить нечего.
– Радищева Александра Николаевича очень жалко.
– Нешто дружны вы с ним были? Не знал.
– Не то что дружны, а человек был достойнейший. Неизвестно за что поплатился.
– А вот тут вы и неправы. Было за что. Государь прямо так и сказал: было. Он по доброму сердцу всех узников отпустил, хотя Радищева и строго в свободе его ограничил.
– О том и говорю. Сельцо ему для проживания самое что ни на есть беднейшее в Калужской губернии предоставлено. Выехать никуда нельзя. Губернатор во всем за ним доглядывает, переписку вскрывает – даже не таится. Родителей больных престарелых навестить, и то без дозволения нельзя. Это после всех мучений‑то его!
– Вот тут я с вами, Дмитрий Григорьевич, никак не соглашусь. Родители у господина Радищева в Саратовской губернии живут – не ближний край. Со сколькими людьми он по пути повидаться да переговорить мог?
– Что ж тут за грех? Почему и не поговорить?
– Почему, спрашиваете? А государь ничего господину Радищеву не простил. Как, сами понимаете, простить, что книжку свою сразу после французской революции написал? Государь все обвинения покойной императрицы против господина Радищева повторил, что господин Радищев преступил должность подданного и книга его наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу сана и власти царской.
– Не то ли обвинение и против Василия Васильевича Капниста выдвинуто?
– А знаете ли, Дмитрий Григорьевич, во что мне капнистовская «Ябеда» стала? Не знаете. Не чаял государя умилосердить, сам под гнев царский попал. Да не я один, слава тебе Господи, старался. Иначе быть бы Капнисту с его сочинением в Сибири.
– Так ведь не против государя «Ябеда» написана. Там такого и в помине нет. Разве же сама покойная государыня против взяточников, казнокрадов да лихоимцев не выступала? Разве в журнале княгини Дашковой сказок и басен не печатала? Сатирическим пером их не описывала?
– Эк додумался: Капниста с государыней императрицей сравнивать! Забыли вы, видно, Дмитрий Григорьевич, поговорку латинскую, коли память не изменяет: что дозволену Зевсу, то не дозволено быку. Капниста послушать, так в России, акромя воров и чиновников, честных нету. Надо же, главного героя как назвал – Хватайко!
– А есть они, честные‑то чиновники?
– И вы туда же, Дмитрий Григорьевич! Уж вам‑то и вовсе стыдно. Человек в летах, достойный – и государственных чиновников поносить. Капнист на Украине насмотрелся, а вы в Петербурге живете. Здесь все по–иному.
– Коли по–иному, то и обижаться бы не след. Хорошо там у Василия Васильевича:
Бери, большой в том нет науки,
бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
как не на то, что брать.
– Пускаться с вами в рассуждения не стану, Дмитрий Григорьевич, а предупредить по старой дружбе хочу. Никаких умствований и вольтерьянства государь император не потерпит. О вольтерьянстве слышать не хочет. К мартинистам с большим подозрением относится. Между воспитанием и наказанием выбирать не будет: только к одним наказаниям привержен. Так что поостерегитесь, голубчик, поостерегитесь. Я‑то вам заказов по старой памяти даю, а другие могут и побояться – не удивляйтесь.
Петербург. Зимний дворец. Личные покои императора. Павел, Мария Федоровна.
– Мне давно это следовало сделать.
– Что именно, сударь?
– Освободить дворец от присутствия Нелидовой. Я же видел, как раздражало вас ее постоянное щебетание, и у меня все никак не доходили руки рассчитаться с этой старой фрейлиной.
– Но Екатерина Ивановна нисколько не раздражала меня, государь, напротив – у нас сложилось очень милое общество.
– Мне кажется, Мария Федоровна, что вы поставили себе за правило во всем противоречить мужу. Я отлично помню, как вы досадовали на присутствие Нелидовой, а мне некогда было заниматься вашим штатом. К тому же этого невозможно было сделать без разрешения Большого двора. Моя мать…
– Ваша покойная мать и императрица, государь, никогда не настаивала на присутствии Екатерины Ивановны. Помнится, Нелидова даже в детстве не пользовалась ее симпатиями.
– И в этом моя мать была права. Хотя и с опозданием, но я полностью присоединяюсь к ней. Нелидова навязчива и невыразимо скучна со своими книгами и умными рассуждениями. Хватит! При моем дворе должны царить молодость и улыбки. Я уверен – вы будете как нельзя больше довольны Анной Петровной Лопухиной. Она прелестна и безгранично мне предана.
– Что дает основание вам так судить, государь? Откуда эта уверенность в преданности, а не простом расчете после считанных недель знакомства?
– Вы ищите поводов для размолвок, не так ли, Мария Федоровна, и даже на черное готовы сказать белое, лишь бы досадить мне. Эта восторженная пустышка Нелидова, которая на четвертом десятке хочет смотреться институткой и не выдерживает никакого сравнения с настоящей юностью. Но вы готовы отказаться от собственных былых слов и претензий, потому что не хотите иметь новой фрейлины. Между тем двор императора всероссийского не может держаться на стариках – это плохо выглядит даже с точки зрения дипломатических планов.
– Государь, я прошу у вас только о справедливости, которая всегда была вам присуща. Почему вы готовы обвинять во всех смертных грехах Нелидову, хотя она отказалась принять от вас какой бы то ни было подарок за свою долгую и верную службу? Или о поместьях для себя? Хотя вы, как император, с легкостью могли удовлетворить любую ее просьбу.
– Это свидетельствует лишь об ее строптивости – не более того. Вернуться в Смольный институт и жить на собственные гроши, лишь бы ничего не взять у меня!
– Она не хотела, чтобы у вас возникла хотя бы тень сомнения в ее бескорыстии и преданности.
– Она нашла себе незаменимого адвоката в лице императрицы. В конце концов окажется, что ее уход из дворца обойдется мне дороже, чем появление…
– Кого, сударь?
– Вы ловите меня на слове! Кого бы то ни было. И кстати, вы отвлекли меня этим дурацким разговором от неотложных дел. Кутайсов, ты написал указ о президенте Академии художеств?
– Он готов, ваше императорское величество, и перед вами.
– Отлично. Остается пригласить Александра Сергеевича Строганова и сообщить ему о новом назначении. Надеюсь, он не станет пускаться в рассуждения, подобно императрице, и примет новые обязанности с должным почтением и покорностью.
– Что я слышу, государь, вы решили расстаться с графом Шуазель–Гуфье? И как вы объяснили сему достойному человеку эту отставку? Ведь он даже не ваш подданный.
– Что же из этого, Мария Федоровна? Зато он занимает должность в российском учреждении и живет на российской земле. Я думаю, ему самое время возвращаться во Францию или куда еще заблагорассудится. Мне не нравится его желание офранцузить Академию художеств. К тому же если Мусин–Пушкин непозволительно заискивал перед академистами, Шуазель–Гуфье беспрестанно оскорблял профессоров.
– Но вы найдете, государь, какие‑то слова, чтобы пощадить самолюбие графа?
– Пощадить самолюбие? Мария Федоровна, вы все еще продолжаете себя чувствовать великой княгиней и жить правилами Малого двора. Для императора не существует самолюбия подданных. Его дело приказывать, их дело подчиняться. К тому же академическая администрация вообще нуждается в обновлении. Со смертью Баженова освободилось и место вице–президента.
Павел I – Е. И. Нелидовой.
Михайловский дворец. 1 марта 1801 года.
Мне было весьма утешительно, сударыня, отплачивая вашим племянникам тем, на что дают им права их заслуги, тем самым сделать вещь, лично вам приятную. Не менее отрадно было мне получить от вас ваше одобрение, ибо это дало мне повод засвидетельствовать вам те чувства и то уважение, с коими пребываю преданный вам Павел.
Петербург. Смольный институт. Комнаты Е. И. Нелидовой. Е. И. Нелидова и Плещеев.
– Нет! Нет! Нет! Этого не может быть! Не может быть!
– Я знал, что причиню вам боль, Екатерина Ивановна, но императора больше нет в живых.
– Смерть? Его смерть? Такого молодого, полного сил? Это безумие или…
– Не договаривайте, не надо.
– Вы тоже об этом подумали или вы что‑то знаете?
– Нам всем лучше ничего не знать.
– Лучше? Лучше не знать правду?
– Зачем она вам, Екатерина Ивановна? И что она может изменить?
– Я хочу туда, в Михайловский дворец!
– Бог с вами, как это возможно?
– Но я знаю, ему нужно, чтобы около него был кто‑то, кому он был по–настоящему дорог. Это необходимо каждому человеку, а ему особенно.
– Может быть, но у вас нет оснований войти во дворец до официального объявления о кончине. Сейчас ночь, и вы еще не вправе ничего знать. Если бы не императрица…
– Боже, какая ирония судьбы. Мы обе так заведовали друг другу, так тяготились друг другом, и вот нас двое, всего двое – и то вдалеке друг от друга.
– Императрица просила, чтобы вы прямо с утра приехали к ней. Она рассчитывает на вашу дружбу и уже отдала приказ не допускать к телу Лопухину. Впрочем, я думаю, Анна Петровна и не станет делать никаких попыток публично проявлять свое отчаяние, которое в действительности будет испытывать.
– Ах, как мне безразлична сейчас эта женщина. Императрица была права: она принесла императору несчастье.
– Здесь с вами согласятся многие. Все знали, насколько благотворно вы умели влиять на покойного императора, как смягчали его нелегкий нрав.
– Прошу вас, не трогайте памяти покойного. Император Павел был таким, каким был. Но вы мне не сказали главного: что случилось с государем? С моим государем.
– Об этом можно строить только небезопасные домыслы.
– И все же. Я знаю, что вечером император был здоров и в добром расположении духа – мне говорили. Он виделся с сыновьями и ушел в свою одинокую спальню. А потом – когда стало известно о несчастье?
– Вскоре после его ухода.
– Великие князья уже разошлись?
– Нет, они все вместе вошли в опочивальню его императорского величества. Все, кроме Александра Павловича. Наследник задержался случайно в соседней комнате.
– Случайно? Он никогда, с самых ранних лет ничего не делал случайно. Государь был прав, когда обвинял своего первенца в холодном сердце и слишком трезвом уме.
– Думаю, вам следует выбирать выражения, Екатерина Ивановна, – вы говорите об императоре Российском Александре Первом, и кто знает, так ли уж либеральны его взгляды.
– Вы правы: его императорское величество Александр Первый. Желание Великой Екатерины свершилось. А вдовствующая императрица – ее не удивило присутствие сыновей?
– И нескольких офицеров.
– Тем более – и нескольких офицеров. Она не спросила их о причине задержки у опочивальни отца? Не прошла сама к супругу?
– Она пришла позже. Когда ее пригласили. Вы же знаете, государь последнее время запретил императрице входить в его опочивальню и перестал навещать ее половину.
– Бедный, бедный государь! Никто так никогда и не узнал, каким удивительным человеком он мог бы стать, сколько добрых чувств и талантов в себе скрывал.
– Боюсь, не многие разделят ваше чувство.
– Какое это имеет значение!
– Для людей он останется жестоким и несправедливым, бесчувственным и капризным. Разве вы сами не испытывали на себе всех этих качеств его характера?
О, только не ссылайтесь на меня. Все, что испытала я, остается между мною и моим государем, и никому не дано нас с ним судить. Вы хотите правды? Что ж, в такую ночь, один раз в жизни, я могу ее сказать. Он был единственным человеком, которого я любила. Со всеми его, как вы изволили выразиться, недостатками и даже пороками. Я просто любила…
– Он не оценил ваших чувств и надругался над ними.
– Значит, так угодно было Богу. Значит, я не заслужила иного. Но я была счастлива. Если бы вы знали, как я была счастлива с того первого дня, когда он задержался у моего портрета в роли Сербины и стал искать оригинала. Как счастлива…
С. Н. Марин, офицер–преображенец. Сатира на правление Павла I, чрезвычайно популярная среди современников.
Ума твоего пределы узки
Могли ли тайну ту понять -
Еврейска Анна то по–русски
Святую значит благодать?
Могли ли руки твои дерзки
Украсить шапки гренадерски,
Знамена, флаги кораблей
Любезной именем моей?
Скажи ты мне, в странах Российских
Кто славный акцион завел,
Чтоб, кто хотел крестов Мальтийских,
За деньги в оном их нашел?
С французом кто два года дрался,
Чтоб остров Мальта нам достался,
На коем нет почти людей?
Дела то мудрости твоей!
Сие, служивый, рассуждая,
Представь мою всесильну власть
И, мерзостный мундир таская,
Имей твою в терпеньи часть!
Я все на пользу вашу строго,
Казню кого или покою.
Аресты, каторги сноси
И без роптания проси!
Петербург. Квартира В. В. Попугаева[22] . Попугаев, А. X. Востоков, А. И. Иванов, Н. В. Репин.
– Освобожденная Россия! Господа, до этого счастливого дня надо было дожить!
– Как долго мы мечтали о ней!
– Но не забывай, Востоков, не кто‑нибудь, а наши художники первыми заговорили о необходимости преобразования России. Помнишь наш академический кружок?
– И наши походы к Левицкому.
– Какие разговоры у него велись!
– И как он радовался нашему приходу.
– Недаром для него не нашлось места ни в Академии Бецкого, ни в павловской Академии.
– Зато теперь все изменится.
– Непременно изменится!
– Господа, но к вашей восторженности следует добавить реальные действия. Вас удовлетворяет наше Вольное общество любителей словесности, наук и художеств?
– Почему же нет?
– Я говорю не об Обществе как таковом, а о том, насколько обращено оно к интересам искусств изобразительных. Литература, науки общественные во многом родственны, но и очень различны между собою. Имея цели одинаковые, они достигают их средствами различными. Эти средства в живописи или зодчестве требуют особых обсуждений.
– Господа! Востоков прав. Художникам нужно объединяться для обсуждения своих особенных вопросов.
– Как в цехах и гильдиях?
– Иванов, перестань хоть сейчас дурачиться.
– У Андрея никогда охота к шуткам не пропадет.
– Но надо же и честь знать. Нам надобно объединиться, чтобы помочь друг другу разобраться в том, как решать вопросы искусства, хотя бы твоей же архитектуры.
– Почему же ты не шутил, когда Вольное общество образовывалось, а ведь оно и в уставе своем поставило лишь две цели, смотри: «1. Взаимно себя усовершенствовать в словесности, науках и художествах и 2. Споспешествовать по силам своим к усовершенствованию сих трех отраслей».
– Оставь его, Репнин, Андрей Иванович безнадежен. Господа, Я предлагаю подумать о том, кого бы предложить в институт почетных членов, если новое общество создать удастся. Их имена нам сразу определят круг вопросов, к решению которых мы способны будем.