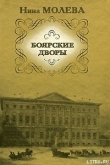Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
– Это мысль, Востоков, превосходная мысль. Я предлагаю Гаврилу Романовича Державина, нашего глашатая свободы духовной и великого мастера формы стихотворческой:
Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал:
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалил.
– Хераскова Михайлу Матвеевича! Я его «Бахариану » по сей день едва не всю помню:
Слишком много в миру издано
И духовных книг и нравственных,
А сердца не исправляются,
Люди также развращаются…
– А мне Дмитрий Григорьевич Левицкий какие стансы превосходнейшие херасковские читать давал! Сорок лет назад сочинены, а словно про наше время:
Только явятся
Солнца красы,
Всем одеваться
придут часы.
Боже мой, Боже!
Каждый день то же.
К должности водит
Каждого честь,
Полдень приходит, —
надобно есть.
Боже мой, Боже!
Всякий день то же.
– Так что же ты самого Левицкого не называешь?
– Левицкого! Непременно Левицкого, наставника нашего духовного.
– Все согласны. И Мартоса Ивана Петровича. Видали вы эскиз его монумента великим сыновьям России – гражданину Минину и князю Пожарскому? Творение выдающееся.
– О Мартосе никто спорить не будет.
– Карамзина Николая Михайловича!
– Все мы начинали с его «Писем русского путешественника», об альманахах карамзинских и не говорю – зачитывались ведь ими в Академии.
– Что ни возьми – с «Аглаей» мы в четвертый возраст вступали, только–только президента Бецкого не стало. С «Аонидами» в пятый возраст переходили.
– Тогда уж и «Пантеон иностранной словесности» помяни.
– А как он за заключенного в крепость Новикова вступился! Как еще не поплатился за эту свою оду «К милости».
– Помнится, карамзинские это слова, что французская революция относится к таким явлениям, которыми определяются судьбы человеческие на долгий ряд веков, что начинается новая эпоха в истории человечества, и он ее видит.
– Жаль, что последние годы отступился от деятельности издательской»
– Шутить изволите. При Павле – и издательским делом заниматься. Теперь – другое дело. Теперь Карамзин наверняка поразвернется и в сочинениях своих.
– Господа! Господа! Дмитриева Ивана Ивановича, превосходного нашего баснописца!
– Баснописца? Лирика российского редкостного. Так писать, как он в своих сонетах, никому еще не удавалось, неужто спорить будешь?
– И все‑таки послушай последнее дмитриевское сочинение, тогда и рассудить можно будет, кто прав: Название автором ему дано «Мышь, удалившаяся от света».
– Забавно! И текст у тебя с собой?
– Нарочно прихватил, чтоб полюбопытствовали:
Восточны жители в пределах своих,
рассказывают нам, что некогда у них
Благочестива Мышь, наскуча суетою,
Слепого счастия игрою,
Остановила сей скучный мир
И скрылась от него в глубокую пещеру:
В голландский сыр.
Так святостью одной свою питая веру,
К спасению души трудиться начала:
Ногами и зубами
Голландский сыр скребла, скребла,
И выскребла досужим часом
Нарядну келейку с достаточным запасом.
Чего же более? В таких‑то Мышь трудах
Разъелась так, что страх!
Короче – на пороге рая!
Сам Бог блюдет того,
Работать миру кто отрекся для него.
Однажды пред нее явилось, воздыхая,
Посольство от ее любезных земляков;
Оно идет просить защиты от дворов
Противу кошечья народа,
Который вдруг на их республику напал
И Крысополис их в осаде уж держал.
«Всеобща бедность и невзгода, —
Посольство говорит, – причиною, что мы
Несем пустые лишь сумы;
Что было с нами, все проели,
А путь еще далек! И для того посмели
Зайти к тебе и бить челом:
Снабдить нас в крайности посильным подаяньем». —
Затворница на то, с душевным состраданьем
И лапки положа на грудь свою крестом:
«Возлюбленны мои! – смиренно отвечала -
Я от житейского давно уже отстала;
Чем, грешная, могу помочь?
Да ниспошлет вам Бог! А я и день и ночь
Молить его за вас готова!..
Поклон им, заперлась и более ни слова.
Кто, спрашиваю вас, похож на Мышь? Монах? – Избави Бог и думать… Нет, дервиш. Чувствительные стансы всем необходимы, но басни! Сами силу сего сочинения видите.
– Более никого из литераторов, по духу нашим начинаниям близких, не припомню, а вы, господа? Тоже нет? Тогда предлагаю превосходного нашего живописца исторического Григория Ивановича Угрюмова! Ученика Дмитрия Григорьевича Левицкого!
– Ныне профессора! Его «Испытание силы Яна Усмаря» – подлинный символ силы духа русского.
– А «Взятие Казани»? А «Торжественный въезд в город Псков Александра Невского после одержанной им над немецкими рыцарями достославной победы»!
– Угрюмова! Угрюмова!
– Думается, следовало бы и нашего славного президента Академии Александра Сергеевича Строганова.
– Строганова всенепременно!
– При нем Академия новые силы обретет, вот увидите!
– Еще бы – такой знаток изящных искусств.
– Я не о том. Дмитрий Григорьевич рассказывал, что еще в шестидесятых граф Строганов приводил в Законодательной комиссии как основное доказательство необходимости создания училищ для народа то соображение, что лишь когда крестьяне из тьмы невежества выйдут, тогда и достойными себя сделают пользоваться собственностью и вольностью.
– Это наше старое противоречие. Мне думается, начинать надо со свободы, а затем приступать, по мере возможности и обстоятельств, к просвещению народа.
– Однако человек, погруженный во тьму невежества, ту же свободу может использовать во вред и других, и самого себя. Разумное направление ему необходимо.
– Разумность – понятие относительное.
– Разум относителен?!
– Не разум, а разумное, как ты сказал, направление. Одному из руководителей оно в силу склада ума, характера, наконец, образованности, одним будет представляться, другому другим.
– И все же, господа, начинать надо с просвещения, как день начинается с рассвета и первых лучей солнца, в которых постепенно просыпается и оживает природа. Оказавшееся сразу после ночной прохлады на полуденном солнце растение непременно сгорит. Разве это тебе не убедительный пример!
П. А. Зубов. Наедине с собой.
Теперь все стало ясным: месть! Только месть! За все потерянное, несостоявшееся, недоделанное и недополученное. Быть некоронованным государем России. Целых семь лет. И лишиться всего. Унизительно. Публично. Под смешки и анекдоты всех, кто еще вчера искал у тебя дружбы, заступничества, покровительства.
Нет, он знал. Возврата нет и быть не может. Кто бы ни поднялся на престол, у него будут свои любимцы, свои люди случая. Конечно, не он. И все же – пусть кто угодно, но не эта мерзкая маленькая обезьяна, что ни день придумывающая все новые унижения. Злобная. Мстительная. Потерявшая голову от полноты власти над человеческими судьбами.
Впрочем, чужие судьбы никогда его не обходили. Он! Он сам! Его будущая жизнь! Все могло приобрести смысл, если бы только удалось отомстить. И он знал, так думали все Зубовы. Он не отличался от братьев, и разве что отец не склонен был к решительным действиям.
Сначала все оставалось как было. Почти как было. Потом, почти сразу – взрыв: никаких должностей, никаких жалований, никаких поместий. Даже для простого прожития. Приказ: немедленно отправляться за границу. Как Алексей Орлов–Чесменский. Как многие другие.
Путешествия – они никогда его не занимали. Древности, архитектура, картины слишком быстро надоедали. Бесконечные переезды по чужим городам злили. Его узнавали. На него показывали. Газеты не обходили вниманием. Всегда чуть насмешливо. С нескрываемым любопытством.
Молодой любовник развалившейся от старости императрицы. Последний фаворит разбитой параличом старухи. Женщины откровенно пожимали плечами: это при его‑то внешности? Любой брак по расчету им казался по меньшей мере благородней.
Или это только казалось? Своя мысль не выпускала из собственных тисков. Его обвиняли в ее смерти. Если бы не он, Великая Екатерина еще бы царствовала. Еще длился бы век просвещенной монархини! Он положил ему конец.
Он вернулся неожиданно для самого себя. Еще стремительнее, чем уезжал. Чуть не на коленях вымолил у царского брадобрея, теперь уже графа [как и он!] Кутайсова царской милости – возвращение литовских поместий. И снова просил, не в силах выдержать деревенской помещичьей жизни. Любой должности. Любой службы. И вот – шеф Первого Кадетского корпуса. Всего–навсего. Это он – былой шеф кавалергардов! Спасибо, удалось избежать необходимости жить в казенной квартире. При том же корпусе. Кутайсов и тут счел возможным выручить. Может быть, потому, что радовался унижению.
Нет, это не Зубовы задумали заговор. На исходе 1799–го года. Предсказатели уверяли: на переломе века должно, не может не удаться. Первыми заговорщиками стали граф Н. И. Панин, английский посланник Уитворт и – кто бы мог подумать! – Рибас. Его Рибас, о котором Безбородко не уставал говорить: «Хитрец, бродяга и фактор, который наподобие польских жидов, даже нажив огромное состояние, не переставал факторить». Обманывать, подличать и красть казну. Безбородко уверял, что за каждый год у него оставалось в карманах не меньше полумиллиона. Может быть, и больше. Крал, чтобы красть.
Заговорщик! Такому верить – все равно, что на плахе спать ложиться. В каждую минуту предать способен: то ли императора заговорщикам, то ли заговорщиков императору.
Сестра Ольга поручилась: никуда не денется. Она всему душой. Императрица покойная начала бы всякую дипломатию изыскивать. Мол, почему английский посол. В чем тут у Англии интерес. А интерес простой. Наскучила Ольга Александровна своим Демидовым, за посла взялась. Может, молодость и прошла, только посол этого не замечает. Совсем от красавицы Жеребцовой голову потерял. Каждому слову верит. Затаила сестрица досаду: ничем ее императрица не отличила. Вроде совсем не замечала. Ольга во всем брата винила. Теперь решила свое добрать. У нее дома и все сборы. Не думал, что брат Николай так вскинется. Обиду тоже затаил. После Персидского похода ни с чем остался. Чуть больше полугода император его терпел. Двадцать восьмого сентября полную отставку получил, в Москву переехал. Из‑за суворовских побед благоволение к нему было возвращено. Получил шефство над гусарским полком. Да разве такую малость с былыми возможностями сравнишь. Смех один!
Ольга его поддержала. За Николая перед графом Паленом поручилась. О былом фаворите и говорить никто не стал. В порядке вещей, что в заговор графа Палена вошел. А проку? Все слишком легко, пошло. Детки императорские, любимые внуки покойницы и крыться со своими намерениями не стали» Престол Александру Павловичу был нужен. Ему и его друзьям. А Зубовы – что Зубовы: при своем интересе и остались. Одиннадцатого марта 1801–го не стало императора. Через четыре дня брат Николай Александрович был в обер–шталмейстеры пожалован, а через два года со всякой придворной службы уволен. Опять в Москву вернулся. Только новой обиды снести сил не хватило: в 1805–м скончался. Сорока двух лет от роду. Графине Наталье Александровне, урожденной Суворовой–Рымникской, шестерых детей оставил. Три сына, три дочери. Да о них что говорить. Графиня еще раньше с Николаем в Москве врозь жить стала. Между мужем и женой один Бог судья. Только известно – не жаловал брат супругу, нет, не жаловал. Пил тоже сверх меры. Рука у императрицы тяжелая на браки была – теперь‑то понятно. Не своим делом в сватовствах занималась. Годом раньше вместе с братом у гроба Валерьяна стояли. Досталось молодцу, ничего не скажешь. Император Павел мало того, что в Курляндские поместья его отправил, так и их в 1799–м в казну отобрал. «В виду недочета сумм по Персидскому походу» – было сказано. Александр Павлович хотел несправедливость исправить. Имения вернул. Валерьяна в Государственный совет членом пожаловал. Директором второго Кадетского корпуса назначил.
Не помогло. Тридцати трех лет Валерьяна Александровича не стало. Графиня Марья Федоровна и на похоронах не убивалась. И замуж тут же поспешила. За графа Уварова. Ему все богатства зубовские и достались. По воле императора Александра Павловича.
Ольга Александровна и вовсе на Петербург рукой махнула. Нив чем не заметил ее внук Великой Екатерины. И этот не заметил! В Англию уехала. Думали, с лордом Уитвортом. Оказалось, с деньгами, которые заговорщики собрали да сдуру у нее и хранили. В самый канун кончины императора Павла Петровича в Берлин отправилась. Оттуда в Лондон. И кто бы мог подумать: в объятия самого короля! Георга III–го. Братцу Платоше не повезло, сестрица Оленька свое взяла! Сына родила. От английского короля. Так и назвали – Норд Егор Егорович. Эдакий Георгий Победоносец на берегах Альбиона. Оно верно, королю за шестьдесят перевалило. Не один раз в безумие впадал, так что регентам за него править приходилось. Но была, была при нем Ольга Александровна Жеребцова–Зубова. Со связью своей не крылась. И с сыном тоже. В средствах стесняться перестала. Вернется ли в Россию, нет ли, кто знает. От нее ни вестей, ни приветов. Зубовы всегда каждый сам по себе жили. Без сентиментов.
От Платона Александровича и вовсе отмахнулся новый государь. Всех дел – что членом Государственного совета назначил. На первых порах подумал: не начать ли деятельности государственной? Проект сочинил – об освобождении крестьян. Все друзья императора только о том и толковали. Не показался. Оставлен был без внимания. Что ж, коли так – уехал в свои Янишки – раз других дел не нашлось – собственным сельским хозяйством заниматься. В столице посмеивались: Платон Зубов – землепашец. Потом перестали. Забыли. Из такой глухомани никого не разглядишь. Тем более «бывшего». Одно твердо знал: никакой женитьбы. Никакой семьи. Иначе памяти простой о «случае» не останется.
Янишки… В те поры, когда императрица ими одарила, только что к России присоединены были. Самая что ни на есть курляндская граница. Русского населения никакого. Церкви православной ни единой во всей округе нет. Народ все чужой, непонятный – всех по трети: латышей, литовцев, евреев. По нынешнему государственному разделению – Ковенская губерния, Тавельский уезд, в сорока верстах от уездного городка, на берегах речки Презенции. Городом не назовешь, деревней тоже. Поселение старое, еще с XV столетия. Церкви лютеранские. Католические. Еврейские молитвенные дома да синагоги. На неделе два раза базары. В году три раза конские ярмарки – народу видимо–невидимо съезжается. Все торгуют. Пиво варят. Сады обихаживают фруктовые. Хочешь не хочешь – привыкать надо. Дворца никакого строить не стал – чего зря деньги тратить. Да и нет в здешних местах такого обычая. Дом обыкновенный. Только что каменный. Обстановка местная. Немецкая. Порядок – чем раньше встанешь, тем больше в хозяйстве досмотришь. Деньга – они в руках не держатся, все, как вода в песок, уйти норовят. Глаз да глаз за ними нужен. И расходов лишних никаких. Много ли холостяку для личного обихода надобно! Ночи зимние глухие. Долгие. От бессонницы чего не передумаешь. Всех переберешь. Рибас… Ловчее всех был да сразу же и поплатился. С марта восьмисотого году только до начала декабря дотянул. Преставился. Наград не дождался – будто государь Александр Павлович им побрезговал. Как ни старался о себе напомнить, в ноябре только окончательного расчета дождался: присутствовать в Адмиралтейств–коллегии. В помощь вице–президенту.
Если числа сопоставить – указ о присутствии от 12 ноября, кончина 2 декабря – можно в сомнение прийти. С чего бы в пятьдесят лет быстро так прибраться? Слух прошел: помогли. Опасен стал. И не нужен. С княжны Таракановой начал, императором Павлом Петровичем кончил.
И Адриану Грибовскому не больно повезло, плуту и вору. Еще в 1797–м году отрешен был ото всех должностей, к лету того же года в Петропавловскую крепость посажен. В указе императорском так и сказано было: вследствие начетов за пропавшие из Таврического дворца картины. И – незаконные переселения казенных крестьян. С крестьянами бы примирились – кто такого по тем временам не делал! – а вот картины много хуже. Куда только подевать все добро дворцовое успел, и все с улыбочкой, с прибаутками да со скрипочкой в руках. Инструмент бесценный для себя выискал – самого Страдивария.
Деньги‑то Адриан сыскал, откупился в начале 1799–го года, да через несколько месяцев теперь уже в Шлиссельбургской крепости оказался – за продажу казенных земель в Новороссии. И ведь поди ж ты, не то что в моей канцелярии, у императрицы под рукой работал, жил на такую широкую ногу – весь Петербург диву давался. И ничего. А тут взялся за него Павел Петрович, крепко взялся.
Кто там за прохвоста заступился, только в 1801–м снова на свободе оказался. От греха подальше в имение свое в Подольской губернии уехал, жить как падишах начал. Осмелел – в Москву перебрался. Денег жалеть не стал. Вот и кончил одним селом, на Оке, против Коломны, помнится, Щуровым называется. И дело себе сыскал – по гроб жизни хватит – по присутственным местам ходить, от обвинения в злостном банкротстве отбиваться. С его‑то деньгами не иначе отобьется. Когда‑нибудь.
А вот с Николаем Ивановичем Салтыковым судьба иначе распорядилась. Такого и при покойной императрице пошатнуть не удалось. Хотел избавиться от него. Как еще хотел. Чего только покойнице не говорил. Все без толку.
Государыня перед кончиной будто назло милостями его осыпала. Графское достоинство пожаловала. Пять тысяч душ крестьян. Управлять Военной коллегией назначила. При Павле Петровиче с ходу в генерал–фельдмаршалы пожалован был. Император Александр Павлович председателем Государственного совета сделал. Когда в кампанию тринадцатого года отправился, Салтыкова регентом – подумать только! – регентом всего государства Российского сделал. А по возвращении из похода в княжеское достоинство возвел с титулом светлости. Светлейший князь граф генерал–фельдмаршал Салтыков! За что? Воля самодержца, как воля Вседержителя, – всегда простому человеку непонятна. Теперь уже до гробовой доски – простому. Никто не вспомнит, никто добрым словом не помянет…
Вместо эпилога
– Пан храбья на ярмарек собрался? Добрый ярмарек обещает быть. Бардзо добрый. Коней з вечора навели полно местечко.
– Сколько тебя учить: не пан храбья – господин граф. И не местечко – мои Янишки.
– Виноват, пан храбья. Где на старости лет учиться. По моему разумений, было бы должное почтение. Что пан храбья велит заложить? Дрожки?
– Сам не знаю. Может, пешком пройдусь.
– Как можно вельможному пану без экипажа! Пусть ясновельможный пан сам идет, а дрожки сзади едут. Для уважения. Нет в нашей округе пана выше пана храбья, значит, и дрожки должны быть.
– Ладно, закладывай. Надоел хуже горькой редьки. Гулянье тоже сегодня будет?
– А как же, как же, непременно будет. Вся шляхта к вечеру у заезда соберется. С семействами.
– Шляхта! Однодворцы!
– А хоть бы и однодворцы, все равно шляхта, не простой народ. Обращение знают. Приодеться умеют.
– По какой моде, интересно знать? По местной, что ли, янишковской?
– И что ж тут смешного, Проше вельможного пана? В каждом монастыре свой устав. А если пани или паненка от роду красавица, переодеть ее в любую моду – все равно красавицей останется. Как панна Текла, например. Чисто ангел небесный – глаз не отведешь.
– Какая Текла? Валентинович, что ли?
– О, ясновельможный пан и назвиско паненки запомнил – хороший знак, очень хороший.
– Это еще почему?
– Может, удастся старому Тадеушу пана принарядить, новый сюртук подать – все равно в укладке его молью побьет. Сапожки надеть. Ни одна девица глаз от пана не оторвет.
– Хватит глупости молоть! В пятьдесят четыре года ты бы, Тадек, хоть об этом подумал.
– А что Тадеку думать. Поговорка такая на всех языках есть: слышал ее пан? Седина бобра не портит. А у ясновельможного пана и вовсе ни одного седого волоса. Располнел пан немного – не беда: великому пану не годится надвое переламываться. Ему достойно при фигуре быть.
– Заговорил ты меня, хуже сороки расстрекотался.
– А сорока стрекочет, ясновельможный мой пан, к добру. К прибытку, как в народе говорят. Вот и я хочу моему пану на ярмарке веселья да прибытку.
– Что это? Никак, праздник у нас какой у нас в Янишках? Музыканты со всей округи собираются. Горожане принаряженные какие‑то.
– А праздник, праздник и есть. Веселье – свадьба. Ясновельможный пан Зубов женится.
– Да полно тебе! Этот наш барсук? Наш угрюм вековечный? И женится! Какую же невесту себе отыскал?
– Веселью удивился, пан, невесте еще больше удивишься: паненка Текла Валентинович.
– Валентинович? Шляхтянка ли?
– Шляхтянка, только из бедных. Самых бедных.
– Выходит, наш скупец и сквалыга бесприданницу берет. Вот и вправду чудеса у нас пошли. Как же дело такое сделалось?
– Как, как, пригляделся к ней ясновельможный пан, да и пошли пана управляющего к родителям свататься.
– Сам не ходил?
– Смеешься, пан? Куда ходить‑то? Дом у них под соломой, полы только что не земляные, через порог куры со двора шастают.
– Прямо так и посватал? Через управляющего?
– Сам пан посуди. Управляющему куда ловчее и о приданом договориться – жених его в дом родительский тайком представить должен. Ну, там чтоб лошадь какую–никакую родителям купить, чтоб было на чем им в церковь ехать. Да мало ли дел! Неужто ясновельможному пану во все дела хозяйственные самому входить!
– Вот невесту, пожалуй, и не знаю. Хороша ли? Среди красавиц наших имени такого будто и не припомню.
– А не припомнишь, пан, не припомнишь! У каждого свой вкус, так уж положено. Паненка Текла из себя, за пшепрощением, невидная. Тоненькая – соломинкой переломишь. Бледненькая – на солнышке ровно прозрачная. Ручки протянет – пальчики, как у дивчинки. Волосы хороши – ничего не скажешь. Косы едва не до земли. Светлые, что твоя солома спелая. А так – больше ничего и не скажешь.
– Мог бы такой великий пан и получше, выходит, выбрать.
– А мог, мог, да не захотел. Сколько лет казаковал, а вот нашлась и на него зазнобушка. Пан Игнацы, отец паненки, сам руками разводит. Что ни день благодарственные молебны служит, чтобы свадьба состоялась, не раздумал бы ясновельможный пан.
– На веселье, поди, все его знатные родные – кровные съедутся.
– Не слыхал. Не было такого разговору. Может, и нет уже никого из близких в живых. Только никого не будет. Ясновельможный пан храбья Платон Зубов и паненка Текла Валентинович.
Тренькает погребальный колокол в Янишках. Редко. Жалостно. Отзовется и замолчит. Кажется, надолго. Опять отзовется и опять смолкнет. А кругом весна бушует. Куда ни глянь, кругом почки проклюнулись. Зеленой дымкой окрестные леса заволокло. От птичьего гомона иной раз собственного голоса не услышишь. Где стаями вьются. Где гнезда вить начинают. Седьмое апреля. Радоница…
На графиню Зубову все оглядываются. Недолго семейным счастьем попользовалась. Года не прошло – вдова. Под густой вуалью лица не видно. Да и кто бы осмелился в лицо заглядывать. Счастлива, нет ли была, одно известно – граф души в пани Текле не чаял. На руках носил. И все… Во дворе графского дома обоз рядится. В Петербург гроб повезут. Графиня вместе поедет. Как бы иначе – последний долг! Там под столицей имение родительское родовое. Все Зубовы собираются. И название у поместья достойное. Графское. Троице–Сергиева пустынь. Молчит графиня Текла. Который день губ не разжимает. От попутчиков из родни да местной шляхты наотрез отказалась. Мол, слугами одними в пути обойдется. А возвращаться… там будет видно. Перстень, что императрица Екатерина Великая когда‑то супругу ее подарила, с бриллиантом преогромным, на руку надела. Часами смотрит, молчит.
– Обоз готов, ясновельможная храбина. Можно и в путь.
– Можно…
По прошествии положенного срока траура графиня Текла Игнатьевна Зубова сочеталась законным браком с графом А. П. Шуваловым.
Из семейного архива Шуваловых
И. И. Шувалов [последний фаворит Елизаветы Петровны] – сестре своей, княгине П. И. Голицыной. 1763.
…Довольно жил в большом свете; все видел, все мог знать, дабы еще меня счастие суетное льстило. Прямое благополучие в спокойствии духа, которого найтить иначе не можно, кейс удалиться ото всех неизвестных обстоятельств и жить с кровными и друзьями, умерить свой желания, и довольствоваться простым житием, никому зависти и досады не причиняющим. Часто обстоятельства виноваты нашему поведению. Один человек может быть нелюбим и любим по разности состояния… Все друзья мои, или большей частию, были только – моего благополучия. Теперь – собственно мои…