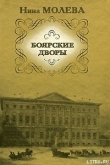Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Еще бы не читал. Кажется, наизусть заучил.
– Так объясни, Бога ради, в чем у них дело? Короля‑то они никак сохранили. А к чему он им теперь, если без власти?
– Тут, друже, такая заковыка у них получилась. Король – это как бы представитель всей нации. Власть у него исполнительная, но действовать он может только через министров, а те, в свою очередь, не ему подчинены, а собранию.
– Головоломка, ничего не скажешь. А прок‑то от таких выкрутасов какой?
– Да еще не все это выкрутасы. Король имеет наследственную власть, а все другие власти выборные. Министров он назначает, а те править по–настоящему ничем не могут, потому что нет у них от них одних зависимых чиновников. Выборными‑то как распорядишься?
– И страну они вроде как по–новому разделили.
– По–новому – на 83 департамента. И в каждом департаменте своя администрация избирается, даже мировые судьи. Оно и выходит, что центральная власть им вовсе не нужна.
– Так уж тут, друже, по моему разумению, порядка ждать не приходится. Каждый свой интерес соблюдать потщится. А на месте у него и корни поглубже, и ветки с другими деревьями сплетены пошире, пораскидистее.
– Если только на совесть человеческую да на разум положиться.
– Ой ли, друже! Такие сказки ты братцу своему Василью Васильевичу оставь. Он пиит, ему сочинительство к лицу, а тебе‑то, человеку здравомыслящему, негоже.
– Сам чувствую, недомыслили французы. С духовенством тоже неладно у них получилось. Собственность у церкви, как и у короля, отобрали, десятину церковную отменили, священников на казенное жалованье перевели. Со всем те согласились, а как до выборов дело дошло, восстали.
– Каких выборов? Священников?
– То‑то и оно – чтобы их тоже население выбирало. И приходских, и отдельно даже епископов. Вероисповедания все в правах сравняли. Вот из прихожан одни на все согласились, другие вместе с пастырями своими духовными в раскол ушли. Что наши староверы с Никоном.
– И кто же все это в жизнь проводить стал? Учредительное собрание, как только король Конституцию подписал, распустили, сколько понимаю.
– Распустили. А вместо него Законодательное собрание ввели, в которое одних новых людей набрали. Только от них, сам понимаешь, прок невелик: ни тебе опыта, ни умения. На словах, может, одно и то же исповедуют, а как за дело взяться, не знают и знать не могут. Иными словами, в эмпиреях летают. Да и где ты на местах стольких единомышленников отыщешь. Охотников власть захватить множество, а на общее дело потрудить – таких нет.
– Больше всего меня избирательный ценз смущает. Ведь это едва не половина народа власти никакой получить не сможет. Сколько кто налогов платит! Так это же государство для одних богатых получается. Неужто этого никто не уразумел?
– Да, без денег у них получилось ни–ни. А тут еще учредительное собрание для покрытия государственного долга почло за благо секуляризированные церковные владения распродать. Те же буржуа их и порасхватали. Выходит, еще богаче стали.
– Нескладно, куда как нескладно.
– А оттого и нескладно, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. С народа начинать надо было – они же с денег начали. И то еще посуди. Всех в правах на словах сравняли, всех обязали гражданами называть. Положим, цехи тоже отменили, свободу промышленности объявили, а какие‑нибудь новые корпорации организовывать запретили.
– Выходит, чья власть, то и право.
– Видно, так уж в нашем грешном мире положено.
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императрицы. Екатерина II, П. А. Зубов, А. В. Храповицкий.
– Ваше величество, неужели опять вместо того чтобы заниматься подлинно государственными проектами, вы собираетесь возиться с вашими мартинистами! Мне кажется, вам изменяет чувство масштаба.
– Все не так просто, мой друг. Ты не угадываешь в их действиях отголоски парижских событий? А ведь они несомненно есть. И нам надо как можно скорее уничтожить ту почву, на которой эти семена зла могли бы расцвести.
– Почва в виде одного загнанного в нищую деревушку поручика?
– Ты напрасно так легкомысленно отмахиваешься от Новикова. Его влияние по–настоящему велико. Он производит брожение в умах простонародья, а это само по себе крайне опасно.
– Тогда в чем же дело? Арестуйте вашего отставного поручика. Казните его, наконец. Спрячьте в крепость, но кончайте же эту возню. Ваши обыски, в московских книжных лавках наделали далеко не так много шума, а главное – не нагнали на москвичей благодетельного с вашей точки зрения страха. Советник Московской уголовной палаты ко всеобщему стыду не обнаружил в Богом забытой деревеньке никакой типографии, хотя вы на это и рассчитывали. Тогда им следовало захватить эту типографию с собой. Надо же действовать быстро и решительно, а не через час по чайной ложке. Этим можно только рассмешить и свой двор, и всю Европу. Откуда у вас, ваше величество, такая привязанность к этому Новикову?
– Но неужели ты не понимаешь, друг мой, что за этим стоят происки Малого двора!
– Вы так считаете? А мне думается, гораздо большее значение имеет благотворительная деятельность поручика. Она действительно колет глаза вашим придворным, да, впрочем, и самой императрице. Не хотите ли знать, как звучит сочинение Новикова о голоде в России? Могу его вам прочесть – оно не так велико, но достаточно выразительно.
– Откуда оно у тебя?
– Неужели вы думаете, что я назову вам имена, чтобы вы превратили меня в глазах общества в доносчика и агента вашего господина Шешковского! У меня достаточно добрых знакомых, скажем так, из литературных кругов. Они постоянно бывают в моем доме. Мы многое обсуждаем так, как нам представляется правильным и нужным.
– Но подумай сам, в какие мартинистские бездны ты можешь окунуться и как можешь сыграть на руку Малому двору! Голод в России! Надо же додуматься до такого абсурда. За всю свою поездку в Тавриду – а это не ближний путь – я не видела ни одного человека в лохмотьях и рубище. Ни одного.
– И все же можно мне ознакомить вас с сочинением Новикова? «Всякий, у кого есть дети, не может равнодушно отнестись к известию о том, что огромное число несчастных малюток умирает на груди своих матерей. Я видел исхудалые бледные личики, воспаленные глаза, полные слез и мольбы о помощи, тонкие, высохшие ручонки, протянутые к каждому встречному с просьбой о корке черного хлеба черствого, – я все это видел собственными глазами и никогда не забуду этих вопиющих картин народного бедствия. Целые тысячи людей едят древесную кору, умирают от истощения. Если бы кто поехал сейчас в глухую деревню, в нищенскую хату, у него сердце содрогнулось бы при виде целых куч полуживых крестьян, голодных и холодных. Он не мог бы ни есть, ни пить, ни спать спокойно до тех пор, пока не осушил бы хоть одной слезы, не утолил бы лютого голода хоть одного несчастного, пока не прикрыл бы хоть одного нагого».
– У меня нет слов! Это же пасквиль, истинный пасквиль! И только Прозоровский не хочет этого понять и довести дело до конца.
– Думаю, мне понятна политика московского главнокомандующего.
– Понятна, мой друг? Так в чем же она заключается?
– Князь не хочет недовольства во вверенном ему городе, а недовольство возникнет, несмотря на все предусмотренные вами, ваше величество, меры, непременно. Именно поэтому Олсуфьев, этот советник Уголовной палаты, не решился везти Новикова в Москву. Тот слишком слаб и потому мог бы скончаться в дороге.
– Вам нечего добавить, Храповицкий? Вы не имеете никаких новых сведений?
– Я хотел сообщить вам, ваша величество, что Прозоровский направил в новиковскую деревню майора с двенадцатью гусарами, которые и доставили Новикова в Москву.
– Живым и, как окажется, здоровым!
– Живым – это действительно так, но о здоровье говорить не приходится. Новиков всю дорогу впадал в обморочное состояние, так что его каждый раз с превеликим трудом приводили в чувство.
– В вашем голосе тоже звучит сочувствие или я ошибаюсь, Храповицкий?
– Ваше величество, мне никто не давал права оценивать побуждения и поступки моей монархини.
– Ах, так! Где же сейчас находится сей мартинист?
– Князь Прозоровский докладывает, что в Москве, в Тайном приказе у Мясницких ворот.
– И что дальше?
– Князь сам решил допросить арестованного, но никаких физических мер применять к нему не стал из‑за его крайней слабости. Впрочем, он подчеркивает, что словесных угроз с его стороны было предостаточно.
– Результат? В чем признался Новиков?
– Ни в чем.
– Посадить его на хлеб и воду. Или того лучше – на одну воду!
– Ваше величество, ой и так отказался от приема всякой пищи.
– Что?! Значит, без Шешковского не обойтись. Пусть везут Новикова сюда, в крепость. Живого. Или мертвого. Это уже не имеет значения.
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. С. Протасова.
– Вот и дожила ты, Анна Степановна, до новой свадебки. Пестовала, пестовала пятерых своих красавиц, пора их и в белый свет выпускать. Рада ли?
– По совести, государыня, сама не знаю.
– Это как тебя, клуша–наседка, понимать? Товар‑то у тебя такой на руках: оглянуться не успеешь, вянуть начнет.
– Молода Катюша, куда как молода. Пятнадцать лет – куда тут своим семейством обзаводиться. Да и жених…
– Вот те раз, и жених, оказывается, тетушке не потрафил.
– Так ведь на одиннадцать лет старше.
– Что за беда. Человек умнейший, образованнейший. При Малом дворе даже великокняжескую пару растормошить умеет. Уж Павлу Петровичу угодить – дело немыслимое, а Федору Васильевичу Ростопчину удается. За границей с детства много путешествовал, лекции в Лейденском университете слушал. А уж говорить как умеет!
– Так ведь и Катюша моя мало в Чем ему уступит. Одних языков сколько знает. От книг не оторвешь. Вдвоем говорить начнут – чисто профессора какие.
– Тем более хорошо. Может, Бог даст, друг к другу приладятся на всю жизнь.
– Федор Васильевич рассказывал, как с князем Безбородкой, по вашему, государыня, приказу, в Константинополь на переговоры только что ездил.
– Самой же понравилось – разве нет, Анна Степановна?
– Другое мне, государыня, горько. Не при вашем дворе Катюша будет, а при Гатчинском. Больно мрачно у них, неприютно. Может, есть такая возможность молодоженов‑то наших сюда перевести?
– А вот об этом, Королева Лото, говорить не будем. Федор Васильевич мне камергером при цесаревиче надобен.
– Да и с Нелидовой больно он не ладит.
– Чем же плохо? Вишь, какой узелок у нас крепкий там завязывается. А Катерине Петровне твоей нужды нет в их дела мешаться, может и в сторонке оставаться. Фрейлиной она пожалована, но я с нее обязанностей никаких спрашивать не стану.
– Еще я вам, государыня, сказать хотела, может, и пустяк, а так как‑то странным мне показался.
– Чего мнешься, Анна Степановна?
– Наш Платон Александрович обеспокоился, чтобы графа Ростопчина в Гатчине навестить, с предстоящей женитьбой поздравить.
– Так в чем дело‑то?
– Почему не в Петербурге? К чему ему в Гатчину ехать?
– А ты его, Анна Степановна, в опеку не бери. Пусть для всех любезен будет. Нам‑то с Гатчиной на открытых ножах тоже ни к чему все время оставаться. И что Ростопчина поздравит – отлично. Я от него прыти такой никак не ожидала. Молодец!
Стихи неизвестного современного автора на смерть Г. А. Потемкина.
Век счастливо прожив, Потемкин князь скончался,
Роскошествуя жил и дельности чуждался,
Век умницею жил, но был ли он таков -
Судить лишь могут то Фалеев и Попов [секретари князя].
Другие ж от него так Да да НЕТ слыхали,
Иные только рост, походку его знали.
В нем чести, правоты не виделось следа,
Властолюбив и горд, надменен был всегда.
Незнающий был вождь. Непобедимо войско
Доставило ему название геройско.
Везде он крал казну, себя обогащая,
Пол женский развращал, богатством обольщая.
Его уж нет! – Забудем, перестанем говорить,
Дадим наследникам простор имение делить.
Петербург. Зимний дворец. П. А. Зубов, А. С. Протасова, Екатерина II.
– Платон Александрович, ваше сиятельство, думается, вам надо бы поспешить к государыне.
– Что‑нибудь случилось, Анетт?
– Ради бога, тише, граф, давайте не будем давать пищу сплетням – их и так за последнее время плодится слишком много. Но идемте, идемте скорее к ее величеству.
– Нездоровье?
– Благодарение Господу, нет, но государыня получила ужасное известие – о кончине князя Таврического.
– Потемкин погиб? В бою? От ран? Но он, кажется, стал избегать участия в военных действиях.
– Какое ранение! Князь скончался. Еще трудно сказать, от чего. Скорее всего, от апоплексического удара.
– Но у ее величества последнее время заметно изменилось отношение к князю. И я знаю, многое в его действиях вызывало раздражение государыни.
– Полноте, какие счеты, когда человек уходит. Навсегда уходит. И не обманывайте себя, граф, Григорий Александрович до последнего немало значил для государыни. Только, пожалуй, никто не догадывался, как дело обстояло в действительности.
– Ее величество расстроена?
– Не то, Платон Александрович! Скажу вам откровенно, я боюсь такого же, как у князя Таврического, удара. Доктор Роджерсон давно опасается такой возможности.
– Государыня знает об этом?
– Упаси, Господь! Государыня не терпит докторов, а всякое их заключение только портит ее настроение. Она никогда не следует их советам. Роджерсон говорил об этом мне. И Марье Саввишне. Ей наказал быть все время начеку. Приготовил как следует лекарства.
– Что же делать, Анна Степановна? Что делать?
– Развлеките государыню. Отвлеките от черных мыслей какими‑нибудь разговорами. Вы умеете, Платон Александрович. А ваша забота ее тронет, заставит изменить ход мыслей.
– Я… я постараюсь… но, может быть, все‑таки доктор? Какие‑нибудь успокоительные. Нюхательные соли…
– Да соберитесь же с силами, Платон Александрович. Ваш растерянный вид совсем расстроит государыню. Подумайте, в государыне вся ваша жизнь. Слова какие‑нибудь найдите… Да вот мы и пришли. Я оставлю вас.
– Ваше величество! Какое несчастье! Какое страшное несчастье! Для вас потерять такого верного друга. Истинного соратника.
– Но ты же недолюбливал князя, мой друг?
– Какое это имеет значение перед лицом смерти!
– Ты думаешь, что перед лицом смерти обязательно ханжить? Так принято. Но мы с тобой вдвоем, и вряд ли имеет смысл притворяться. Тебе‑то какая разница ~ жив князь Таврический или мертв?
– Я подумал о ваших чувствах, ваше величество.
– О моих чувствах… Видишь ли, мой друг, я никогда ими ни с кем не делилась и не собираюсь делиться. У каждого человека в моей памяти его собственное место, и в этот склеп я предпочитаю входить одна. Ты ничего не знаешь а Григории Александровиче, а уж о его службе мне и подавно.
– Государыня, я готов развеселиться, если это больше соответствует вашему нынешнему состоянию. Я знал о тех неудовольствиях, которые доставил вам князь Таврический…
– И это тем более оставь. Это мое с князем покойным дело. Свою часть покойный с собой унес, мою половину я с собой унесу – вот и весь сказ. А если уж хочешь знать, что мне страннее всего показалось, так это обстоятельства его кончины.
– В них было что‑то необыкновенное? Государыня, вы вздрогнули!
– Да так, будто холодком прохватило.
– Вы разрешите накинуть на ваши плечи накидку. Вот эта, кунья, пожалуй, лучше всего будет. И истопника надобно кликнуть – в камине помешать.
– Сам помешай, не надо звать. Никого. Сумеешь?
– Как не суметь.
– Вот и славно. Ты знаешь, друг мой, что суеверий я не терплю.
– Но некоторые, государыня, исполняются с удивительной точностью. Как тут не верить.
– Кто это тебе в голову вбил глупость такую?
– Матушка.
– А, ну прости. Только говорить можно о совпадениях – не больше. Тем не менее случай с князем заставляет задуматься. Вообрази, прошла заупокойная лития по принцу Виртембергскому. Потемкин вышел из церкви и по рассеянности поднялся вместо своей кареты на катафалк.
– Господи, помилуй, страх какой! Это уж не примета – прямое предсказание. Я, кажется, умер бы на месте.
– Вон ты какой, оказывается, впечатлительный. Потемкин не умер, но расстроился очень. И с того дня начал думать о своем конце. Сам себя готовить к смерти.
– Как же сам себя, когда смерть ему так явственно вышла.
– Опять ты за свое! Но стал он сам о кончине думать, да и все кругом заладили, вроде тебя, вот и не стало Григория Александровича.
– Да, тут уж и к доктору обращаться нечего – судьба.
– К какому там доктору! Григорий Александрович стал пировать напропалую. Мне пишут, каждый день застолье. Вина – море разливанное. Еда – чего только душа пожелает. Иной раз встать из‑за стола от объедения не мог – под руки выводили. И все ему мало казалось. Со стороны посмотреть – будто с жизнью прощался.
– Да уж тут и впрямь мороз по коже.
– Только знаю, еще одно его подкосило. Помнишь, старший из братьев Орловых умер – Иван Григорьевич. «Старинушка» – они его все звали.
– Помню, да князю‑то что?
– Воевали они, всю жизнь воевали. Орловы с Потемкиным. Неважно тебе знать почему, а только ненависть лютой была. Особенно Григорий Григорьевич обиды свои считать был горазд. Почти десять лет прошло, как его не стало.
– Графа Григория Григорьевича Орлова?
– Да, графа Гри. Гри – так его звали. Его брат Алексей Григорьевич в отставке оказался. Ничем, кроме дочери своей единственной, заниматься не стал. А вот теперь – «старинушка». Потемкин мне и признался: пусто что‑то стало. Знаешь, как на кулачках: один боец уйдет, так и другому уходить надо.
– А по–моему, тем лучше, что ушел.
– По–твоему! Григорий Александрович другого кроя человек был. Совсем другого.
– Вот и выходит, жалеете вы его. Дорог он вам оставался, хоть на дворец Таврический гневались.
– Мало ли на что гневаться приходится. Это по каждодневному счету, а вот по большому… И лет‑то папе всего–навсего пятьдесят пять набежало какие его годы. Ты поди, друг мой, не заходи сегодня. Отдохнуть хочу.
В. В. Капнист – А. А. Капнист. 11 ноября 1791. Кременчуг.
…Новинки следуют: князь предчувствовал, что ему умирать. Причиною смерти его обжорство. 30 числа сентября в день рождения своего он сказал, чтоб г. лекаря его не беспокоили, ибо он точно умрет. Его все внутренне жгло. И он все себя холодною водою опрыскивал. Потом захотел для перемены воздуха выехать в Николаевск. На первой почте заснул. Ночью поздно проснулся и нетерпеливо велел ехать далее. Отъехав несколько верст, почувствовал, что ему дурно, велел остановиться; подбежавшим к нему сказал, что он уже их не видит, чтоб его вынесли, что он уже умирает.
Как в торопливости смешались, то он сам ногу на ступеньку поставил, сошел. Ему послали матрас, и он на него легши, попрощался и умер. Графиня Браницкая бросилась в беспамятстве на него и стала ему дуть в уста. Ее подняли и оторвали от него. С ним были, кроме ее, Фалеев, Львов и Кишинский.
Зимний дворец. Кабинет Екатерины. II. Екатерина и П. А. Зубов.
– Наконец‑то одни! Кажется, никогда еще так не уставала, как нынешнего дня. А все бестолочь – ни одного дельного разговора, со сколькими послами ни толковала. Все они на воду дуют, хоть молока и пробовали горячего. Но больше никаких дел. Садись на скамеечку, Платон Александрович, ко мне поближе и…
– Государыня, я понимаю вашу усталость, но…
– Какое «но»?
– Есть еще одно неотложное дело, о котором, по моему разумению, надо не откладывая в долгий ящик поговорить.
– О чем ты, друг мой?
– Право, не знаю, может быть, ваша скорбь по князю Таврическому еще не утратила своей остроты, но интересы государственные не терпят промедления, и лучше, если завтра с утра вы начнете принимать сановников с готовым решением по Малороссии.
– Что‑то не пойму, какое решение ты имеешь в виду.
– Государыня, я задаю вам ненужный и очевидный вопрос: вы во всем были довольны покойным князем в делах управления Новороссийским краем?
– Платон, тебе ли не знать, что нет и почему именно. Решения разумные чередовались у князя с откровенным грабежом государственной казны. Он сделал из Новороссии свою вотчину, которой не занимался вовсе, требуя от случайных управителей лишь доходов на свои личные нужды. Но это долгий разговор и не ввечеру же его вести.
– Но завтра с утра вас окружит толпа ваших любимых советников и, не успеешь оглянуться, как вы подпишете какой‑нибудь ими и в их пользу составленный указ, который я хочу предупредить.
– Друг мой, я вижу твое волнение, но прошу тебя, выражайся более внятно: чего ты хочешь от меня?
– Не лично от вас, но от императрицы. Если вас, в конце концов, не удовлетворял ни образ жизни князя, ни его способ ведения дел, я хочу предложить, чтобы вы, ваше величество, попробовали в этом качестве меня.
– Тебя? Но, друг мой; у тебя нет нужных навыков. И потом твоя молодость…
– Она не мешает вам называть Зубова своим другом, спрашивать его советов и даже принимать их – кстати сказать, слава Богу, все чаще и чаще, – а официальное назначение вас почему‑то пугает. Если вы считаете меня непригодным для таких действий, избавьте меня от необходимости обсуждать с вами и все остальные дела. Я просто буду молчать и займу положенное мне место в антикамере – не дальше!
– Друг мой, ты непомерно возбудился. Мынепременно все обсудим…
– Когда‑нибудь! Но меня это не устраивает. Совершенно не устраивает. Кстати, вы знаете, что мне удалось узнать от наших агентов в Берлине? Полагаю, для вас это станет совершеннейшей новостью. Малороссийские помещики приезжали туда просить помощи от князя, точнее – от тирании русского правительства и князя Потемкина. Украинский эмиссар добился аудиенции у министра Герценберга и, не стесняясь в выражениях, спросил: могут ли они рассчитывать на поддержку Пруссии на случай их восстания? Каково?
– Когда это случилось?
– Князь был еще жив.
– И позиция прусского министра?
– Герценберг ответил достаточно уклончиво, и похоже на то, что он посоветовал своему королю не входить в сношения с украинским эмиссаром. Тот уехал не солоно хлебавши.
– Кто бы это мог быть? Надо выяснить.
– Нечего и выяснять. Петр Васильевич Капнист.
– Так… Я давно слышала о том, что он не скрывает своего недовольства тем, чему нашел название потемкинского ярма.
– Это, насколько я понимаю, брат нашего знаменитого пиита и киевского губернатора.
– Родной брат. Но Василий Васильевич всегда придерживался пути реформ, братец же оказался вон каким радикалом. Но теперь‑то ты тем более должен понять, как нелегка ноша, к которой ты стремишься? Уж если Григорий Александрович…
– Опять покойник! Кажется, все его порочные деяния очевидны. Я вижу для себя иной путь – к сердцам и душам украинского дворянства. Князь тешил самого себя, я постараюсь тешить местную шляхту и надеюсь в этом преуспеть.
– Платон Александрович! Я понимаю обуревающую тебя жажду деятельности, но все не так просто, как тебе кажется. Одним хорошим поваром и сытными обедами ты ничего среди новороссийских и украинских помещиков не добьешься. Не думай, что они похожи на тех глухих провинциалов, которых привык прикармливать в уезде твой батюшка.
– Что вы знаете о нашем уезде, когда вы никогда там и не были!
– Не горячись, не горячись, мой друг. Лучше послушай. Тебе это пойдет на пользу, если ты отнесешься с вниманием к моим словам.
– Я всегда отношусь с величайшим почтением к словам императрицы, но я не создан быть постоянным школьником, ваше величество.
– Платон, я настаиваю на твоем внимании.
– Мне не остается ничего другого, как согласиться на очередную экзекуцию.
– Вот и помолчи. Я должна тебе сказать, что Петр Капнист мало в чем уступает этим бунтовщикам и масонам – Новикову и Радищеву. Богат он чрезвычайно и в своем поместье Пузыковке…
– Вы запоминаете даже такие дурацкие названия, ваше величество?
– Ничего не поделаешь, если хочешь управлять державой. Так вот, в этой Пузыковке Петр Капнист устроил род республики и установил совершенно особенные отношения со своими крестьянами. Совершенно отринув дворянские привилегии, он называет своих крестьян соседями. Да, да, именно соседями со всей вытекающей отсюда уважительностью и пониманием их потребностей.
– Не хватает еще называть это быдло на вы!
– Не исключено, что Петр Капнист именно так и поступает. Не имею представления, как далеко зашли его увлечения французским просветительством.
– Но если он занимается этим в собственных деревнях, то, в конце концов, это его личное дело. Они же его крепостные.
– А вот и не личное! Это очаг заразы, которая очень прилипчива и склонна быстро распространяться.
– Не могу себе представить помещиков, отказывающихся добровольно от своей власти над крестьянами.
– Ты не можешь – другие могут. И здесь уже начинается критика всего на свете: государственного устройства, взяточничества, расхищения государственной казны. Но главное – все государственные чиновники обвиняются в единственном и всепоглощающем стремлении к собственному благополучию и наживе.
– И что же в этом стремлении противоестественного?
– Собственное благо выше общественного!
– Но это же совершенно очевидно.
Петербург. И. де Рибас, П. А, Зубов.
– Вы знаете, что государыня доверила мне руководство Новороссией, де Рибас? Указ еще не опубликован, но он уже подписан. Ее величество не видит другого человека, который смог бы принять на себя столь сложное управление.
– Мне остается в который раз удивляться прозорливости нашей императрицы. Ее недаром вся Европа называет Великой. Ваша кандидатура, я думаю, всем, кроме прямых завистников, представится идеальной.
– Вы еще не видели меня в деле, де Рибас.
– Я знаком с некоторыми из ваших проектов, граф. О них все говорят при дворе, и они не могли не увлечь меня своей оригинальностью и размахом.
– Но вы привыкли к размаху Потемкина, не правда ли, и, само собой разумеется, переживаете его утрату.
– И да и нет, ваше сиятельство.
– Не понимаю. Разве у вас бывали трения с князем Таврическим?
– Никаких.
– Так в чем же дело, объяснитесь.
– Ваше сиятельство, времена меняются. То, что было хорошо десять лет назад, становится плохим сейчас. Или, скажем, не плохим, а уже далеко не таким удачным, не правда ли?
– Вы хотите сказать, что князь Таврический устарел для своей должности?
– Если позволите, ваше сиятельство, я уточню свою мысль. Покойный князь не устарел – устарели те проекты, с которыми он когда‑то выступал. А с годами Григорий Александрович потерял интерес к новшествам. Его начеши тяготить постоянные хлопоты, и он старался устраниться от них.
– Может быть, это было следствие лагерной жизни?
– Или удаленности от столицы, к которой князь постоянно стремился.
– Зачем? Он уже не пользовался доверенностью императрицы и не мог рассчитывать на какое‑либо продвижение.
– Затрудняюсь сказать, впрочем…
– Что же вы запнулись, де Рибас, продолжайте.
– Мне моя мысль представляется слишком бесцеремонной. Она, по всей вероятности, не понравится вам, ваше сиятельство, а мне никак не хотелось бы быть вам неприятным.
– Полноте, я заранее даю вам отпущение грехов. Смелее, де Рибас, я люблю откровенность, тем более у людей, в которых собираюсь найти своих будущих сотрудников.
– Я бесконечно польщен, ваше сиятельство, и – рискну сказать полную правду. Князь Таврический ревновал вас.
– Правда? Но чему же?
– Вашему успешному сотрудничеству с императрицей и той высокой оценке, которой ее императорское величество отмечала ваши труды.
– Ревновал… Как забавно, хотя, пожалуй, и справедливо.
– Совершенно справедливо, ваше сиятельство.
– И что же он говорил по этому поводу? Я не люблю сплетен, но князь Таврический, согласитесь, был великий человек.
– Ваше сиятельство, я слишком близко знал князя, чтобы полностью разделить вашу высокую оценку.
– Ах, так. Но ведь о мертвых либо хорошо, либо ничего – так гласит латинская пословица.
– А насчет ревности – видите ли, ваше сиятельство, князь утверждал, что никто никогда не пользовался таким сильным и безусловно благодетельным влиянием на нашу императрицу, как вы.
– Продолжайте, продолжайте, это любопытно.
– Я передаю только то, что мне довелось слышать самому. Так вот, князь сетовал, что ему не хватает энергии вашего сиятельства и вашей способности увлекать людей своими прожектами. И он не сомневался, что все они будут по достоинству оценены ее императорским величеством.
– Какая досада, что нам не довелось ближе сойтись с этим интересным человеком. Думаю, что я сумел бы снова воодушевить князя на новые начинания.
– Несомненно, ваше сиятельство, несомненно.
– Приятно поговорить с знающим человеком. Я рад нашему ближайшему знакомству, де Рибас. Да, и хочу спросить, каковы ваши планы на будущее.
– Они будут целиком зависеть от вас, ваше сиятельство.
– Вы хотели бы вернуться в Петербург?
– В том случае, если это необходимо.
– Это значит, вы готовы остаться в Новороссии и продолжать управление ею, как то было при Григории Александровиче?
– Если вы найдете меня для этого пригодным, ваше сиятельство. Все отчеты я готов представить в положенные сроки.
– Никаких отчетов, Иосиф Николаевич, никаких отчетов. Я вам полностью доверяю. Вы будете занимать то же место, что занимали.
– Но по всей вероятности, ее величество захочет меня подвергнуть испытанию. Насколько я знаю, у государыни были претензии к покойному князю.
– Знаю. Но с ее императорским величеством обо всех этих мелочах я договорюсь сам. Вы можете спокойно работать, и никто не будет вас тревожить всяческими дурацкими дознаниями. Довольны ли вы положенным вам жалованьем? Не стесняйтесь, Иосиф Николаевич, лучше сразу выяснить все необходимые подробности. Я, во всяком случае, действую всегда только так.
– Ваше сиятельство, не знаю, как благодарить вас за вашу предупредительность и внимание, но, с вашего позволения, пусть вопрос о моей награде решится после того, как вы лично убедитесь в результатах моей работы. Мне нечего бояться подобного испытания.
– Не сомневаюсь. И ценю вашу деловитость. Не премину доложить о ней государыне, хотя ее величество и так относится к вашему семейству с искренней симпатией. В моем лице вы также обретете доброжелателя и покровителя.
– О, благодарю вас, ваше сиятельство. Мне остается сказать, что сегодня у меня едва ли не самый удачный День в жизни.
– Даже! Вы преувеличивайте, мой друг.
– Но я обрел одновременно почву под ногами и такого покровителя и начальника, о котором мог только мечтать.
– В последнем я уверен. Так что вам остается лишь оправдывать мои надежды и – бывать у меня на обедах, когда вы в Петербурге.
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. В. Храповицкий.
– Итак, я становлюсь Пифией: новое французское министерство, эта печально знаменитая Жиронда, настояла на объявлении войны Австрии, а Пруссия вступила, в свою очередь, в союз с новым императором. Франц II получил серьезную поддержку.