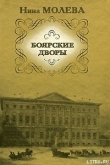Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Он говорит, что почитает своим долгом…
– Его долг передо мной так велик и неоплатен, что одна аудиенция ничего не решит. Не желаю никаких объяснений. Ты поняла Кутайсов? Никаких. Если не хочешь вывести меня из себя.
– Государь, я никогда не заступался за этого наглеца и фанфарона. Мне просто показалось любопытным, как изменился весь его облик за считанные дни, во что этот надутый манекен превратился.
– Мы кончили раз и навсегда этот разговор. Хотя… хотя есть еще один член этой семьи.
– Кого вы имеете в виду, государь? Не могу себе представить.
– Не можешь? А как же красавица Жеребцова? Единственная зубовская сестра. И притом не просто красавица. Ольга Александровна куда умней своих братцев. А ее умение говорить, быть занимательной собеседницей принесло ей огромный успех в Париже. Жеребцову принимали во всех аристократических салонах, и она сумела обольстить даже ату мерзкую фернейскую обезьяну – Вольтера. Ты не обратил внимания, как избегала Жеребцовой покойная императрица? С такой соперницей ей не приходилось и думать о победе.
– Что ж, Жеребцова ей явно не пара.
– Но кажется, Ольга Александровна компенсировала эту свою неудачу. Я помню разговоры о ее близких отношениях с богачом Демидовым. Ее легкомыслие не уступает нравственной беспринципности братьев. Нет, Кутайсов, ее я просто не замечу. Пусть живет как хочет и как умеет, лишь бы ее похождения не получали излишней огласки.
Петербург. Васильевский, остров. Дом Д. Г. Левицкого. В. В. Капнист и Д. Г. Левицкий.
– Неужто что‑нибудь переменится, Василий Васильевич?
– К лучшему, хотите вы сказать, Дмитрий Григорьевич?
– Конечно, к лучшему. О худшем что думать – само придет, не забудет.
– К лучшему…
– А у вас сомнения, Василий Васильевич? Ведь вот выпустил же император Николая Ивановича из крепости, первым же своим указом выпустил, а в указе первым номером Новикова поставил.
– Видели вы его, Дмитрий Григорьевич?
– Как не видеть! Сами же с Настасьей Яковлевной и в Москву его провожали.
– В Авдотьино – так точнее.
– Да, Николай Иванович пожелал незамедлительно в Авдотьино отправиться. Все молился, чтобы живым доехать.
– Так плох?
– Его больным четыре года назад брали.
– Знаю, знаю.
– Но тогда болезнь была. Теперь – дряхлость. От болезни выздоравливают, от дряхлости…
– Как дряхлость? В его‑то годы?
– Да никто ему его пятидесяти двух нынче не даст – все восемьдесят.
– И врач не помог? Ведь с ним вместе все время был.
– Был. Да ведь врач недугу телесному противостоять иногда может, а Николая Ивановича недуг сердечный поразил. Несправедливость человеческая. Все для людей желал, о народе российском пекся и в преступники государственные вышел. С обидой своей не справился.
– И государь его видеть не захотел, вернуть типографию не обещал?
– Где там! Передавали мне, что его императорское величество великое неудовольствие высказал – Новиков лично не пытался его за милость благодарить.
– Это кто же такое узнал?
– Госпожа Нелидова Екатерина Ивановна. Она же и гнев государев утишить сумела, тяжкою болезнию Николая Ивановича его извинила. А то чуть приказа не вышло силой Новикова с дороги свернуть, чтобы государю в ноги упал.
– Да уж такой неожиданности никто бы не пережил.
– Вот Екатерина Ивановна тут все силы приложила, спасла Николая Ивановича.
– Значит, благополучно доехал.
– Как сказать – благополучно. Авдотьино в полном разорении нашел, детей едва не в рубище.
– Это за четыре‑то года!
– В России на разор и года хватит. Вот что в письме мне из Авдотьина пишут: «По возвращении своем Николай Иванович увидел себя лишенным почти всех способов содержания себя с семейством одними доходами с оставшейся небольшой подмосковной деревни и потому принужден был заложить помянутую деревню, в 150 душах состоящую, в Московский опекунский совет в 10 000 рублей серебром. Часть сей суммы употреблена на поправление домашней экономии, а остальные деньги издержаны на покупку хлеба для прокормления людей по случаю бывшего здесь хлебного неурожая».
– Несчастливый человек!
– Да разве это все, Василий Васильевич! Вы сами отец, сами знаете, как о детках сердце болит, а Николай Иванович ровно в госпиталь приехал.
– Как это? Какая еще беда его постигла?
– Та, что сын припадками стал страдать нервическими. Более ни учиться, ни даже к чтению прилежать не в состоянии.
– Наследственное?
– Какое! Напугался, когда военная команда Авдотьино обыскивала. Так напугался, что несколько месяцев слова не мог вымолвить. Да и дочка не совсем чтобы в себе стала.
– Вот уж поистине кара не по вине!
– Какая у такого человека вина! Сам мне в письмах признается, что не разор ему горек. Тут он все еще надежду питает какой‑никакой порядок навести.
– Что ж тогда?
– Праздники. Праздники авдотьинские, где мартинисты наши собираться могли. На них теперь у Николая Ивановича ни средств, ни силы нет. Спасибо, собственные да и соседские крестьяне не забывают. Всеми силами поддерживают.
– Его же крепостные?
– Друг мой, сами знаете, сколь отвратительно нам всем это рабское состояние, что мы и вслух произносить его не хотим. Для Николая Ивановича главное, чтобы крестьяне ни рабами, ни должниками новиковскими себя не чувствовали.
– И как же этого ему достичь удается? Обхождением?
– Обхождение само собой. Но у Николая Ивановича целая метода придумана, обоюдовыгодная, как сам он отзываться любит. Из земель своих он общественные участки выделил. Что с них урожая снимет, все в закрома для общественного прокормления на случай неурожая или беды какой крестьянской. Себе зернышка не возьмет. Тем не то что Авдотьино свое – всю округу держит.
– Положим, а обрабатывать их кому? Сам хлеб не вырастет.
– А с работами особый порядок. Не может должник новиковский долгу своего ни деньгами, ни натурой, в общественные закрома вернуть, может все на общественных нолях своим трудом.
– Что ж, Николай Иванович сам назначает, кому на какую работу и когда идти?
– Ни Боже мой! Все добровольно. Как у себя на наделе управятся, час свободный найдут.
– И находят?
– Еще как находят. Сам, в гостях у Николая Ивановича будучи, видал, на общественных полях работа что ни день кипит. Людей всегда полно.
– Но как же в таком случае Николай Иванович процент назначает?
– Ни о каких процентах у него и речи нет. Сколько взял, столько отдал.
– Сколько взял, столько отдал? А на что усадьбу содержать? Самому кормиться?
– Было время – на труды литературные. Нынче такой возможности нет. Где подлатать дом удастся, где какой венец в срубе сменить – крестьяне из лесу бревно–другое своими лошадьми подкинут, сами же и заменят.
– Да, хозяином господина Новикова не назовешь. А сам‑то он как?
– Чуть–чуть покрешпе стал. По деревне прогуливается, когда пряники да заедки в доме есть – детишкам их раздавать любит. Они за ним так стаей и ходят.
– Пословица мне вспомнилась: простота хуже воровства, без живой нитки оставит, по миру пустит.
– Еще сказать вам забыл – Семен Иванович Гамалея теперь там безвыездно живет. Когда Николай Иванович в крепости томился, он за детьми приглядывал – четверо все‑таки, – да так и остался.
– Дмитрий Прокофьевич Трощинский, сосед мой по Обуховке, много доброго о нем рассказывал. Божьим человеком называя.
– Справедливо называл.
– А вам знаком он?
– Еще по киевским временам. Семен Иванович Киевскую духовную академию кончал.
– А я что‑то думал, в Москве вы с ним подружились.
– И в Москве тоже. Семен Иванович сначала в Сенате служил, позже в канцелярии московского генерал–губернатора. Везде на высочайшем счету был. И то сказать, четырьмя языками в совершенстве овладел – с латинского, польского, немецкого и французского перевода! с легкостью делает. Мы с ним у Новикова в Москве встречались, беседы долгие вели.
– Дмитрий Прокофьевич сказывал, что нравом Божий человек строг до суровости.
– И то правда – что к себе, что к другим. Однако Иван Петрович Тургенев души в нем не чает. С Николаем Михайловичем Карамзиным Гамалея переписку который год ведет. О материях филозофических, духовных – как натуру человеческую усовершенствовать, как к Богу ее приблизить.
– Скучаете до Авдотьину?
– По Николаю Ивановичу. Когда‑то Бог приведет свидеться. Разлетаются наши мартинисты, как лист осенний разлетаются.
– Побойтесь Бота, Дмитрий Григорьевич, а как же господин Лабзин? [21] Можно сказать, столп и утверждение истины в мистических исканиях. Я и то немало дивился, что не возвращает он вас в Академию художеств. Ведь может, и спорить нечего, может.
– Господин Лабзин – другое.
– А насчет Академии…
– Насчет Академии давайте, Василий Васильевич, толковать не будем. Дорога туда мне до конца моего веку закрыта. Господин Лабзин брать на себя ответственности не будет.
– Почему же, когда вы одних взглядом придерживаетесь? Что же, вы его мартинистом не считаете? Как, никак в одной ложе состоите.
– Состоял.
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императора. Павел I и Е. И. Нелидова.
– Вы сегодня в Дурном расположении духа, мой государь? Кто и чем мог вас огорчить с утра? А ведь это утро такое великолепное! Взгляните, не для вас ли так ярко светит солнце – оно бывает таким только в разгаре лета.
– И тем не менее это всего только осень. Глубокая осень, и у меня нет никакого желания себя обманывать некими сентиментальными восторгами.
– Мой государь! Но почему вы все время думаете об обмане? Разве наступающая зима не чудесное зрелище? А езда на санках? Вы так любили эти прогулки в Гатчине.
– Я благодарен вам за желание меня развлечь, Екатерина Ивановна, императору не до пустой болтовни. У меня слишком много дел, и если у вас нет ко мне никаких вопросов, то мы увидимся вечером.
– Как раз есть, государь. Я подумала о ваших портретах. Вернее – о том, кто бы их мог лучше всех написать. Это непременно должен быть выдающийся художник.
– Я знаю такого. Меня вполне удовлетворит. Степан Щукин.
– Но, государь!
– Вы не разделяете моего вкуса? Напрасно. У Щукина есть та солдатская строгость, которая всегда была близка моему сердцу. В его портретах нет этого фривольного блеска, которым так увлекалась моя мать. Они мужественны и просты – это то, что нужно.
– Бог мой, государь, но этот Щукин решительно не понимает вашей истинной натуры. Солдат – это необходимо для императора, тем более российского. Но сколько же еще разнообразных талантов и особенностей присуще вашей натуре! Щукин решительно не способен их видеть. Самое большее – он сделает из вас Фридриха II, не больше.
– Что меня вполне удовлетворит, как я уже сказал. Но вы невольно разожгли мое любопытство: за кого же вы решили ходатайствовать, моя маленькая фея?
– Государь, вы даже улыбнулись! Я счастлива, просто счастлива. А художник – я подумала о Левицком. Нет–нет, государь, подождите, пожалуйста, подождите возражать. Вспомните: покойной императрице совершенно не нравились его портреты, потому что они заставляли вспоминать о долге.
– Что же, в этом я могу согласиться с моей матерью. Император должен помнить о своем долге, но не дело подданных преподавать ему уроки. Хотя моя мать в таких уроках и нуждалась.
– Почему же вы так ставите вопрос, мой государь? Разве аллегория недопустима в царских изображениях?
– Я не люблю ни аллегорий, ни скрытых намеков. Двойное дно всегда обращается против носителей власти.
– Государь, но никаких аллегорий не было в портретах великих княжен, и вы сами выразили удовольствие от их вида. Левицкому достаточно сказать, чего именно вы бы желали, и он блистательно исполнит вашу волю.
Я великий князь и не малолетнее дитя. То, что нашел ваш художник в них, совершенно лишнее искать в моем облике.
– Но ведь вас должны любить ваши подданные!
– Удивляюсь, как вы не сказали – обожать. Но вы ошибаетесь, мой друг, – перед императором должны трепетать. В этом его истинное назначение и роль, которая позволит добиться могущества державы.
– И все равно вас любят, мой государь!
– Меня никто не может любить. Моя мать убила и сделала посмешищем моего отца. Кстати, вы знаете, что никто не смог ответить, где находится его могила?
– Боже мой, но это же невозможно!
– И тем не менее. Его похоронили в Александро–Невской лавре бег надгробия, и сегодня уже никто не может с точностию указать его священное место. Мне придется удовольствоваться свидетельством единственного дожившего от тех дней полуслепого и, боюсь, выжившего из ума монаха.
– Какую же рану это наносит вашему сердцу! Как вы страдаете, мой государь, и я не жну разделить ваших страданий! Это просто несправедливо.
– Благодарю вас, мой друг. Я знаю, вы единственный человек, которому не безразлична моя душевная жизнь. В вас всегда было столько доброты.
– О государь, вы же сами требуете называть вещи своими именами: не доброты, но любви и преданности.
– Если бы у матери моих детей была хоть крупица ваших чувств, мне легче было бы переносить этот семей–вый каземат.
– Но мне кажется, ее величество Мария Федоровна исполнена самых добрых чувств к вам.
– Вам ли не знать, как бесконечно скучны все ее излияния по поводу любви к детям, которых она, впрочем, и на самом деле любит, и уж тем более по поводу семейных обязательств. Я искренне счастлив, что избавь лен от необходимости проводить рядом с ней, как в Павловске, все вечера.
– Мой государь, вы успеваете обдумывать столько вопросов одновременно. У вас поистине ум великого монарха! Что вы собираетесь делать с Академией художеств?
– Положительно, вы стали поклонницей изящных искусств, хотя мне была известна скорее ваша склонность к музыке и пению.
– Вы оставите мой вопрос без ответа, государь?
– Нет, если вы так на нем настаиваете. Вы сами знаете, что президентом я назначил графа Мусина–Пушкина.
– О да, решительно все об этом говорят.
– Я думаю, скорее об увлечениях графа.
– Вы правы, мой государь, злые языки не могут успокоиться по поводу того, что, будучи обер–прокурорам Синода, граф собирал свою коллекцию рукописей в сокровищницах подчиненных ему монастырей.
– У которых никогда не хватало ума этими сокровищами дорожить да и вообще понимать, что они обладают сокровищами.
– Но граф, уверяют, создал целую сеть комиссионеров, которые выискивают ему древние рукописные памятники по всей России.
– Я могу только пожелать ему успеха.
– Как это хорошо, что его действия могут удовлетворить вас, ваше величество.
– Да, я ими уж доволен. Он очень дельно взялся за перемены в этом заплесневевшем здании, рассчитанном лишь на пышные празднества в честь великой Екатерины.
– И в чем же эти перемены состоят?
– Это вас интересует?
– Еще бы! Как, впрочем, и все, что вы предпринимаете, мой государь!
– Вы редкий слушатель, мой друг, вам приятно рассказывать, даже если вы не слишком понимаете, о чем идет речь.
– Вы так снисходительны к моей необразованности, государь.
– Я охотно прощаю ее вам за ваше очарование. Так вот, во–первых, Мусин–Пушкин сам назначил нового директора.
– Разве того же не делал ж покойный Бецкой?
– Нет, конечно, это была прерогатива Совета, за которую господа художники крепко держались. Граф разумно не придал значения их возражениям. Отныне с прерогативой покончено.
– А еще?
– Еще граф изменил соотношение классов. Прежде каждый из них обладал известной самостоятельностью и его руководитель действовал так, как считал нужным. Теперь все живописные классы передаются в руководство профессора живописи исторической. Он один станет решать, как и что в них преподавать.
– Но так ли это важно, государь, подчинить профессору живописи исторической пейзажистов, живописцев цветов, зверей, даже баталистов?
Вы ничего не поняли, мой друг. В искусстве должна существовать единая дисциплина и единый стиль, иначе оно будет существовать только во вред государству.
– Мой государь, я и в самом деле не способна понять всего масштаба ваших замыслов, как не могу понять, почему однообразие в искусстве полезно государству. Мне кажется…
– Вот именно, вам кажется, а я твердо знаю: разброд в мыслях, как разброд в солдатском строю, ведет к поражению государства. При мне его не будет.
– А я подумала вас попросить…
– Это уже вторая просьба, Екатерина Ивановна!
– Но я имею в виду самую мелочь.
– В чем же ваша мелочь заключается?
– Не найдется ли преподавательского места для господина Левицкого? Он восемнадцать лет преподавал в портретном классе, и только каприз Потемкина лишил его работы, бы же видели столько его работ, мой государь!
– Нет, такого места для него нет.
– Вы так категоричны, государь, что я теряюсь.
– Просто вы не все знаете, мой друг. Ваш Левицкий, в котором вы видите только живописца, на деле ярый мартинист. Он помогал заключенному в крепость Новикову.
– Которому вы справедливо вернули свободу.
– Но не доверие! И он принимал у себя дома сыновей Радищева.
– Который также вами освобожден.
– Но от этого ваш Левицкий не перестал быть мартинистом.
Петербург. Зимний дворец. Покои императрицы Марии Федоровны. Мария Федоровна, Е. И. Нелидова.
– Как долго вы заставляете себя ждать, Екатерина Ивановна! Это просто невыносимо!
– Государыня! Ваше императорское величество! Я бросилась к вам со всех ног, как только за мной зашел камер–лакей. Он подтвердит вам – я не замешкалась ни на минуту.
– Может быть, может быть, но время кажется мне настоящей обузой. Простите, если я оказалась несправедливой к вам.
– Мне вас простить, государыня? Как вы можете так подумать о своей верноподданной? Я вся к вашим услугам, ваше императорское величество.
– Не хочу скрывать – я никогда не любила и не могла любить вас, Екатерина Ивановна. Вы занимали в сердце государя то место, которое должно было принадлежать исключительно мне как супруге и матери.
– О государыня, только на правах самого верного друга вашего семейства.
– Подождите, подождите, Екатерина Ивановна, сейчас не до прошлых счетов. Повторяю – я никогда не любила вас, но и не могла не отдавать должного той сдержанности, с которой вы использовали возможности своего влияния на государя. Это заставляло меня мириться с вами, вашим постоянным присутствием во дворце.
– Государыня, я в отчаянии!
– Сейчас наступило время отчаяния, которое волей–неволей нас с вами объединит. И я прошу вашей помощи.
– Государыня, вы переоцениваете доброе отношение ко мне его императорского величества. Но во всяком случае располагайте мной по вашему усмотрению.
– Вы слышали о московских новостях?
– Что вы имеете в виду, государыня?
– Новые знакомства императора!
– Мне говорили москвичи, какое замечательное впечатление произвел на древнюю столицу Государь и как восторженно его встречали московские толпы. Но ведь в этом, государыня, вы и сами могли убедиться.
– Я говорю об этой московской девице. Вы обратили на нее внимание?
– На которую? Из того цветника, который всегда расцветал вокруг любезного и смеющегося государя?
– Вы уходите от ответа, Екатерина Ивановна! А ведь эта девица не могла не вселить тревогу и в ваше сердце.
– Государыня, я, право…
– Вы боитесь. Что же, я сделаю первый шаг, как он мне ни тяжел. Я имею в виду Анну Петровну Лопухину.
– Ах, эту…
– Значит, вы все же обратили на нее внимание. Не могли не обратить. Государь явно выделял ее среди всех остальных, не думал совершенно о толках, которые не могли не возникнуть. Сколько раз танцевал е ней, хотя ни вашим изяществом, ни вашей ловкостью она не отличается.
– Вы льстите мне, государыня…
– Вы не можете остановиться, Екатерина Ивановна, но вам придется это сделать. Государь решил перевезти в Петербург все это семейство.
– Я ничего не знала об этом.
– Как видите, император умеет быть скрытным даже в отношении таких старых проверенных друзей, как вы.
– И девица согласилась?
– О да. Сейчас идет настоящий торг о том, какие награды и должности получит ее родитель, чтобы утвердиться в Петербурге.
– Мой Боже…
– Кажется, щедрость императора способна удовлетворить потребности этого ничтожества. Зато там есть мачеха, которая хочет обеспечить особые привилегии.
– Привилегии мачехи?
– Нет, конечно, – ее аманта, который также должен быть перемещен в Петербург на соответствующую должность и оклад.
– И государь знает об этом?
– Еще бы! Не только знает, но постоянно торопит своих исполнителей с окончанием торга. Ему не терпится, как видно, увидеть новую придворную даму. В лице Анны Петровны, конечно. Мне трудно признаться в этом и притом именно вам, но я в отчаянии. Я в полном отчаянии. И если бы вы знали все подробности, как семейство Лопухиных готовится к своем новому положению при дворе. Это так ужасно, так оскорбительно!
– Ваше императорское величество! Государыня! Но что здесь могла бы сделать я? Что? Скажите мне!
– Плещеев говорит – вы же знаете, мне не на кого больше положиться, кроме собственного секретаря, – что вы могли бы обратиться к былому времени, к тем добрым чувствам, которые государь столько лет питал к вам, напомнить ему о них, постараться отвлечь его внимание от Лопухиных, показать весь их дурной тон, жадность, своекорыстие. Вы бы могли…
– О государыня, вы сказали «столько лет», но ведь эти долгие годы скорее всего и обратились против» былых добрых отношений. Старые вещи надоедают, государыня, что же говорить о чувствах!
– Но вы всегда были так преданы государю.
– Надеюсь, в этом никто не мог усомниться.
– Конечно, нет. Но вообразите себе: Лопухины уже собрали все вещи и мебель. Они даже подняли Иверскую икону.
– Иверскую Божью Матерь? Но почему?
– Чтобы отслужить дома напутственный молебен и перенести Владычицу через лежащую Анну Петровну. На счастье.
– И неужели вы думаете, государыня, что мои жалкие усилия могут чему‑нибудь помочь? Боже мой! Боже мой… Теперь я понимаю, почему мои ходатайства за самых достойных людей стали безрезультатными.
– Вы за кого‑то хлопотали?
– Всего лишь за художника Левицкого, чтобы вернуть его в Академию.
– И все равно, Екатерина Ивановна, я умоляю вас – действуйте, хоть как угодно, но действуйте!
Павел I – Е. И. Нелидовой.
Связи, существующие между нами, их свойство, история этих отношений, их развитие, наконец, обстоятельства, при которых и вы, и я провели нашу жизнь, все это имеет нечто столь особенное, что мне невозможно упустить все это из моей памяти, из моего внимания в особенности же в будущем…
Петербург. Васильевский остров. Дом Д. Г. Левицкого. Н. А. Львов, Д. Г. Левицкий.
– На этот раз, Дмитрий Григорьевич, я к вам с вестию в высшей степени приятною. Сами убедитесь, что новая организация Академии еще принесет свои плоды.
– Этим плодом, Николай Александрович, по крайней мере будет то, что вы лишний раз загляните в мою келью.
– И полюбуюсь плодами кисти вашей, дорогой друг. Но все же прежде всего новости.
– Их даже много?
– Вообразите! Первая – что вице–президентом назначен Василий Иванович Баженов.
– Невероятно! После всего, что пришлось ему претерпеть и с московским Кремлевским дворцом, и с Царицыном. Впрочем, последнего творения его я не видел, но слышал самые восторженные отклики.
– И притом вполне справедливые. Такими зодчими Россия должна была только гордиться. И вот теперь справедливость восторжествовала. Может статься, не всем из профессоров академических придется сие назначение по вкусу: слишком независим нравом Василий Иванович. Но воля императора заставит примириться с просвещенным руководством сего гения.
– От души радуюсь и за зодчего, и за Академию нашу. Но вы сказали о нескольких новостях.
– Вторая покажется вам еще более невероятной: конференц–секретарем назначен наш Александр Федорович Лабзин. И хотя сам он от изящных искусств далек, тем не менее полагаю, откроет двери для возвращения другого нашего великого таланта – Левицкого. Сие представляется мне тем более вероятным, что принадлежите вы к общему кругу единомышленников, и если государь счел возможным доверить администрацию академическую одному из мартинистов, то почему бы не сделать того же и в отношении другого, куда более известного и заслуженного?
– Предположения, Николай Александрович, которые свидетельствуют только о вашей старой дружбе ко мне.
– Поживем – увидим.
– Вы ведь давно знакомы с сим достойным человеком?
– Можно сказать и так. Начало знакомства нашего совпало с моим уходом из Академии.
– Каким образом?
– Родился Александр Федорович в Москве, учился у Михаила Матвеевича Хераскова в Московском университете, отличных успехов достиг, помнится, в математике и древних языках. А лет шестнадцати вошел в кружок Шварца. Читали они тогда французских энциклопедистов и сличали мысли их со Священным Писанием.
– Полагаю, не в пользу французских философов.
– Пожалуй, но это не помешало Лабзину сделать отличные переводы «Женитьбы Фигаро» Бомарше и пиесы Мерсье «Судья», впрочем, и с собственными сочинениями в университетском журнале успехов достиг. Михайла Матвеевич его хвалил.
– Я помню, Лабзин государыню приветствовал какой‑то хвалебной одой.
– По возвращении ее из Тавриды. Стоит она у меня – вот: «Торжественная песнь на прибытие в Москву из путешествия в Тавриду». Сам ее перед государыней и читал среди прочих пиитов московских.
– Однако без особого успеха.
– Но почему же?
– Потому что никакой благодарности, тем паче назначения особо выгодного не получил.
– Но двор не забыл его, раз последовало нынешнее назначение.
– Счастье господина Лабзина именно в том, что двор о нем совершенно забыл. Иначе государь император ни за что не простил бы ему пиитических восторгов в честь покойной императрицы. Чем же занимался он все это время?
– Николай Александрович, вы запамятовали, что я не любитель подобных сплетен. Могу сказать лишь о том, что сам достоверно узнал. А знаю я, и тоже не первый год, супругу Александра Федоровича, предостойнейшую и всяческого восхищения достойную Анну Евдокимовну.
– Ведь за Лабзиным она вторым браком и сравнительно недавно.
– Недавно и притом Анна Евдокимовна на десять лет Александра Федоровича старше. Отец ее был связав с семейством Воронцовых, особливо с младшим братом княгини Дашковой – Семеном Романовичем. Воронцовы Анну Евдокимовну очень привечали и тогда, когда она с супругом своим первым в доме Михайлы Матвеевича Хераскова поселилась. Супруг ее, Карамышев, большим специалистом по горнорудному делу был.
– Карамышев! Да как же мне его не знать! И Анну Евдокимовну мне видеть доводилось. Тихая она была, неприметная и все больше Ивану Ивановичу Хемницеру, чем мне, благоволила. Любопытно, изменилась ли?
– Изменилась, Николай Александрович, очень изменилась. Нынче это особа пожилая, в каждом смысле достойная. Иной раз Александр Федорович младшим братом ее смотрится.
– Или сыном?
– Разве что потому, что Анна Евдокимовна частенько супруга наставляет, от опрометчивости удерживает.
– Да, к жизни светской она никогда не прилежала.
– А уж нынче тем более, потому ее одну в собрания ложи допускают.
– Так ведь запрет есть на присутствие дам.
– А для Анны Евдокимовны исключение сделано. Большим уважением она у всех мартинистов пользуется.
– И они давно поженились?
– Еще в 1794 году.
– Ну, это совсем недавно. Я полагаю, стоит потолковать и с Анной Евдокимовной, чтобы она подсказала своему супругу идею вашего назначения.
– Николай Александрович, прошу вас не прибегать к подобным методам – они унизительны.
– А разве существуют другие для занятия должностей в государственных учреждениях?
Петербург. Васильевский остров. Дом Д. Г. Левицкого. Д. Г. Левицкий, А. Ф. Лабзин.
– Вы не были на последнем заседании ложи, Дмитрий Григорьевич, так позволил взять на себя смелость побеспокоить вас: не захворали ли?
– Настасье Яковлевне моей недужится, Александр Федорович. Не захотел ее дома на Агапыча одного оставлять.
– Дохтур был?
– Был. Чахотки опасается.
– Вот уж не дай Господь! Да с чего бы? На здоровье Настасья Яковлевна, сколько мне от Анны Евдокимовны известно, никогда не жаловалась, все за вас опасалась – не перетрудились бы, огорчений каких не испытали.
– Да, послал мне Господь в лице супруги моей подлинное благословение. Сколько лет мы уж вместе, а слова резкого от нее не слышал – все шуткой да лаской. О доме заботится, теперь внуков выхаживает. Вот только случилось – простыла, от нашей Агаши ворочаючись. Кашель забил. Дохтур и стал опасаться.
– Я Анне Евдокимовне скажу, чтобы приехала. Может, снадобий каких потребуется, трав, варений – у нас их полон дом. Анна Евдокимовна иной знахарки не хуже лечить умеет, а о вас с Настасьей Яковлевной, сами знаете, всегда сердцем болеет.
– Благодарю вас, Александр Федорович, только себя не утруждайте. Мало у вас дел академических да и по ложе.
– Так и вас, Дмитрий Григорьевич, я, чай, не в гостиной застал – в мастерской. Вижу – портрет новый. Никак графини Протасовой–старшей.
– Ее и есть. Анны Степановны.
– Чудны дела твои, Господа! Ведь столько вы от покойной императрицы претерпели, от Большого двора и вовсе отстранены были, а тут самое что ни на есть доверенное лицо государыня и вашей кисти портрет иметь пожелала. Так сама к вам и обратилась?
– Почти. Но все же без протекции не обошлось. Представлен‑то я графине давным–давно был, но к услугам моим она и вправду не прибегала.
– Помнится, Протасова не так просто ко двору государыни попала, кто‑то из людей случая присоветовал.
– Так и есть. Анна Степановна двоюродной племянницей графу Григорию Григорьевичу Орлову приходится. Он племянницу во дворец и ввел.
– А когда его «случай» кончился?
– Тогда уже Анна Степановна необходимой императрице сделалась. Покойная государыня без нее никуда. И в карты играть, и за столом, и в беседе с самыми доверенными лицами.
– Даже через обиду свою государыня преступить сумела.
– С Григорием Орловым? Да, обида великая была. Граф, когда я его портрет уже в немолодых летах писал, все опасаться продолжал. Не верил, что супруга его чахоткой умерла – об отраве вспоминал, о кознях придворных.
– И что же граф Григорий волю чувствам своим дал, полагал, это ему с рук сойдет?
– Любовь не рассуждает, Александр Федорович, а граф Григорий Григорьевич к кузине своей такую склонность почувствовал, что с чувством своим и скрываться не стал. Прямо все императрице и изъяснил.
– Безрассудство какое!
– А по мне – честность. Что ж ему было обожаемую повелительницу и благодетельницу обманывать, коли сердце к другой тянется. Государыня его, сам говорил, словом не упрекнула, невесте приданое богатейшее выдала, свадьбу во дворце играть велела, сама невесту к венцу убирала.
– Сила духа не женская, ничего не скажешь.
– Кто скажет, Александр Федорович: то ли сила душевная, то ли сила отчаяния. Очень «государыня к Григорию Григорьевичу благоволила. На молодую графиню глаз не могла поднять.
– А какова была собой супруга графа? Мне ее застать не довелось.