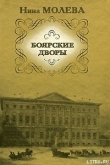Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Верно ты, Львовинька, сказал: аффектация. Вообрази себе, с чего день именин Тургенева начался. Сначала дети хозяина поздравительные стихи ему прочитали и на голову венок из пышнейших белых роз возложили. Затем виновника торжества в специально сооруженной беседке поместили. А беседка такая, что твоей Машеньке–искуснице с ее расшитыми соломенными обоями только пример брать. Из зеленых березовых ветвей сплетенная, а внутри всеми садовыми цветами изукрашенная. Пол же и всю аллею, по которой имениннику идти, ковром из цветов усыпали. Плохо ли?
– Кто говорит, что плохо. Очень даже лестно, да не ко времени.
– А будет ли у него время‑то, Львовинька? Слыхал, Детишки у него мал–мала меньше, заработков никаких. Вот Левицкий к нему собирается.
– Это зачем?
– Не признается. А по моему соображению, денег Новикову отвезти. Он сейчас при Малом дворе заказы получил.
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. Жена художника, слуга Агапыч, В. В. Капнист, Д. Г. Левицкий.
«Сиятельнейший граф, милостивый государь, все мастеровые и художники получали, а другие получают оплату за труды свои, один только я забыт милостию вашего графского сиятельства. Вот уже четвертый год, как я не только не получаю за труды свои, но и за издержки мои никакой уплаты, будучи в самых горьких обстоятельствах при старости моей, и всего только за работу мою, по поданным вашему сиятельству щетам, следует получить 2000 рублей. Заступите, сиятельнейший граф, своим покровительством человека, который служил и служить вашему сиятельству за честь почитает». Так‑то вот, граф Безбородко, может, хоть на этот раз решение по моему делу примете. Портрет государыни в 1787 году завершен, а денег допроситься и не думай. Агапыч! Слышь, Агапыч! Мальчика пошли, а того лучше сам поезжай к графу Безбородке Александру Андреевичу. Секретарю передай – не привратнику. Понял? Секретарю!
– Да уж сколько раз у привратника‑то оставляли.
– О том и речь. Сам побеспокойся, догляди.
– Не извольте беспокоиться, Дмитрий Григорьевич, до секретаря ихнего непременно дойду. Коли посчастливится, так и самому графу в собственные ручки передам–с.
– Вот и ладно. А ты что, Настасья Яковлевна, дело какое?
– Слышу, Агапыча посылаешь. Не за деньгами ли?
– За ними, треклятыми. К Безбородке.
– Как бы ко времени пришлись!
– А когда, матушка, у тебя денежки не ко времени?
– И то правда, Дмитрий Григорьевич, да ведь тут еще и случай особый. Агашеньке со дня на день родить, так внучку на зубок куда бы как хорошо. Нелегко ей, бедненькой, достается. В который раз рожает. Прихварывать, Господи спаси, стала.
– У тебя‑то, матушка, на хозяйство есть ли еще?
– По правде‑то сказать, последние запасы приедаем. Да ты о нас, батюшка, не думай. Бог милостив, обернемся. Вот Агашеньке бы… Никак гость к нам. Кто бы это? Пойти мальчиков покликать, чтоб дверь отперли.
– Что это у тебя, Дмитрий Григорьевич, за порядки за такие. Дверь парадная отвором стоит. В прихожей ни души. Никак Настасью Яковлевну приметил – так и она вглубь дома ушла, не обернулась. Ни прислуги, ни хозяев. Спасибо, дорогу в твою обитель не забыл. Вижу, портретов новых немало.
– Василий Васильевич! Видно, захотел мне сегодня Господь Бог подарок душевный прислать. Сколько лет, сколько зим, батюшка! Вот спасибо, что дома нашего не обошел.
– Нет уж, твоего дома никогда не обойду, а тут еще и новостей целый короб – как со старым другом не поделиться.
– Были бы хорошие…
– Не то что хорошие, а забавные. Повеселю тебя в твоей келье. Ты про праздник‑то потемкинский слыхивал ли?
– Как не слыхать. Весь Петербург только о нем и толкует. Такие небылицы рассказывают, что только на поди.
– Небылицы, говоришь? Не слыхал я еще такой сказки, чтоб великолепие потемкинское описать сумела.
– Неужто и вправду?
– Наш Гаврила Романович как есть голову ото всего этого великолепия потерял. Только потемкинским дворцом и бредит. И хоры для него сочинил, и описание составил. А превыше всего Потемкина самого превознес.
– Не в первый, чай, раз, Василий Васильевич.
– Верно, не в первый. Да там все декорации воспевались, а тут, друже, чудеса наяву. Хошь рукой достань, хошь на зуб попробуй. Гаврила Романович со мной, по старой дружбе, рукописью поделился, – а я тебе захватил. Прочти, непременно прочти. На все времени не хватит да и надобности такой нет, так ты вот отсюда читай, а я подтверждаю: именно так оно в действительности и было: «…Нечувствительно подходишь к возвышенному на ступенях сквозному алтарю, окруженному еще восемью столбами, кои поддерживают свод его. Вокруг оного утверждены на подставках яшмовые чаши, а сверху висят лампады и цветочные цепи и венцы; посреди же столбов на порфировом подножии с златою надписью «Матери отечества и мне премилосердной» блистает иссеченный из чистого мрамора образ божества, щедротою которого воздвигнут дом сей [на портике дома сего так и обозначено «От щедрот великой Екатерины»]. Единое воззрение на него рождает благоговение и воспламеняет душу к делам бессмертным. Сколько людей великих, смотря на него, из почтения, или из любочестия пролиют слезы! Но, может быть, для того, что не легко достигнуть подобного обожания и славы. Алтарь сей окружен лабиринтом. По извивающимся и отененным тропам его, между древесными ветвями, показываются жертвенники благодарности и усердия, истуканы славных в древности мужей, из мрамора и из других редких веществ сосуды, на подножиях возвышенные. На зеленом лугу, позади алтаря, стоит высокая алмазовидная, обделанная в злато пирамида. Она украшена висячими гранеными цепочками и венцами, из разных цветопрозрачных каменьев составленными. Верх ее, из каменьев же, увенчан лучезарным именем Екатерины Второй. Сим блестящим памятником хозяин хотел, кажется, изобразить твердость и сияние вечной славы своей Благодетельницы. Лучи солнечные, сквозь стен, или забрал стеклянных, ударяя в него, отражаются и, преломляясь несколько крат в телах столь же прозрачных, такое производят радужное сверкание, которого описать не можно. Нельзя лучше представить Добродетель, разливающую всюду свое сияние». Каково?
– А живописных портретов не было?
– Портретов – нет. Государыне, сказывают, ее изображения нравиться перестали. Зато картин древних мастеров множество – откуда только светлейший их раздостал!
– Мог и из Академии. Музей там преотличный.
– Думаешь, и тут Бецкой постарался? Да я тебе после строк державинских о другом сказать хотел. Помнишь, ведь государыня дворец этот Потемкину в конце его случая подарила.
– Все тогда еще щедротам монаршьим дивились!
– А про то забыл, что Григорий Александрович тут же подарок царский казне продал?
– Верно! А теперь выходит…
– То и выходит, что государыня тот же дворец ему по второму разу снова подарила да еще и с обстановкой. Слов нет, князь ко многому руки приложил, прежде всего чтобы благодетельницу прославить. Только сегодня снова к императрице обратился, чтоб дозволила Таврический дворец, столь восторженно нашим Державиным воспетый, в казну продать.
– Второй раз? Тот же самый?
– Ну и что, что второй, так ведь еще дороже первого!
– И государыня за обиду того не приняла?
– Да полно тебе, Дмитрий Григорьевич! Государыне тоже только один праздник и был нужен. Потемкин деньги свои наградные получит и, слух прошел, вместе с деньгами – приказ, чтоб немедленно столицу оставить и в армию на юг вернуться.
– Погоди, погоди, Василий Васильевич, запутал ты меня вконец. Так что же, выходит, светлейший ото всего этого маскарада новороссийского выиграл? Деньги одни?
– И на том спасибо. Правда, ему бы милость царскую вернуть, семейство зубовское укоротить. Не вышло, Зубовы куда сильнее оказались. Прошел случай, дак и пенять не на что. Как бы все эти роскошества Платону Александровичу не перешли. Очень он на празднике ко всему присматривался, ровно приценился. А отказу ему по нынешним временам ни в чем не будет.
– А Гаврила Романович?
– Вот о главном‑то чуть не забыл сказать. Так стихи державинские государыне по сердцу пришлись, что назначила ее императорское величество нашего Гаврилу Романовича своим статс–секретарем по приему писем на высочайшее имя.
– Слава Богу, хоть одному человеку на пользу пошло! Который год бедняга мается. Все без дела да без дела.
– Зато с окладом. Оклад‑то ему государыня после резолюции своей, чтоб дело державинское прекратить, который год платит.
– Так ведь деньги незаработанные руки жгут, Василий Васильевич. От одних мыслей черных с ума свихнуться можно. А теперь что ж – рад за Гаврилу Романовича, душевно рад. Поздравить бы надо.
– Успеешь, Дмитрий Григорьевич, чай, в одном городе. А и то сказать, как могла государыня иначе поступить. Изволь‑ка ты еще страничку рукописи державинской прочесть, сразу все поймешь: «Как скоро Высочайшие Посетители изволили возсесть на приуготовленные им места, то вдруг загремела голосовая и инструментальная музыка, из трехсот человек состоявшая. Торжественная гармония разлилась по пространству залы, выступил от алтаря хоровод, из двадцати четырех пар знаменитейших и прекраснейших жен, девиц и юношей составленный. Они одеты были в белое платье столь великолепно и богато, что одних бриллиантов на них считалось более, нежели на десять миллионов рублей. Сие младое и избранное общество тем больший возбудило в Россиянах восторг, что Государи Великие Князья Александр и Константин Павловичи удостоили Сами быть в оном. Видели Россияне соприсутствующую веселию их любезную Матерь отечества, кроткую и мудрую свою Обладательницу; видели при ней мужественного ее Сына и достойную его Супругу, украшенных всеми добродетелями… Сия великолепная кадриль, так сказать, из юных граций, младых полубогов, героев составленная, открыла бал польским танцем. Громкая музыка его сопровождаема была литаврами и пением; слова оного и последующего за ним польского же были следующие:
Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый Рос!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты храбрее.
Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам Мать!
Волны быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам Мать!
Уж не могут Орды Крыма
Ныне рушить наш покой;
Гордость низится Селима,
И бледнеет он с луной.
Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам Мать!
Зри, премудрая Царица!
Зри, великая Жена!
Что Твой взгляд, Твоя десница,
Наш закон, душа одна…
– Гавриле Романовичу нашему таланту не занимать. А как подумаешь, Василий Васильевич, может, и граф Безбородко снова в силу войдет?
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, М. С. Перекусихина.
– Государыня, к вам во второй раз уж посланный от князя Николая Ивановича Салтыкова приходил.
– Что князю надобно, не спросила?
– Да вот опыты рисовальные князюшки нашего Александра Павловича принес. Толковал, что Николай Иванович всенепременно лично в государынины руки передать велел.
– Ах, это адъютант его!
– Зубов Платон.
– Не поняла сразу. Поговорить я с тобой, Марья Саввишна, хотела. С тобой одной. Как тебе этот Зубов показался? Разглядела ли?
– Очень его Анна Степановна хвалит.
– Известно, Красного кафтана не терпела. Да и он ее не больно‑то жаловал. Все шутихой государыниной называл. Ей каждый хорош, лишь бы не Мамонов. А как он в Москве, не слыхала?
– Сынок у них родился.
– Уже? Так сколько от свадьбы месяцев прошло?
– Что ж, государыня, грех да беда у кого ни живет. Говорила же я вам, на сносях невеста‑то наша была…
– Сын, значит.
– Матвеем – по деду назвали.
– Рад, поди, родитель.
– То‑то и оно, разное в Москве говорят. Ссорятся будто Александр Матвеевич с женой‑то. Что ни день ссора.
– Супруга такая.
– А вот и нет, государыня. Слухи такие, что сам Александр Матвеевич причин для недовольства своего ищет. Она‑то и рада ему угодить, а он ей каждое лыко в строку ставит.
– Невелико чудо. Одно дело в боскетах тискаться да украдкой амурничать, другое – целые дни вместе проводить.
– Верно, верно, государыня. Сам Александр Матвеевич свое счастье порушил, сам теперь и платится. А Зубов‑то, что ж, на вид приятный. Разве что скромен больно.
– Лишнего слова молвить не хочешь, Марья Саввишна. Или думаешь, никем Красного кафтана не заменять. Хватит, мол. Ты уж честно скажи. Сама знаешь, одной тебе поверю.
– Нет, государыня, нельзя тебе то место пустым оставлять, нельзя. Может, и не права я, а только от одних мыслей, что люди подумают, что за спиной говорят… Государыня, не нужны вам эти мысли! Нельзя вам ночей не спать, думами разными себя крушить. Как оно там сложится, одному Господу известно, а для чужих глаз всегда все в порядке будет. Вот вы Александра Матвеевича поминаете, а как же с Петром Васильевичем, с графом Завадовским‑то быть? Помнит он вас, все годы помнит, любит‑то как. Все поместье вашими портретами уставил да увешал. Зала, сказывали, у него таи овальная дивная. Стены боскетами расписаны, а посередине портрет ваш в рост. Сидючи вы, государыня, представлены. Кто побывал, сказывают, противу портрета вашего кресло поставлено. Петр Васильевич дня не пропустит, чтобы в том кресле не посидеть, вашим портретом не полюбоваться. Так и говорит: светило в моей жизни солнышко ясное, да закатилося. Вот оно как.
– Ничего не пойму. К тему ты про Завадовского?
– К тому – истинно вас, государыня, любит. Из сердца выбросить не может.
– И Бог с ним.
– Так ведь и Александр Матвеич тоже. Согрешил, никто не спорит. Да нешто такого в любом семействе не случается? Жизнь прожить – не поле перейти. Ему бы осторожненько, в скрытности, а он по молодости лет – бултых в воду. Охолонул маленько и видит: все не то. Омут – не река широкая, не море бескрайнее. Какой из него выход?
– Да что ты сказки мне сказывать принялась? Не прошу!
– И не надо, не надо, государыня. Я ведь к примеру. Жизнь – она все по местам расставит, а сгоряча чего человек не сделает. Все говорят, какая досада его нынче берет.
– Ладно. Значит, о флигель–адъютанте…
– Непременно думать, государыня, надо.
– Тогда пусть Анна Степановна… присмотрится… потолкует…
– Вот и хорошо! Вот и славно! Да что торопиться‑то? Пускай молодец на первых порах в стороне поживет. С мыслями соберется. Приготовится.
Д. И. Васильев – Г. Р. Державину. 1788.
Не подосадуй на меня, что я так откровенно к тебе пишу; ежели б я тебя не любил, то конечно сего не сделал, а то тут истинная дружба и привязанность моя к тебе действует. Писала Екатерина Яковлевна [Державина, жена поэта], чтоб заплатить деньги Дольсту за водку; я от него и потребовал счет, по которому пришлось заплатить 250 р.: то оные ему и отдал, и при сем счет его к вам препровождаю. Сказывал мне еще Венклер, что и ему вы должны по счету рублей 200; то уведомьте меня, заплатить ему и сколько именно. Срок вам в банке платить 25 мая; ежели ваших денег не будет, то я как‑нибудь здесь перевернусь и внесу и тогда вас уведомлю.
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императрицы. Екатерина II, Безбородко А. А.
– Все не так просто с этой Бастилией, как тебе казалось поначалу, Александр Андреевич, совсем не просто.
– Одно очевидно, государыня: эти события не могли не ослабить французского правительства.
– Но вовсе ты не подумал о правительствах всех остальных. Я перечитала сегодняшнюю почту нашего французского посланника. Он пишет, что именно падение Бастилии послужило сигналом для множества восстаний в провинциях. Особенно сильно взволновались крестьяне. Они начали отказываться платить феодальные повинности, церковную десятину и даже государственные налоги. Мало того – бунтовщики нападают на замки, разрушают их, жгут, причем беспощадно убивают и управляющих, и даже дворян. Ты понимаешь, что это вариант нашего яицкого казака?
– Кто бы мог подумать!
– Кто? А ты не знаешь, что, почувствовав силу, человек неизбежно превращается в бунтовщика и не может остановиться в своих все более нелепых и далеко идущих притязаниях. Я думаю, как скоро эта зараза затронет мою империю.
– Бог милостив, государыня! После казни Емельки народ наш охолонул и как будто за ум взялся.
– Народ! А наши вольнодумцы? Ты думаешь, им не придет в голову последовать примеру французского дворянства? Ты посмотри, как далеко там дело зашло. Посланник пишет, что двое либеральных дворян внесли в собрание предложение вообще отменить – пока не поздно! – все феодальные права.
– Это чистое сумасшествие, государыня!
– И тем не менее в том же собрании, как сообщает посланник, они легко нашли единомышленников. Одни согласились отменить эти права вообще безвозмездно, другие – путем выкупа. И вот результат – 4 августа состоялось ночное собрание, где депутаты высших сословий стали наперебой отказываться от своих привилегий.
– Я не нахожу слов, государыня.
– Их трудно найти, если смотреть на вещи здраво. И тем не менее за одну эту ночь были приняты декреты, которые уничтожили сословные преимущества, феодальные права, крепостное право, церковную десятину, привилегии отдельных провинций, городов и корпораций. Итак, философы достигли того, к чему стремились! Объявлено равенство всех перед законом в уплате государственных налогов, в праве занимать гражданские, церковные и военные должности.
– Но вы же знали об этих стремлениях ваших корреспондентов, государыня.
– Знала? Неужели ты думаешь, что я придавала этой бумажной болтовне какое‑нибудь значение? Состязание в глубокомыслии, остроумии, логических построениях – не более того. Но толпы сброда на улицах и в деревнях! Разбой! Грабежи! Полный переворот в государстве! Это же революция. И боюсь, вырвавшийся поток человеческих страстей уже не удастся вернуть в старое русло. Само собой разумеется, не удастся. Да они и сами отрезали себе путь к прошлому дикими декретами. Посланник пишет о возможной эмиграции аристократии. Но ей действительно ничего не остается так делать. Решительно ничего. Если только не ждать неизбежной расправы.
Петербург. Дом родителей Платона Зубова. Александр Николаевич и Елизавета Васильевна Зубовы.
– Лизавета Васильевна, а, Лизавета Васильевна! Где ты, матушка? Что это тебя каждый раз с собаками искать надо!
– Да что ты, батюшка Александр Николаевич, расшумелся‑то так? По хозяйству я, где ж мне еще быть. Сам знаешь, на хозяйство дня мало – там догляди, там распорядись.
– Ничего, ничего, Лизавета Васильевна, Бог даст, не придется тебе скоро так себя убивать. По–новому заживем, по–царски!
– Ой, что ты, Александр Николаевич, даже сердце обрывается. Как это – по–царски? Разбогатели мы с тобой, что ли?
– Да ведь это как посмотреть. Не то что мы с тобой, матушка, а все семейство наше, глядишь, в золоте купаться начнет.
– О Господи, не бредишь ли, Александр Николаевич?
– Если и брежу, только на радостях. Платон‑то наш…
– Что Платоша? Производство какое получил?
– Выше, выше, матушка, забирай! Князь Николай Иванович, дай ему Господь всяческих благ и долголетия Мафусаилова, представил нашего сыночка самой государыне императрице!
– Понятно, честь великая, а дождь‑то золотой причем?
– Лизавета Васильевна, всегда ты у меня была особой вострой. А ну пораскинь умом. Господина Мамонова более при дворе‑то нет.
– Да уж, вольно было дураку вместо дворца на убогое житье московское польститься.
– И слава Богу. По крайней мере место освободил, и вот князь Николай Иванович Платона нашего императрице представил!
– А Николай Иванович при чем? Известно, адъютантов постельных государыне императрице не кто‑нибудь – один князь Таврический представляет.
– Представлял, Лизавета Васильевна! Представлял! А теперь на театре военных действий застрял. То ли сам ехать в столицу не хочет – сказывали, так там роскошествует, что самому султану турецкому впору. То ли императрица видеть его не желает. От князя нашего доклада потребовала, как дела‑то в армии обстоят. Больно на светлейшего гневалась. Вот тут князюшка о нашем Платоше и позаботился.
– И ты думаешь?..
– А что, матушка, парень хоть куда. Ты у меня, Лизавета Васильевна, таких красавцев родила, что и в свет не стыдно показаться.
– Ох, батюшка, батюшка, красавцы‑то красавцами, а жизнь‑то у них какая? Не больно на свою красоту невест с приданым найти могут. А без денег…
– Так оно, выходит, и к лучшему, что невест еще не сыскали, да и где их здесь искать? Вот в Петербурге!
– Больно ты, Александр Николаевич, прижимист. В ежовых рукавицах сынков держишь. Им бы поразвернуться…
– На мои‑то деньги? Шалишь, матушка, такому не бывать. Пусть каждый на своем сидит. Сам за себя отвечает. Мне ведь, сама знаешь, сокровища с неба не падают. В поте лица добываю. Перед одним князем сколько вертеться приходится. Сладко оно, думаешь? Может, и не больно он в хозяйство вникает, так ведь в уши мало кто надуть может. Так с опаской да оглядкой и живешь.
– Мне ли не знать, Александр Николаевич, но ведь сыновья твои, кровь твоя.
– Перестань причитать, Елизавета Васильевна, в гнев меня не вводи. Лучше подумай, как счастье‑то нам свое удержать.
– Так что – не решено дело‑то?
– Князь Николай Иванович сумнения не имеет. Велел с Платоном потолковать, наставление ему родительское дать. И тебе, матушка, нечего в стороне оставаться.
– Да ведь неловко как‑то, Александр Николаевич. Что тут сынку скажешь?
– Скажешь, скажешь, матушка! Что мне говорить – без тебя знаю. А ты Платона наставить должна, чтобы нас в случае своем, не приведи Господь, не забыл. О родителях – в первую голову. С чинами там для меня, для тебя – чтобы ко двору взяли.
– Ко двору! Шутить изволишь, Александр Николаевич! Сразу и ко двору. У Мамонова вот…
– А нам Мамонов не указ. Каждый по своему разуму живет. Да и то в толк, матушка, возьми, государыня‑то тогда на пару лет моложе была. И тогда, чай, не девочка, а теперь и вовсе. Успеть Платону надобно. И мы с тобой не молодые, и нам, матушка, особо долго ждать не приходится. Как ни суди, помрем, ему же все достанется. Расчет верный.
– Не ему одному, батюшка, что ж ты остальных‑то деток обижать собрался.
– Вот ты об остальных и втолкуй Платону. Стараться для всего семейства должен. Очень стараться.
– Не сразу же…
– То‑то и оно, что сразу. На радостях всегда больший кусок отломиться может.
– Повременить надо, чтоб неудовольствия какого не вызвать.
– Ишь, опасливая ты какая, Лизавета Васильевна. Неудовольствие! Уж коли въедет Платон в дворцовые апартаменты…
– О Господи, страх подумать! Наш Платоша…
– Погоди, не перебивай! Коли въедет, то так сразу не выедет. Не бывает так. Хоть для порядку, а полгодика, год и поживет. А Бог даст, угодит, тогда уж к первым кускам и другие прирезать можно.
– Ох и смелый ты, батюшка.
– А тут уж робеть нечего. Дело такое – как на штурм идти. Другая у меня забота: тихий больно Платон. За Валерьяна бы не тревожился. Валерьяну пальца в рот не клади.
– Полно, полно, что уж ты так на него, Александр Николаевич! Ну, может молодец за себя постоять, охулки на руку не положит, так не разбойник же какой.
– Может, тут разбойник как раз ко двору бы и пришелся. Сама, матушка, подумай. Валерьян и посмеяться, и повеселиться горазд, и за словом в карман не полезет. Государыня же наша человек в летах – вдруг от тихони нашего заскучает, вот когда быть нам у праздника! Вот ты Платону материнским своим словом и укажи, чтобы каждую минуту об угождении государынином думал, чтобы всякие прочие мысли из головы повыбрасывал – про развлечения, пирушки там всякие. А особо насчет женского полу – вот уж тут ни–ни. Ни сном ни духом. И танцев, маханий там всяких чтоб никаких.
– Не в монастырь же Платоша идет, батюшка. Нетто при дворе увеселений мало. Так что ему ото всех сторониться, что ли.
– Вот–вот, сторониться. Главное – все время в государынином кабинете проводить. Дела себе выискивать, чтоб угодным быть. Слышь, Лизавета Васильевна? У парня еще вся жизнь впереди – успеет поразвлечься да повеселиться, когда фортуну сколотит. Вот говоришь сама, дурак Мамонов. Истинные твои слова.
– Хотя, сказывают, и так богатейшим человеком стал.
– А сколько еще нагрести бы смог? Богатства, матушка, николи много не бывает. Кармана‑то оно никому не оттянуло. Вот и пусть Платон отблагодарит отца да мать за родительское наше попечение, за заботы наши, старость родительскую успокоит. Долг это его. Сыновний долг.
Обуховка. В. В. Капнист и П. В. Капнист.
– Ты знаешь, Василий Васильевич, судьбу Франции решит эмиграция и притом самым трагическим образом.
– Ты так полагаешь, Петруша, но почему? Разве не естественно людям бояться если даже не за собственную жизнь, то, во всяком случае, за судьбу близких?
– Может, и естественно. Но вспомни, брат короля – граф Д’Артуа, принцы Конде, Конти, Полиньяк и многие другие не ограничились собственным спасением. Ты пойми, за рубежом они выступили не как изгнанники, но как недовольная порядками на родине политическая партия и стали искать поддержки во всех мелких германских государствах.
– Ничего не скажешь, французы, ищущие союзников в немцах, – такое простому французу трудно понять.
– Народ и не понял. Он стал видеть в эмигрантах врагов Франции. И как неизбежное следствие – изменил свое отношение ко всем остающимся в стране дворянам и уж тем более королевскому двору.
– Но ведь оставшиеся добровольно отдали им свои законные и исконные права – разве такое можно забыть!
– Любые благодеяния, брат, стареют. А кроме того, все эти отказы были предопределены историей. У них не было выбора: или отказаться ото всего самим, или – лишиться и, кто знает, вместе с собственной жизнью…
– Я слышал об офицерском банкете в Версале.
– Ах, слышал. Вот тебе и еще один повод для народного недоверия и подозрений. Ты знаешь подробности? Нет? Я могу тебя насчет них просветить. Король после падения Бастилии обещал клятвенно народу не стягивать к Парижу войска, тем не менее к Версалю стали подходить все новые и новые полки. И вот на банкете, о котором тебе довелось слышать, в присутствии самого Людовика и всей королевской семьи офицеры стали срывать с себя трехцветные кокарды и топтать их ногами, а дамы раздавать им иные кокарды – из белых лент.
– В конце концов это всего лишь придворное событие.
– Ты так думаешь. А вот парижане рассудили иначе. Как только слух об этой глупости дошел до Парижа, там вспыхнуло очередное восстание. Сто тысяч парижан – и заметь – чуть не половину из них составляли женщины! – двинулись на Версаль, силой ворвались во дворец и потребовали немедленного переезда короля в Париж.
– И король подчинился.
– В ночь с пятого на шестое октября он переехал в Париж. Вслед за ним в столицу перебралось и Национальное собрание.
– И это неизбежно ограничило свободу Людовика.
– Как же иначе! Король оказался замкнутым между собранием и парижанами, которые, возбужденные до крайней степени, не раз диктовали и его королевскому величеству, и собранию свою волю. С собранием, в конце концов, можно было договориться, но с разъяренной толпой – никогда и ни в чем. Поверь, тот же призрак неизбежно возникнет и перед нами.
– Ты знаешь, Петр Васильевич, я не разделяю крайности твоих взглядов. Государыня еще может…
– Она ничего не может хотя бы потому, что слишком много времени уделяет своим личным делам.
– Человеческая слабость.
– О да! За которую придется расплачиваться сотням и сотням людей. Власть – это прежде всего обязанность, а не способ доставлять себе удовольствия и ублажать собственным прихотям.
– Ты слишком суров, брат.
– А ты, по–моему, становишься все более снисходительным. Почему бы это? Ты начинаешь мне напоминать Гаврилу Романовича с его финансовыми интересами. Ты посмотри, как бурлит общественная жизнь в такой еще недавно церемонной Франции! Вопрос о будущем устройстве страны обсуждают в десятках политических клубов Парижа – они растут там как грибы после теплого дождя. Вместо брошюр появились периодические издания. А какими они выходят тиражами! Ты знаешь, что «Революции Парижа» некоего Лустало распространяются в двухстах тысячах экземпляров? Ты можешь себе представить такое множество заинтересованных читателей? И это после того, как у нас ты не можешь напечатать ни одной оды, если в ней мелькнула хоть тень сатиры. Я согласен, кое‑что у нас и можно было бы предотвратить превентивными мерами, но этого некому делать. И никто в нашем дворце не чувствует своей ответственности за будущее.
Петербург. Дом родителей Платона Зубова. Александр Николаевич, Елизавета Васильевна, Платон Зубовы.
– Недоволен я Платоном. И скрывать не хочу, как недоволен.
– Чтой‑то ты, батюшка? Чем тебе Платоша не потрафил? Уж кажется…
– Вот именно, что кажется, а дела настоящего не видно.
– Так разве не вступил Платоша уже в должность? От государыни императрицы, все говорят, на шаг не отходит. Уж мы его и видеть позабыли.
– А что нам‑то с тобой его видеть, Елизавета Васильевна? Чай, не образ святой, чтобы что ни день любоваться.
– Ну как так можно, батюшка! Ведь сынок родной.
– Опять за свои причитания, Елизавета Васильевна, принимаешься. А того в толк не возьмешь, не переехал еще Платон во дворцовые покой. Не понимаешь, что ли?
– Да мало ли…
– Вот–вот, мало ли? Вроде как на испытание принят наш молодец. То ли по вкусу придется, то ли абшид получит. А ведь тут каждый будет норовить ножку подставить. Одних сторонников князя Таврического полон дворец. Они и государынин нрав знают, и подход отыщут.
– Так что ж ему делать‑то?
– То и делать, что голову ломать, а не аксельбантами любоваться да о мундирах парадных беспокоиться.
– Без мундиров‑то тоже, поди, нельзя. Дворец ведь!
– С тобой толковать, Елизавета Васильевна, разве каши поевши, можно! Подход, подход к государыне искать надо, а не перед зеркалами красоваться. Вот и сегодня я за ним человека послал, чтобы непременно к нам был. Поучить хочу. Нам‑то с тобой тоже беспокойство одно. Ждешь–ждешь, а все ни с места. То ли в поместье салтыковском оставаться, то ли можно уже и о петербургском гнезде позаботиться.
– Да вот и наш молодец! Платошенька! Заждались тебя, голубчик.
– Случилось что, батюшка? Написали вы в записке, чтобы часу не медлить. Слава Богу, обоих вас вижу в добром здравии.
– Не о нас речь, Платон Александрович, не о нас. Ты, Елизавета Васильевна, пока суд да дело угощеньем озаботься, а мы тут с сыном на особности потолкуем.
– Сейчас, Александр Николаевич, я мигом.
– Не торопись. Когда надо будет, сам тебя позову.
– Поняла, поняла, батюшка, мешать не стану.
– Вот и ладно, что одни остались. Разговор у нас с тобой мужской, не для бабьих ушей. Спросить у тебя хочу, почему до сей поры во дворец не переехал.
– Не от меня, батюшка, зависит. Не приглашают пока.
– Пока? Или раздумывать принялись? Как сам‑то полагаешь?