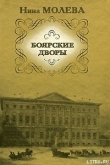Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Вы сами бабушке, Марья Саввишна, скажете? Мне не надо?
– Не надо, не надо, ваше высочество! И еще. Простите старуху – не мне вас учить. Только… Только вы императрицу лучше государыней называйте – не бабушкой. Царственной особе так по–семейному называться вроде бы и не пристало. Да и не любит государыня этого.
– Не буду. Никогда не буду. Спасибо вам, надоумили. Все мне кругом так страшно. Непонятно.
– Ничего, ничего, ваше высочество, привыкнете. Одна у нас беда – начеку быть надо. День и ночь. Каждый день. Без праздников.
В. В. Капнист – А. А. Капнист. Начало сентября 1793. Петербург
Первое. Николаю Александровичу [Львову] дали крест третьего класса Владимира, Гаврилу Романовичу чин тайного советника, сделали его сенатором и дали крест Владимира второй степени. Думаю, что он докладчиком [у императрицы – по принятию личных прошений на высочайшее имя] не будет. Но он по некоторым делам докладывает. Мне великая выгода, что он сенатором, ибо Алексей Иванович [Васильев, министр финансов] и Александр Васильевич Храповицкий тоже сенаторами, все люди, которые меня любят и мне всячески добро делать станут.
Петербург. Дом Д. Г. Левицкого. Д. Г. Левицкий и другие члены общества.
– Ты говоришь, тебе удалось получить от наших сведения о Корде? Неужели это оказалось возможным?
– Более того. Это оказалось удивительно простым. Шарлотта Корде уже сделалась народной героиней. Никто не сомневается – она уже вошла в историю и станет героиней многих произведений искусства.
– Мы все сгораем от нетерпения.
– Во–первых, полное имя – Мари–Анн Шарлотта де Корде Д’Армонт.
– Аристократка!
– Ну, может быть, это преувеличение, но род ее действительно дворянский и очень старинный. Она родилась и выросла в замке, много читала, став сторонницей демократических идей. Но крайности революции вызывали в ней отвращение. Когда в ее родной Каенн прибыли бежавшие из Парижа жирондисты, которых она давно лично знала, у Шарлотты возник план убить одного из вождей монтаньяров.
– Одного из? Она не делала определенного выбора?
– Сначала колебалась: Робеспьера или Марата? Но все решила статья в газете «Друг народа», где Марат заявил, что для окончательного упрочения революции необходима казнь еще двухсот тысяч человек. 11 июля Шарлотта приехала в Париж и просила аудиенции у Марата.
– Так просто? Безо всяких хитростей?
– Она презирала хитрости и шла самым кратким путем к своей цели. Впрочем, без хитрости все же не обошлось. Свою просьбу принять ее Корде объяснила Марату тем, что она готова сообщить ему некие сведения о кознях жирондистов в Каенне. Короче, 13 июля вечером Марат соблаговолил ее принять, сидя в ванне.
– Что!?
– Да–да, сидя в ванне. Не вылезая из воды, он начал записывать с ее слов имена неких вымышленных заговорщиков, приговаривая, что ровно через восемь дней все они будут гильотинированы. После этой реплики Друга народа Шарлотта вонзила кинжал ему в сердце.
– Боже правый, вот это мужество!
– Сколько же лет этой удивительной женщине? Она успела бежать?
– Шарлотте, как пишет газета, 25 лет. Она добровольно отдалась в руки властям. На немедленно созванном революционном суде держалась с удивительным достоинством и назвала, к величайшему возмущению революционеров, смерть Марата истинным благодеянием для своего народа.
– И ей еще дали говорить!
– Она использовала каждую минуту для объяснения и оправдания своего поступка. Она привела реплику Друга народа о предстоящих казнях, но, естественно, ее никто не слушал.
– А казнь?
– Ее казнили в тот же вечер. И – послушайте, господа, как это звучит! – когда голова Шарлотты скатилась в корзину, раздался голос. В толпе. «Смотрите, она величием превосходит Брута». Эти слова принадлежали депутату от города Майнца Адаму Люксу. Он поплатился за них головой. В тот же момент. И на той же гильотине.
– Свобода – как же это непросто. И каких жертв она требует.
– Ты думаешь, эти жертвы нужны ей? Свободе? Или властолюбию и тщеславию тех, кто жонглирует ее понятием? История доказывает: для слишком многих разговоры о свободе – всего лишь орудие для достижения собственных и притом самых низменных целей. Поэтому деяния сознательно пошедшей на смерть Корде – настоящий подвиг.
– И жертва революционному чудищу.
Царское Село. Кабинет Екатерины II. Екатерина, П. А. Зубов.
– Друг мой, вы огорчаете меня.
– Я! Вас, ваше величество! Я в отчаянии!
– Ия вынуждена сделать вам выговор.
– Даже так! Мой Бог, что же такого мог сделать этот злосчастный Зубов? Этот вертопрах и капризник?
– Перестаньте дурачиться, мой друг, и отнеситесь к моим словам серьезно. Я очень прошу вас.
– Но разве я когда‑нибудь относился иначе к словам моей императрицы? Нет, неправильно – моей обожаемой императрицы?
– Платон Александрович, вы становитесь невыносимы.
– Правда? А вы полагаете, я обязан выносить вечные указания, нотации, выговоры? Учительница и ученик – кому это не надоест.
– И все‑таки я вынуждена настоять на своем.
– Еще бы! Разве когда‑нибудь случалось иначе!
– Но послушайте же, несносный, вы сегодня совершенно смутили великую княгиню.
– Которую? Но мне и в голову никогда не приходило приближаться к ее высочеству Марии Федоровне. От одного взгляда на эту ходячую добродетель, расползшуюся от бесконечных родов и семейных праздников, я готов бежать без оглядки.
– Не сомневаюсь. Но я имела в виду нашу милую девочку.
– Девочку? Ах, Елизавету Алексеевну! Так в чем же провинился Зубов? Пара танцев и несколько минут разговора – даже это запрещено в отношении великой княгини? Но вы постоянно убеждаете меня, что считаете членом своей семьи. Внимание к впервые выходящему в свет ребенку так естественно для… родственника.
– Да поймите же, мой друг, ей всего четырнадцать лет. Четырнадцать!
– Но вас же это не остановило, когда вы направили ее в постель вашего шестнадцатилетнего внука. Если она может быть женой и скорее всего матерью вашего правнука, то почему не может протанцевать экосез с человеком, который годится ей в отцы?
– Почему вы решили заниматься подсчетом лет? Это вас забавляет? Или вы даете выход своей желчи?
– Я констатирую действительное положение вещей. Оно меня не раздражает, разве что забавляет. Чуть–чуть. А эта крошка действительно очень мила.
– Что вы говорили великой княгине, отчего она все время заливалась краской и старалась спрятать лицо?
– Что я говорил? Не больше того, что полагается говорить дамам во время танца! Пара льстивых слов о ее внешности – кстати, они вполне заслуженны. Комплименты по поводу туалета. Искренний восторг по поводу ловкости в танцах. Ничего кроме.
– Мой друг, но вы же понимали, что кружите голову ребенку!
– Если бы передо мной была не великая императрица, а простая женщина, я бы сказал: вы ревнуете, мадам!
– Платон Александрович, с вами, как с капризным ребенком: вы не можете остановиться в своих шуточках.
– Мадам, но откуда вы можете знать, как ведут себя капризные дети? Ваш единственный сын никогда не занимал вашего времени и ваших чувств. Хотя я забыл, вы величайший специалист в области педагогики и написали даже специальные труды в этой области. Ваше величество, вы прекрасны и непостижимы во всем, что вы делаете! Я снова и снова убеждаюсь в этом.
– Да, я занималась всерьез вопросами воспитания, и вы знаете, как много мною вложено в систему воспитания нашего Смольного института. И разве смолянки – не доказательство того, что наш совместный с Дидро опыт оказался достаточно удачным?
– Еще бы! Тем более совместно с Дидро! Но сегодня вы делаете мне замечание по поводу замужней женщины, которая может сама разобраться в своем поведении.
– У нее нет опыта.
– Слава Богу. Но вы не считали так в отношении вашей первой невестки. Правда, она стала женой цесаревича в восемнадцать лет. И вы обвинили ее в измене супругу на основании – впрочем, было ли какое‑нибудь основание, кроме вашей ревности, мадам. У вас есть в этом отношении опыт. Но я вас умоляю, не делайте Зубова мишенью вашего царственного гнева. Главное – в приступе ревности все женщины – независимо от их положения в обществе, в свете – становятся одинаковыми.
– Откуда у вас такой опыт, мой друг?
– Но не подозреваете же вы меня, ваше величество, в том, что я соблюдал девственность до… Судите сами, как бы в таком случае я мог по достоинству оценить то поразительное сокровище красоты, женственности, ума, которое послала мне судьба. На кого бы мне ни приходилось смотреть при вашем дворе, ваше величество, вы затмевали и затмеваете всех. Именно это я и пытался объяснить милой девочке, которой предстоит очень нелегкая жизнь.
– Вы еще хотите стать и пророком, мой друг?
– Пророком? О нет, такого дара у меня никогда не было и не будет. Простой расчет, ваше величество! Эта маленькая великая княгиня никогда не приобретет черт светской львицы…
– В этом и я не сомневаюсь.
– Она сама сказала мне, что чувствует себя по–настоящему счастливой только за книгой, которую потом пересказывает своему супругу, так как у него не хватает времени и усидчивости для самостоятельного чтения.
– Александр должен быть счастлив.
– Счастлив? Он начнет ей изменять при первом же удобном случае. Скорее всего тогда, когда сам взойдет на престол. Раньше он, пожалуй, не решится. Он очень труслив, ваш внук, государыня.
– Вы не верите в его добродетель?
– А кто верит вообще в добродетель при вашем дворе? Нет, нет, не обижайтесь, ваше величество, Я уточню собственные слова – при любом дворе. Власть – это такие возможности!
– Но Александр получил блестящее воспитание.
– Которым вы, ваше величество, занимались до самого дня его бракосочетания. Поначалу брак должен был ему показаться частью свободы, но очень скоро он почувствует, что сидит в клетке. Пусть золоченой, но все равно не дающей развернуть крылья. Простое любопытство толкнет его на приключения.
– Вы неприятный оракул, мой друг.
– Оракул не может быть приятным или неприятным. Приятными или неприятными могут быть лишь события, которые представляются ему неизбежными.
– Друг мой, вы положительно в ударе сегодня. И это возбуждение…
– Оказывается, даже простое хорошее настроение может оказаться поводом для подозрений. Вы постоянно пеняете мне на дурное расположение моего духа, и вот…
– Наверно, я и в самом деле не права. Простите меня, друг мой. У меня сегодня множество дел, так что я буду вас ждать. В будуаре. И как можно скорей.
Петербург. Дом Д. Г. Левицкого, А. X. Востоков[19] и другие.
– И все равно не пытайтесь, друзья мои, спорить: Шарлотта Корде – настоящая народная героиня!
– Ты споришь против очевидности, Востоков! Народная героиня! Эдакая Жанна Д’Арк наших дней! Но почему же ты не хочешь здраво посмотреть на то, к чему повел ее героизм?
– Да, спорить трудно – падение жирондистов.
– Вот именно, Иванов, вот именно. Скольких она своим героизмом обрекла на казнь.
– Вероятно, этот террор начался бы и без ее поступка.
– Вероятно! Сослагательное наклонение – оно в истории не значит ровным счетом ничего.
– Но не будешь же ты спорить, что якобинцы все равно набирали силу.
– Не буду. Но стоит задуматься, не позволила ли им смерть Марата быстрее собрать и укрепить свои силы. И что в результате?
– Думаю, жирондистов достаточно безосновательно обвинили в федерализме – содействии расколу Франции на отдельные самостоятельные провинции.
– Но сама по себе идея федерализма – союза нескольких самостоятельных республик – была особенно губительна перед лицом начавшегося иностранного нашествия. Жирондисты стали врагами в глазах народа.
– Отсюда приговоры и казни для одних и самоубийства других. Ничего не скажешь, якобинцы превосходно использовали ситуацию, чтобы расправиться со своими врагами.
– Все так. Чего стоит один их лозунг «единой и нераздельной республики»!
– Лозунг мог бы быть хорош, если бы не опирался на такие жестокости и такое подавление свободы личности.
– Опомнись, Востоков! О какой свободе да еще личности можно говорить, когда в разговор вступают пушки. Жерла орудий не знают подобных понятий. Скажу тебе больше. Начавшаяся даже в нашей академии трех знатнейших художеств «игра в солдаты» – следствие все того же неразумного героизма Шарлотты Корде.
– Друзья! Я перестаю вас понимать. Вы не принимаете роли личности в исторических событиях?
– Отчего же? Личность способна своими одиночными действиями или содействием проведению общих решений способствовать общественной потребности в переменах, но определять последние – ни в коем случае! Она всего лишь рупор, и в этом смысле не стоит переоценивать ее роль. Корде хотела помочь жирондистам, думала облегчить их победу над якобинским террором. Намерение доброе, но последствия самые злые.
– Что говорить! Похоже, наш Шешковский блекнет перед лицом якобинских Комитетов общественной безопасности. Во всех провинциях, как пишут газеты, созданы революционные комитеты из одних якобинцев. Они же диктуют и новую конституцию, которая выражает только их принципы террора.
– А вы читали в последнем выпуске «Лондонской газеты» результаты народного голосования по конституции? Трудно себе такое вообразить: два миллиона голосов против одиннадцати тысяч. Всего одиннадцать тысяч возразили против террора. Остальным, как видно, он пришелся по вкусу.
– Я не понял одного: значит, во Франции новая конституция? Но почему газеты прямо об этом не пишут?
– Только потому, что с ее введением в жизнь решено, по предложению Робеспьера, повременить – пока не будут устранены все враги республики. Декретом от 10 декабря 1793–го временное правительство Франции объявлено революционным.
– Иначе сказать, чрезвычайные меры военного времени утверждены как постоянно действующие.
– Что из того, если они обращены на благо народа!
– Также утверждают и якобинцы. Вот только не слишком ли много оказывается у народа врагов? И кого вообще следует при этом считать народом?
Царское Село. Кабинет Екатерины II. Екатерина, А. В. Храповицкий.
– Голова королевы под ножом гильотины! Франция никогда не смоет этого позора. Сослать королеву, лишить престола, законных прав, даже всех средств к существованию, но отрубить голову! Это свыше человеческого понимания.
– Там, где в игру входит борьба за власть, да еще неограниченную, жестокую, никакими правами не поддержанную, говорить о милосердии или простой человечности просто смешно, Храповицкий.
– Вы всегда относились к Марии Антуанетте скептически, ваше величество, не правда ли?
– Но не настолько, чтобы желать ей смерти да еще такой ужасной. Да, она не вызывала у меня симпатии. Девочка, выданная пятнадцати лет за французского дофина, который, несмотря на всю ее красоту, любой ценой хотел спастись от подобного брака. Скольких усилий ей стоило преодолеть это нерасположение супруга, в конечном счете даже заинтересовать его собой, если не влюбить.
– До любви, государыня, думается, дело не дошло: Людовик был слишком убежденным поклонником прекрасного пола, и верность жены не влияла на его пристрастия.
– Вот вам лишнее доказательство, Храповицкий, что в отношении толпы действительные поступки не производят никакого впечатления. Толпа видит в каждом из нас то, что хочет видеть, то, к чему в силу тех или иных обстоятельств нас приговорила. Никто не оценил супружеской верности Марии Антуанетты – напротив, сброд приписывает ей откровенный разврат, тогда как проступков короля никто не замечал. Его легкомыслие было в порядке вещей.
– Королеве не могли простить ни ее неопытности, ни австрийских привычек, от которых в пятнадцать лет не так просто было отделаться.
– Мне в свое время это удалось, Храповицкий.
– Государыня, вы были велики в каждом своем действии, Мария же Антуанетта хотела просто понравиться придворной партии. Она заискивала перед своими придворными и в то же время постоянно раздражала их своей поддержкой Австрии, будь то события в Голландии или Баварии.
– Непременно повторите свои выводы Платону Александровичу. Это подтвердит его теорию о вреде каких бы то ни было компромиссов. Он сторонник решительности во всем, несмотря ни на какие обстоятельства. Кстати, вы узнали что‑нибудь новое об обстоятельствах гибели Марии Антуанетты?
– Очень немного, ваше величество. Мы и так знали, что с момента начала революционных событий именно она стала самым откровенным и ожесточенным противником конституционно–демократического режима.
– Ее нетрудно понять. Она была королевой.
– И держалась – это подтверждают все донесения и газеты – с редким достоинством. После переселения королевской семьи из Версаля в Тюильри она все время старалась побудить супруга к более решительным действиям. Делала все, чтобы ускорить австрийское вторжение – ее слишком заботили судьба и безопасность семьи.
– А дальше – родина не поторопилась прийти на помощь своей преданной дочери, простые граждане увидели в действиях королевы измену Франции. Королева была с самого начала обречена.
– Но как она держалась, государыня, как держалась! Даже якобинцы вынуждены были отдать должное ее мужеству. После взятия Тюильрийского дворца 10 августа 1792–го она вместе с королем оказалась в Тампле… В декабре ее отделили от мужа. Она сумела подавить свое отчаяние. Королева справилась с собой и тогда, когда ей было разрешено последнее свидание с королем перед его казнью. Стража говорила, что она не билась в слезах, но будто хотела передать королю свою душу.
– И свое женское мужество. Я всегда считала женщин в критических положениях более сильными, чем мужчины. Но знаете о чем я подумала, Храповицкий? Мария Антуанетта была счастливой женщиной – у нее было кого любить.
– Вы думаете, государыня, король был достоин такого великого чувства и самоотверженности?
– Больше, чем кто‑либо другой. У них была семья. Были дети… Нет, Храповицкий, несмотря ни на что Мария Антуанетта была счастливой женщиной, а ведь ее ждали еще худшие испытания!
– Да, после казни Людовика королеву отделили от сына, а потом перевели из Тампля в тюрьму Консержери. Ей оставили в камере сломанную походную кровать, изорванное соломенное кресло и колченогий стол. Стража уверяла, что было совсем не просто найти такую рухлядь. Ее подбирали специально, чтобы лишить узницу даже тени удобств. И королева не возразила, не пожаловалась ни одним словом.
– Королева, умоляющая о снисхождении весь этот революционный сброд, – вы говорите сущую ерунду, Храповицкий!
– Вы как всегда правы, государыня. Но слабость так естественна.
– Для всех, кроме венценосцев. Сколько провела королева в этом смраде?
– Почти два с половиной месяца. 13 октября ее поставили перед революционным трибуналом.
– Боже, какое посмешище!
– Вот именно, ваше величество. Никакие самые убедительные доводы назначенных королеве защитников – а это были Трансон–Декудрэ и Шово–Лагард, – ни собственные убедительные речи не спасли Марию Антуанетту. Ее обвинили в чудовищных вещах – в измене и подстрекательстве к гражданской войне!
– Я читала, королева безо всякого волнения выслушала смертный приговор. Не подарила своим истязателям никакого триумфа. И 16 октября погибла на гильотине.
– Да, еще трибунал предъявил ей обвинение в преступлениях против нравственности.
– Какое это имело значение!
Царское Село. Будуар Екатерины II. Екатерина, М. С. Перекусихина, А. С. Протасова, П. А. Зубов.
– Зашла передохнуть. Что‑то душно сегодня. Или мне так кажется.
– Душно, душно, государыня. Не иначе гроза собирается.
– Какая гроза? Где грозу‑то увидала, Марья Саввишна? Все твои выдумки. Лишь бы государыне поддакнуть. Не слушайте ее, ваше величество. Побледнели вы. Может, лимонада со льдом Чулкову принести?
– Все‑то вам спорить, Анна Степановна! Нешто грозу сразу по небу видать? В воздухе она висит, а уж когда прольется, может, и к вечеру только. А государыне и впрямь на' креслах раскинуться в самый раз. Вот скамеечку сейчас подставлю – совсем удобно станет.
– Не хлопочи, не хлопочи, Марья Саввишна. Уже полегче мне. А что, Платон Александрович не заходил ли?
– Никак нет, государыня, с утра еще не был.
– Уж простите мне, ваше величество, а только балуете вы Платона Александровича. Построже бы с ним надо вам, куда построже.
– Все ты, королева Лото, знаешь – с кем построже, с кем помягче. Гляди, люди от тебя бегством спасаются. Всем‑то ты насолить умеешь. А ведь Платон Александрович всегда твоим любимцем был. С чего это ты милость на гнев сменить изволила?
– Да не то что на гнев, а что ни день вам его кликать приходится. Вон волю какую взял!
– А ты что подглядела за ним, Анна Степановна?
– Ничего не подглядела. Вас он беспокоит – вот что.
– Невелика беда иной раз и кликнуть. Человек молодой – на месте не усидит. Когда по парку захочется пройтись, когда верхом поездить или еще что.
– Вот тебе, государыня, и наш Платон Александрович – через минуту будет. Сбегала я за ним – на софе валялся. Разморило, говорит, так и о времени забыл. А мы пока что с Анной Степановной прочь пойдем. Дел‑то разных хватает.
– Хотели меня видеть, мадам?
– А сам бы так и не зашел?
– Вы с утра бумагами занимались. Ни к чему я вам был.
– Никак надулся опять, друг мой?
– А чего дуться – вам до моих настроений и дела нет.
– С бумагами сам виноват. Сколько раз тебе говорила: оставайся, всерьез делами займись. Учиться ведь им нужно. Талант у тебя есть. Голова светлая, а вот прилежания…
– Полноте, мадам, я стар для уроков. Да и какие уроки вы можете мне преподать, когда вам все доставалось по рождению – только руку протяни. Каждое желание ваше исполнялось, не успевали вы его задумать. Одно слово – ваше императорское величество!
– Зато теперь я могу выполнить каждое твое желание, разве это так плохо?
– Каждое? Ничего подобного – все по вашему выбору.
– Друг мой, но ты просто впал в полосу капризов. И кажется, я догадываюсь о причине. Это все тот же потемкинский художник, как его там, Лампи, что ли.
– Да, да, именно Иоганн Баптист Лампи, которого вы ни за что не хотите признавать достойным вашего двора.
– Но я же вижу – он посредственный художник! Можно найти без труда десятки более талантливых и блестящих живописцев.
– О, для вас ничего не значит признание всех европейских академий. Титул императрицы делает вас судьей даже в области изящных искусств! В двадцать пять лет он член Веронской академии, через три года – Венской. Любимый портретист императора Иосифа Второго, буквально выхваченный из его объятий польским королем. Станислав Понятовский предложил ему такие условия, что Лампи согласился поменять Вену на Варшаву. И не проиграл! Какой успех среди польской аристократии! Какая слава!
– А главное – его вызвал в Яссы на еще лучших условиях Потемкин. Я давно приметила – ты готов во всем подражать князю Таврическому и, должна тебе сказать, совершенно напрасно. Ты – это ты.
– Благодарю вас, мадам! Благодарю за такую похвалу. Но она не слишком меня убеждает. Вы любили «светлейшего», и вы любили его до конца, несмотря на все ваши злые о нем отзывы. Известно, от ненависти до любви – один шаг.
– Это что – ревность? Ревность к покойнику?
– Ревность? Ну, это уже слишком смешно. Но князь Таврический умел жить и умел себя поставить в ваших глазах. Вот этому умению нельзя не позавидовать. Вы его слушались, мадам, хоть и внутренне бунтовали против его власти. Наконец, вы его боялись. Да, да, просто боялись!
– Прекрати, немедленно прекрати этот бессмысленный разговор! Я приказываю тебе – прекрати!
– Ах, так! Вы хотите, чтобы я ушел, мадам? Ради Бога!
– Нет, нет! Я не гоню тебя. Ты неправильно меня понял. Просто в обсуждении покойного князя нет никакого смысла.
– Вы так думаете? А по–моему есть. И очень большой. Потемкин был богат. Сказочно богат.
– Ты же знаешь происхождение его богатства и мало в чем ему уступаешь. Если уступаешь.
– Я не о том – он умел пользоваться этим богатством. Он жил с ним – и как жил! И уж если он вызывал к себе художника…
– То это ровным счетом ничего не значит. Тебе же самому не нравится мой портрет кисти потемкинского художника – Шибанова. Ты же сам столько раз смеялся над ним. Какое же это свидетельство вкуса князя Таврического?
– Да, да, ваш портрет, мадам, парный к портрету этого московского образцового семьянина Александра Матвеевича Мамонова. У него, мне говорили, пришел на свет то ли третий, то ли четвертый ребенок. Вот что значит идеальное согласие с любящей и любимой супругой. Кстати, ведь это у Потемкина, мадам, вы купили превосходные подмосковные Дубровицы, чтобы Мамонову, было где свить свое семейное гнездо, не правда ли?
– Ты раздражен, мой друг, и становишься несправедливым, и все это из‑за одного австрийца. Тебе, как ребенку, главное – настоять на своем. Я и так пошла тебе навстречу. Лампи уже не застал князя в живых и, чтобы как‑то оправдать свою поездку, принялся писать там заказные портреты. Ты настоял, и я разрешила ему приехать в Петербург.
– Через полгода!
– Но твой художник получил деньги и на путевые издержки, и на квартиру.
– О, это было настоящим разорением для вас; 200 рублей на дорогу и меньше сотни на квартиру! Вряд ли стоило бы о таких мелочах вспоминать. Они недостойны русской императрицы.
– Позволь, позволь! По твоему настоянию я сделала австрийцу заказ на свой парадный портрет. Ты умолил меня позировать ему восемь раз. Восемь! Это неслыханно для опытного портретиста. И он еще просил о девятом, в котором я ему уже отказала.
– И что же, вы хотите сказать, что в этом был виноват мастер?
– А кто же еще?
– Вы и только вы, мадам! Это вам не нравились черты вашего собственного лица, которые Лампи уловил с первого же раза.
– Он так огрубил мое лицо, что его невозможно было узнать!
– Неправда! Его все узнавали. Вы добивались от художника того, чего не подарила вам натура, и он просто не мог угадать ваши мысли, только и всего.
– В конце концов, он боролся за хорошие деньги.
– За деньги? А разве не Лампи бесплатно – вы слышите, мадам, бесплатно, отказавшись ото всякого гонорара! – написал портреты двух президентов вашей Академии художеств, и сегодня они украшают зал заседаний Совета. Именно украшают – на этом сходятся все профессора. И вообще я не знаю лучшего портрета, чем он написал с меня. Поэтому я согласился, чтобы этот портрет тоже был повешен в Академии. Николай Борисович Юсупов! Алексей Иванович Мусин–Пушкин! Да, и я еще забыл Петра Васильевича Завадовского! Неужели этот последний не вызвал у вас никакого одобрения?
– Друг мой, твои нервы настолько расстроены, что я не вправе продолжать этой дискуссии. Чего ты добиваешься?
– Я хочу, чтобы Лампи оставался в Петербурге! Я хочу, чтобы он имел заказы! И я не желаю больше видеть этого отвратительного шибановского портрета, который вас незаслуженно старит. Да, да, именно старит! Вы можете соглашаться с подобной метаморфозой, Мадам, но я никогда! Вы слишком хороши собой, чтобы подвергаться подобным экзекуциям.
– Ты так думаешь…
– Я так чувствую, мадам. И пусть Лампи остается в Петербурге.
Царское Село. Кабинет Екатерины II. Екатерина, А. В. Храповицкий.
– Нет, такого я никогда не могла даме в мыслях допустить. Меня бы не смутили потоки крови – без них не совершаются исторические перемены и в том числе безусловно идущие на пользу человечеству. Просто люди не могут оценить смысла собственной пользы. Их зачастую приходится направлять к благополучию железной рукой. Толпа никогда не подменит собой ясного разума одного отвечающего за нее монарха. Но якобинцы перешли все пределы. Королева! Сын герцога Орлеанского, которого они же сами прозвали «гражданин Эгалите» – гражданин Равенство! Мальзерб, в прошлом министр, но нашедший в себе мужество защищать Людовика перед Конвентом! Поэт Андре Шенье! Химик Лавуазье! И вот теперь это дикое, разнузданное выступление против церкви. Да что там церкви – религии как таковой, как единственного средства, способного удерживать народ в рамках нравственных начал. У меня не хватает сил читать эти донесения. Само слово Париж становится для меня проклятьем.
– Но думается, государыня, это совершенно бесплодная затея – заменить христианство и собственно католицизм Культом разума. Христианство вошло в плоть и кровь людей.
– Вы так полагаете, Храповицкий? И совершенно зря. Вот вам отчет нашего агента – я не говорю о газетах, в которых всегда полно преувеличений, умалчивания и вранья! – за отказ от церкви выступает не столько Париж, сколько провинции! Вы понимаете, что это значит? Именно традиционные, консервативные, как принято считать, и враждебные всяким новшествам. С осени 1793–го в Конвенте проведен – заметьте, уже проведен и безо всяких споров! – новый календарь. Республиканский! Теперь летосчисление во Франции будет вестись со дня провозглашения Республики, а для обозначения месяцев вообще придуманы новые названная.
– Да, я читал, на сторону Культа разума стал общинный совет Парижа, Католические церкви стали здесь закрываться.
– И это при всей гибкости католических проповедников! Куда дальше – в соборе Парижской Богоматери был устроен праздник в честь Разума. Даже Робеспьер не согласен с подобными нововведениями и пытается отстаивать в Конвенте права старой религии. Даже Дантон восстает против религиозных, как он выражается, маскарадов, Именно Робеспьер принимает меры к тому, чтобы католическое богослужение все же могло совершаться, хотя отдает преимущество Культу разума и сопровождающему его культу террора.
– Может быть, эти известные разногласия между Дантоном и Робеспьером все же несколько утихомирят бушующие страсти и наступление террора.
– Вы плохо себе представляете толпу и ее психологию, Храповицкий. Мне она стала совершенно очевидной в пугачевские времена. Мне представляется, что есть определенное количество крови, которая, как при языческих обрядах, должна быть пролита, прежде чем действо способно прекратиться. Но не волей людей, не в силу их разумных решений, а как бы помимо них. Свыше, если хотите. Разве вы не читали, чем кончились прения двух вождей? Робеспьер взял верх. Дантон высказывался за то, чтобы прекратить террор, потому что Франция и без террора может отстоять свои земли от внешнего врага и республику от ее внутренних врагов. Но террор – слишком сильное оружие, чтобы от него добровольно отказываться. Вы же видите, весной нынешнего 1794–го года Дантон был арестован вместе с большинством своих сторонников, предан революционному суду и казнен. У Робеспьера не осталось соперников.
– Франция в руках такого чудовища!
– Полно, полно, мой друг! История совершает свой ход, уравнивая героев и чудовищ. Да, одним из первых декретов Робеспьер устанавливает почитание Верховного Существа в точном соответствии с гражданской религией Руссо. Да, на устроенных по этому поводу нелепых торжествах он выступает в роли эдакого первосвященника. Но для Робеспьера это всего лишь предлог для развязывания очередного взрыва террора. Робеспьер требует предоставить революционному суду право судить членов Конвента без согласия и разрешения на то самого Конвента. И – подписывает себе смертный приговор. Его сообщники впадают в панику по поводу собственной судьбы и – свергают самого Робеспьера. Это событие само по себе становится очередной знаменательной датой революции. Ему дают имя Девятого термидора, иначе говоря 27 июля 1794–го.