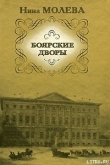Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Мой друг, ваши догадки говорят о том…
– Что Платон Зубов постепенно начинает разбираться в механизме власти, не правда ли? Но вы ведь этого и хотели, государыня. Так похвалите же способного ученика!
Екатерина II – А. Г. Орлову.
…Письмо, к вам писанное, от мошеницы, я читала и нашла оное сходственным с таковым же письмом, от нее писанным к графу Н. И. Панину. Известно здесь, что она с князем Радзивиллом была в июле в Рагузе, и я вам советую послать туда кого и разведать о ее пребывании, и куда девалась, и если возможно приманите ее в таком месте, где б вам ловко бы было ее посадить на наш корабль и отправить ее за караулом сюда; буде же она в Рагузе гнездит, то я вас уполномочиваю чрез сие послать туда корабль или несколько, с требованием о выдачи сей твари, столь дерзко всклепавшей на себя имя и природу, вовсе несбыточные, и в случае непослушания дозволяю вам употребить угрозы, а буде и наказание нужно, то бомб несколько метать в город можно; а буде без шума достать способ есть, то я и на сие соглашаюсь. Статься может, что она и из Рагузы переехала в Парос и сказывает будто из Царьграда…
Ноября 12 числа 1774 года.
Екатерина
Петербург. Зимний дворец. Апартаменты П. А. Зубова. П. А. Зубов и A. M. Грибовский.
– Потолковать с тобой, Адриан Моисеевич, хотел.
– Не рано ли побеспокоил вас, ваше сиятельство? Как передали мне, приказ ваш ввечеру, так едва ли не всю ночь на часах простоял – сна ни в одном глазу: не опоздать бы к вам.
– Ценю. А только службу твою, полагаю, заменить надо. Хватит тебе государыне иностранную почту читать. Не по твоим способностям работа.
– Так ведь я, ваше сиятельство, сами знаете, и указы ее императорскому величеству на подпись подношу.
– Еще бы не знать! Так ведь не сам указы сочиняешь.
– Шутить изволите, ваше сиятельство.
– Да нет, какие шутки. Так полагаю, пора тебе другим делом заняться. Обязанности Державина помнишь?
– Это когда почту личную государыне докладывал?
– Вот–вот. Только от дурной головы принялся сам судить да рядить, справедливость, видишь ли, восстанавливать.
– Так и вышло, ваше сиятельство: ни себе, ни людям.
– Надоел императрице хуже банного листа. Так вот хочу, чтобы ты, Адриан, этим делом самолично занимался.
– В каком качестве, ваше сиятельство?
– Статс–секретаря принятия прошений.
– Ваше сиятельство!
– Что, дух захватило?
– Как не захватить. Только ее императорское величество ни полсловом мне о подобной чести не намекнула.
– Ее величество ничего еще и не знает.
– Так как же…
– А вот так. Как решу, так и будет. Да и привыкла к тебе государыня. С радостью согласится.
– А уж я бы, ваше сиятельство!..
– Твое дело – во всех прошениях досконально разбираться. Какие в дело пускать, по каким резолюции императорские готовить, а какие в корзину или в долгий ящик. Докладывать обо всем мне будешь. Полагаюсь на тебя, только своему глазу больше верю.
– Да и мне куда надежнее, ваше сиятельство. Под вашим наблюдением и указаниями это же не работа – радость одна будет.
– Радость – не радость, раньше времени не решай. Помни – недоброжелателей у тебя хватает, у меня тем более. Так чтоб комар носу не подточил, слышишь, Адриан Моисеевич? Что ж о жалованьи не спрашиваешь?
– Как можно, ваше сиятельство! И в голове такое не поместится – счастье быть с вами обок. И с государыней императрицей.
– Прав, не обижу. Поместье тебе подобрать надо.
– Если бы на Волге, ваше сиятельство.
– Будет тебе и на Волге, и с рыбными тонями. А пока главное – следи за Малым двором. Сам знаешь, многие за цесаревича болеют. Масоны, скажем.
– Для ведомства Шешковского.
– Отнюдь! И думать о таком не моги. Тут знаешь, осторожность какая нужна. Государыне не два века жить, а нам с тобой много дольше. Это чтобы потом с нами все счеты сводили? Нет, уволь, братец. Знать надобно, а в дело пускать только с умом, семь раз отмерив.
– Ваша правда, ваше сиятельство. Не перестаю удивляться, как вам удается с Малым двором в добрых отношениях оставаться. При характере цесаревича да подозрительности его!
– Каждая царственная особа иметь характер нелегкий для простых людей может. Право венценосцев. А Павел Петрович рано ли, поздно престол займет, и тогда…
– А как же Александр Павлович?
– Тихо! Тихо, Грибовский! О чем говоришь – сам не знаешь. Как Господь определит, так и будет. А пока поздравляю с назначением. Сегодня ввечеру тебе государыня о нем сама скажет.
– Ваше сиятельство, по гроб обязан!
В. В. Капнист – А. А. Капнист. 17 мая 1793. Петербург.
Чтоб несколько польстить государыне и склонить ее на некоторое мне благоволение, написал я оду на обручение великого князя Александра [16]. Державин поднес ей мою оду 10 числа пополудни. Одиннадцатого поутру преподнес я оду великой княгине Елизавете, а после полудня – великому князю Александру. Сии последние меня поблагодарили, а что о сем думает государыня, пока не знаю…
Посылаю тебе экземпляры: прочти и подивись, как нужда впервые заставила меня в два дня сочинить оду. Ежели бы мне надо было бы, чтоб вырваться отсюда, сочинить их в 24 часа дюжину, думаю, меня б на это достало. Да что делать?..
Петербург. Зимний дворец. Кабинет Екатерины. Екатерина, А. В. Храповицкий.
– Ты слышал, Храповицкий, Платон Александрович о собственной канцелярии просил.
– Платон Александрович и ко мне с советом таким обратиться изволил. Очень беспокоился, чтобы люди деловые были – не промахнуться бы.
– И что думаешь?
– Советовать, государыня, затруднительно, поскольку неизвестно мне, чем именно Платон Александрович заниматься планирует.
– Да покамест ничем, я так полагаю. Присмотреться ему надобно. Себя к делу определить. Только там и разберется, когда бумаги в руки возьмет, первые доклады послушает. Обижать его не хочу.
– Как можно, государыня. Да и при талантах Платона Александровича было бы такое несправедливо.
– Да, способностями Бог его не обидел. Кабы прилежания побольше.
– Молодость, государыня, молодость.
– Не великий порок, а все затруднение.
– Так, может, людей многоопытных из разных областей предложить. Не то что подсказать могут, а присмотреться удобнее будет.
– Кого‑нибудь на примете имеешь?
– Да как сказать, ваше величество. Сколько мог приметить, с большим пиететом, прямо скажем, уважением Платон Александрович к покойному князю Таврическому относился.
– Сама удивлялась, с чего бы. Неужто иных примеров нету?
– Прежде всего, государыня, великая вам преданность. Уж в ней покойный князь не знал себе равных. Если в чем и не прав был, так в целом к вашему интересу стремился.
– Хочешь сказать, к российскому. Заврался, Храповицкий, совсем заврался. Вот уж о державе покойный меньше всего думал.
– Ваше величество!
– Полно, полно, не хуже меня знаешь – из каждого дела карманы себе набивал. Свои лопаться стали, и племянниц не забыл.
– Кто, государыня, Богу не грешен, царю не виноват.
– Крепко был виноват светлейший. А главное – напоследях так обленился, таким сибаритом заделался, что кабы не военачальники наши, все турецкие дела угробил.
– Спорить, государыня, не решусь. Ведь я только в объяснение тяготений Платона Александровича.
– А что, канцеляристы в последнее время какие у светлейшего были? Толковые ли? Кто‑то же все дела потемкинские делал? Не он же сам, на софе лежа да в соболя кутаясь. Уж не к лицу и не по летам, а все натешиться не мог.
– Вы о походной канцелярии, государыня?
– А что, у него другая какая была?
– О другой, пожалуй, неизвестен, а вся походная, сколько мне известно, преимущественно на одном человеке держалась.
– И кто ж такой?
– Не думаю, ваше величество, чтобы имя его было вам знакомо: Грибовский. Адриан Грибовский.
– Ну, и что о нем скажешь?
– Да что сказать. Покойный Григорий Александрович к делам своим никого не допускал. Разве со стороны разберешь.
– Хитришь, хитришь, Храповицкий. Выкладывай, что за пазухой прячешь. Ведь прячешь, а?
– Лет ему немного. По моему разумению, не более двадцати пяти.
– Платону Александровичу ровесник.
– В Московском университете учился.
– Окончил?
– О таком не слыхал. Сдается мне, до окончания курса вышел. В канцелярии губернаторской в Петрозаводске оказался.
– Далеконько. У кого же?
– У Гаврилы Романовича Державина.
– Правдоискатель, значит.
– Как раз напротив, ваше величество. Державин его казначеем в приказ общественных денег назначил, а он, грешный человек, там и проштрафился.
– Перед чужими денежками не устоял?
– Не устоял, государыня. Растратил. И немало.
– Судили?
– А вот это нет. Гаврила Романович растрату выплатил и от суда Грибовского спас.
– Приятели?
– Да нет, где там. Скорее Гаврила Романович в талант литературный Грибовского уверовал. От чистого сердца брату по перу помочь решил.
– Повезло прохвосту. А талант‑то и впрямь есть?
– Не читывал его опусов, но Гавриле Романовичу как не верить.
– Стихи, что ли, сочиняет?
– Помнится, прозу. Даже пьески писать пробовал.
– И то сказать, кто смолоду не куролесил. Сколько растратчику‑то от роду было?
– Не более двадцати. Гаврила Романович тогда еще говорил: ошибка в фальшь не ставится.
– Ошибка, значит. А дальше что с литератором стало?
– Доподлинно не скажу, а только Гаврила Романович его светлейшему представил – как раз Григорий Александрович по делам его сенатским хлопотал. Вот и оказался Грибовский у светлейшего в походной канцелярии. Да быстро так и заведующим стал. От Григория Александровича ни на шаг.
– И что, Таврический доволен им был?
– Не то чтобы хвалил, но и о жалобах слухов не доходило.
– И что, теперь не у дел остался?
– Похоже на то.
– Хлопотал ли за него кто?
– Не слыхал. А вот в прихожей у Платона Александровича его видали. Так полагаю, покровительства приходил искать.
– Отлично. Тогда так и сделаем. Надо бы так устроить, чтобы Платон Александрович сам его выбрал, а мы согласие дадим. Слышишь, Храповицкий?
– Нет ничего проще, государыня.
– А с Грибовским на особности поговори. Служба‑то его все равно императрице будет – чтобы помнил, в фокусы разные не пускался.
– Поспешить прикажете, государыня?
– Непременно. Чтобы Платон Александрович после тебя с этим литератором толковать начал. Да, кстати, что сочиняет сей молодой человек?
– Будто бы воспоминания. О светлейшем.
– Ишь, прыткий какой. Тем лучше.
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. А. Безбородко.
– Государыня, свершилось! Самые страшные предположения не доходили до такой крайности. До такой страшной крайности! 21 января был казнен его королевское величество Людовик XVI–й. И это начало 1793–го года!
– Безбородко, оставьте в покое свои эмоции. Подробности! Я хочу знать все подробности. Как могло до этого дойти. Бунт? Беспорядки? Нападение на место заключения?
– Ничего подобного, ваше величество, – решение суда. Простое голосование.
– Но это действительно невероятно! Так хладнокровно, так… Впрочем, вы провоцируете меня на выражение чувств. Они действительно неуместны. Я слушаю вас.
– Думаю, начинать надо с Национального конвента.
– Это его решение?
– Да, государыня. После долгих обсуждений. В Конвенте расстановка сил осталась такой же, как в Законодательном собрании. Справа – жирондисты, посередине так называемая равнина, слева – якобинцы.
– Но насколько мне известно, разница между жирондистами и якобинцами не так уж велика. И те и другие демократы, поклонники Руссо и республик классической древности.
– Зато они принципиально расходятся в принципах достижения общей цели. Жирондисты защищают свободу личности и боятся всемогущества государства даже в любой республиканской форме. Насилие народа представляется им совершенно неприемлемым. Они открыто обвиняют Дантона в сентябрьской резне, которая кажется им отвратительной. Зато монтаньяры – якобинцы, сторонники методов устрашения, или как они выражаются, открытого террора. Они выступают за то, чтобы народ напрямую выступал против всех инакомыслящих. Якобинцы за самые неограниченные полномочия власти и подавление всякого стремления к личной свободе. Наиболее горячие головы утверждают, что в форме республиканской диктатуры они готовы восстановить практику старой монархии, но с еще большей решительностью и непримиримостью.
– Любопытное мышление. В чем же тогда выигрыш народа, если наиболее значительные и талантливые его представители будут законодательно подавляться в своей деятельности? Мне кажется, подобная духовная тюрьма окажется гораздо суровее и безысходное, чем Бастилия, которую они наконец‑то разобрали всю до последнего камня.
– И тем не менее перевес именно на их стороне, государыня. Наш агент пишет, что по сравнению с жирондистами они великолепно организованы и подчиняются строжайшей партийной дисциплине.
– Идеи масонства носятся в воздухе.
– Но самое невероятное – это поведение их противников в Конвенте. Конвент первым делом объявил Францию республикой. Путь к продолжению монархии был отрезан. А вот дальше не кто‑нибудь, а именно жирондисты подняли вопрос о суде над королем.
– И это называется борьбой за полную свободу личности!
– Возможно, они почти сразу раскаялись в своем предложении, потому что якобинцы ухватились за него. Робеспьер от их лица заявил – мне трудно читать эти слова! – «Людовик должен умереть, дабы жила республика».
– Продолжайте.
– У жирондистов возникла надежда смягчить собственное безумие. Они предложили поставить этот вопрос перед народом. Но якобинцы категорически воспротивились.
– Что ж, народ никогда не высказался бы за казнь короля.
– Это было очевидно для якобинцев. В результате начался процесс. Король держался с редким достоинством и мужеством. Но – ему никто не помог. Отстранились иностранные державы, а жирондисты не нашли в себе мужества спасти его величество от казни. Громадным большинством голосов Конвент признал короля виновным в заговоре против свободы нации и общей безопасности государства. Апелляция короля к народу была запрещена. И хотя лишь очень незначительное большинство высказалось за казнь, этих нескольких голосов оказалось достаточным, чтобы казнь состоялась.
– Она не будет последней.
– Это ужасно.
– Да, и надо сделать все, чтобы спасти Россию от подобной судьбы. Решительно все. Если еще не поздно…
Г. Р. Державин – Е. Я. Державиной. Царское Село. 1793.
Мне очень скучно, очень скучно, друг мой Катинька, вчерась было; а особливо как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мною умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило и ты бы осталась без меня. Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь? Стало, ты любишь, или любила меня не для меня, но только для себя, когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твоей химеры, которые [Боже иэбави!] меня и тебя могут сделать несчастливыми. Итак забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что я уже целую неделю тебя не видал и что в середу твой Ганюшка именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга.
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. А. Безбородко, П. А. Зубов.
– Государыня, указ о возведении Александра Николаевича Зубова с потомством в достоинство графское священной Римской империи готов. Когда изволите подписать?
– Сейчас и подпишу, Александр Андреевич.
– Платона Александровича не изволите ли позвать, государыня?
– Эго для чего?
– Чтобы лично присутствовал в сей торжественный для всего его семейства момент. Не всякому такое счастье дается, чтобы самому увидеть, как ваше императорское величество подпись свою накладывает.
– Нет, Безбородко, не нужно. Я так задумала, чтобы сын узнал о новости от своего родителя. Ведь графом‑то наш Платон Александрович станет наследственным – по отцу своему.
– Оно конечно. Не пожалел бы только Платон Александрович впоследствии. Отношения у него, конечно, с родителем самые что ни на есть почтительнейшие, а вот так сердечности, что ли, на мой разум, им не хватает. Не случайно Платон Александрович сколько раз повторял, что в доме родном себя только в апартаментах нашей государыни чувствует.
– Говорил тебе? А мне вот никогда. Скрытный какой.
– Ну, что вы, государыня, какой же Платон Александрович скрытный, скорее деликатный – затруднить вас опасается.
– Думаешь?
– Что ж тут думать – наверняка знаю. Если иной раз Платон Александрович резковатым и покажется, так это от молодости, неловкости. Попривыкнет – другое дело.
– Что ж, Александр Андреевич, может, и твоя правда. Вели‑ка послать за Платоном Александровичем, а пока скажи, как народ наш к казни королевской относится. Казнили короля французского 21 января. Сегодня – 7 февраля. Впрочем, известие еле–еле успело прийти.
– Злые вести, государыня, быстрее ветра разлетаются. Народ наш опомниться не может. Это ж зверство какое!
– Ты не говоришь, что это прежде всего нарушение прав человека. Каждого. Какое такое преступление может совершить король относительно своего народа. Так ведь и управлять страной станет невозможно. Вся чернь на своих весах рыночных будет взвешивать, что государю можно, а что нельзя. Какое правление государственное без строгости осуществляться может? Во всем есть свои правые, свои виноватые – разве не так?
– Только так, государыня. А вот и почтеннейший Платон Александрович. Государыня вас дожидается, ваше сиятельство.
– Не знал, что могу вам понадобиться, государыня, в этот час, но весь к вашим услугам.
– Так полагаю, Платон Александрович, следует вам немедля к вашему родителю ехать – поздравить обер–прокурора I Департамента Сената и сенатора с графским достоинством.
– Как?!
– Вот императорский указ по сему поводу. А Александр Андреевич настоял, чтобы вам непременно при том присутствовать, как под ним положена будет императорская подпись.
– Александр Андреевич, премного благодарен. Не нахожу слов!
– Итак, дело сделано, вы довольны, друг мой?
– Государыня!
– Слушаю вас, граф Зубов.
– Всей моей жизни не хватит, чтобы отблагодарить вас за величайшую милость ко всему семейству нашему, хотя и древнему, но никакими титулами не отмеченному.
– Теперь справедливость восстановлена. И вам остается только озаботиться костюмом, в котором вам предстоит явиться на императорском приеме. Поздравьте от меня всех ваших братьев и прежде всего достопочтенного батюшку с матушкой.
– Не премину немедля к ним отправиться, ваше величество. Вот только, жаль сестрице не удалось воспользоваться такой честью.
– Полагаю, что Ольге Александровне ее красота заменит любые титулы. Сколько помню, к ней не остался равнодушным даже наследник престола, не правда ли, граф?
Петербург. Дом Д. Г. Левицкого. Д. Г. Левицкий, его гость.
– Специально заехал к тебе, Дмитрий Григорьевич, с новостью по меньшей мере необычайною. Наконец‑то сыскался королевич и для последней дьяковской дочки.
– Слава тебе, Господи! А то жалко было смотреть. Кажется всем Дарья Алексеевна взяла, а вот на ж, поди, нет жениха и нет. Последние годы она, помнится, безвыездно у сестрицы Екатерины Алексеевны в Ревеле оставалась. Горько ей тут было, как не понять.
– Да ты что, Дмитрий Григорьевич, по Дарье Алексеевне убиваешься. Спросил бы лучше, кто тот заморский королевич. Ведь из наших сыскался, да еще каких наших. Ну‑ка, угадай!
– Наших? Каких же это наших? Холостых вроде у нас нет. Василий Васильевич с Александрой Алексеевной благоденствуют. Николай Александрович с Марьей Алексеевной – пара, водой не разольешь. Граф Стейнбок с Екатериной Алексеевной. Разве что сам Александр Андреевич образ мыслей поменять решил? Нет, не верится. Всегда толковал, что обязательств супружеских не признает и свободы своей ни на что не променяет, а тут…
– А тут невесте тридцатый годок пошел, хочешь сказать. Красота‑то, коли и была когда, попривяла.
– Так бы не сказал, а только больно давно Дарью Алексеевну знает. С чего бы меняться ради старой знакомки стал.
– И правильно, Безбородко здесь не при чем. А ты что же, Дмитрий Григорьевич, вдовцов‑то обходишь?
– Вдовцов? Так тут Господь наше дружество пока милует. О Гавриле Романовиче не говорю. Послал бы ему Вседержитель сил и крепости духа потерю Катерины Яковлевны пережить. Уж таково‑то бедного жаль. Моя Настасья Григорьевна, глядя на него, слезами обливается.
– А вот и зря, Дмитрий Григорьевич. Жених‑то он и есть.
– Господи, быть не может!
– Это почему же, позволь тебя спросить?
– Да ведь полугода не прошло, как Катерины Яковлевны не стало. По всем обычаям траура еще никто не снимает.
– Кто не снимает, а кто и сбрасывает. Такая прыть у нашего пиита объявилась – уж на январь свадьба назначена. Так по–настоящему с тем и заехал, чтобы тебя упредить: не обидел бы жениха своим удивлением, не попрекнул бы не к месту.
– Так не шутка это?
– Какая шутка! Шестьдесят лет не стали нашему Гавриле Романовичу помехой: как на крыльях летает. Ждет не дождётся молодую супругу в объятия принять.
– Ну друже, совсем ты меня с мыслей сбил. Так ведь и Катерина Яковлевна, поди, лет на двадцать моложе Гаврилы Романовича была. Чем не молодая? Дал собой до чего ж хороша. Нрава легкого, веселого.
– Ко всем нам расположена была, не так ли?
– Еще бы! К ней, как по огонь к соседушке, все бегали. Помочь не сможет, посочувствует, словом да лаской поддержит.
– То‑то и оно. А у Дарьи Алексеевны к дружеству нашему сердце не лежит. Строга, куда как строга. Литературой отродясь не интересовалася. Книг вроде бы и в руках не держала – Марья Алексеевна ее все попрекала. Музыки хоть бы век не слушала.
– Знаю, друже, все знаю. Тем паче Гаврилу Романовича понять не могу. Что бы это с ним приключилося? Чем новая нареченная старика взяла? Одно достоинство – хозяйка, все говорят, отменная, денежки считать умеет, ждет не дождется, как своими обзаведется.
– Так ведь Гаврила Романович…
– Хочешь сказать, никогда им счету не знал? Верно, друже, верно. И покойница Екатерина Яковлевна ему в том не помощница. Ей что есть деньги, что нету – все едино. Лишь бы в доме лад да веселье были.
– И догадок ни у кого никаких?
– Почему же. За догадками дело никогда не станет. Одна, по–моему, самая удивительная. А, может, она как раз ближе всех к истине и есть. Так тебе скажу – не в фаворите ли дело?
– В Зубове? А он‑то при чем? Он‑то как сюда затесался?
– Да ты вспомни, друже, один раз он уж пииту нашему советом помог – насчет оды, которая его сенатские злоключения прикончила. Похоже, и теперь без совета его не обошлось.
– И чтоб Гаврила Романович такого совета слушать стал? Чай, не ода какая – жена.
– Подожди, подсади, Дмитрий Григорьевич, тут, видишь ли, расчет какой получается. Давай‑ка разочтем: в сентябре 1793–го стал наш пиит сенатором. От дел прямых его вроде бы отстранили, а молчать не заставили. Зато теперь Дарья Алексеевна ему и словечка лишнего сказать не даст. Графиня Екатерина Алексеевна толковала, будто сестрица уже и о доме, и о поместье загодя заботиться стала, расходы высчитывать. Так может беднягу закрутить, что о мыслях своих свободолюбивых забудет.
– А фаворит‑то как сюда замешался?
– Он любит наше дружество принимать. Скорей с императрицей в спор вступит, чем с нашими. Чего ж ему от чистого сердца не подсказать. Вроде и о благополучии державинском позаботился, а уж государыне лучше некуда удружил. И еще в толк возьми: с покойницей у Державина связи с Малым двором были, а теперь и концов не останется. Напомнить я тебе его строки хочу: «К Правде».
Лет 60 с тобой возился,
Лбом за тебя об стены бился,
Чтоб в верных быть твоих слугах;
Но вижу, неба дщерь прекрасна,
Что верность та моя напрасна:
С тобой я в чистых дураках!..
Пузыковка. Дом П. В. Капниста. П. В. Капнист.
– Долгонько ты, друже, не заглядывал в нашу Пузыковку. Думал, и дорогу к нам позабыл.
– Виноват, Петр Васильевич. Домашними причинами извиняться не хочу, а только слухом будто ты выехал в страны европейские, чуть ли не в самый Париж.
– Долгий разговор, да сегодня уже и беспредметный. Видишь меня перед собою, и на том давай точку поставим. Со многим из того, что во Франции деется, согласиться не могу и не соглашусь никогда. К истинной свободе и человеческому благополучию по колено в крови не идет. Нет такой человеческой дороги.
– Не все же французы в этом виноваты.
– Кто говорит, что все. Когда после казни короля все они поднялись отечество защищать, террор у них разыгрался вовсю. Жирондисты хотели тому воспрепятствовать, да разве это так просто, Когда страсти человеческие в полное смятение приведены. Как только весной Дюмурье сбежал заграницу да еще с собой сына герцога Орлеанского прихватил – надеялся его с помощью иностранного войска на престол посадить, – якобинцы за жирондистами истинную охоту повели.
– Жирондисты‑то здесь при чем?
– Так у них Дюмурье генералом числился. А тут еще в Вандее и Бретани восстание против Конвента вспыхнуло под предводительством священников и дворян. Тут Конвент отдал приказ набирать армию из трехсот тысяч человек и ввести целую систему террора. Исполнительная власть и с самыми неограниченными полномочиями передавалась Комитету общественного спасения. Комитет разослал по всем провинциям комиссаров из числа членов Конвента.
– И что же они делать должны?
– Да у наших защитников свободы духа все просто решилось – революционные суды. Без следствия и формальностей. Приговаривали в основном к казни на гильотине.
– Но ведь это хуже разбойников!
– Но то и вышло, друже. А еще комиссары стали народ подстрекать, чтобы против жирондистов выступали.
– Да полно, как это народу разобраться – кто жирондист, кто якобинец.
– А народу и разбираться не надо. Комиссары подскажут, а народу только глотки драть да камни хватать или дреколья остается. Вот толпа пару раз уже Конвент штурмовала – требовала немедленного изгнания жирондистов. Что им оставалось? Одних революционному суду предали, другим удалось бежать из Парижа. Вот тогда и нашлась Жанна Д’Арк наших дней – юная девица, которая убила кинжалом Марата.
– Девица! Одна?
– Ей никто не помогал, да она, по всей вероятности, и не решилась бы кому бы то было довериться.
– И что же? Ей удалось скрыться?
– Она не собиралась скрываться. И погибла. На гильотине.
Петербург. Зимний дворец. А. С. Протасова, П. А. Зубов.
– Ну‑ка, ну‑ка, Анна Степановна, погоди минутку, не торопись. Спросить тебя хочу.
– Чевой‑то ты, Платон Александрович? Обеспокоился чем?
– Да не так чтобы обеспокоился, а любопытство разбирает. Что за узелок у нас такой со сватовством великого князя затягивается? Вот ты мне и объясни – от тебя ведь ничто не скроется.
– Ну уж, и ничто! Скажешь, батюшка. Глаз‑то всего пара да ушей, а дел кругом вона сколько деется.
– Не сколько деется – о них и без тебя наслышан. Мне про сватовство узнать надо. Государыню пустяками беспокоить не хочу. Что это говорят, будто из того же семейства уже одну невесту брали да не удалась свадебка.
– Ах, ты об этом! Тут все просто. Матушка нашей невесты, Амалия, принцесса Гессен–Дармштадтская, вместе с сестрами сюда приезжала, когда наследнику, Павлу Петровичу, супругу выбирали. Амалия‑то цесаревичу не показалась. Он глаз на Вильгельмину положил [17], в святом крещении Наталью Алексеевну. Государыня наша тоже с выбором согласилась. Вот и обвенчали их, да знаешь, ровно в день рождения цесаревича – двадцать один год ему стукнул.
– Дальше, дальше, Анна Степановна. Знаю, не задалась у молодых жизнь. Почему это?
– Ну, Платон Александрович, промеж мужа и жены один Господь судья.
– А причем здесь муж и жена? Я о государыне говорю. Что она‑то принялась делать?
– Как это что? Нехорошо ты как‑то пытаешь меня, Платон Александрович. И сказать мне тебе больше нечего.
– Есть, есть что сказать, Анна Степановна. А то ведь иной раз свободным временем заглянул бы к тебе, коли дружба наша старая тянется. Так что, тянется, нет ли?
– Какой ты, Платон Александрович! Чисто банный лист. Ну, поженились молодые, ну, цесаревич в молодой супруге души не чаял. Обо всем на свете забывать стал. Какая там матушка, какая государыня – никаких советов и наставлений слушать не стал. На свою Наталье Алексеевну как на икону глядит, только что не молится.
– Понятно! Не стерпела наша государыня.
– Материнское сердце…
– Брось ты с материнским сердцем! Перерос я бабьи сказки слушать. Лучше скажи, как великая княгиня себя повела. Поди, стала царственным муженьком командовать, а уж такого государыня императрица и впрямь стерпеть не могла.
– Ну чего ко мне пристал, коли сам все знаешь.
– Все, да не все. Мне мелочишки всякие нужны.
– Какие еще мелочишки. Забрюхатела великая княгиня – цесаревич ровно ума решился. Вокруг нее только и крутится, каждую прихоть исполняет. Надоел уж государыне со своими страхами. Ей дела решать. Тут как раз еле–еле от Емельки Пугачева отбились. Самозванка – Бог сжалился – в крепости померла. Княжна Тараканова. С турками не разберешься…
– Григорий Александрович князь Потемкин–Таврический в гору пошел.
– Да не сбивай ты меня, Платон Александрович, Бога ради.
– Чтоб не забыть, вечером у себя одна будешь? Племянницы на балу плясать станут?
– Могут и на бал уехать. К Барятинским. Только ехать то к ним неудобно – дорога много часу берет.
– Вот и ладно. Часу в седьмом уедут?
– В восьмом, да ты что, и впрямь?..
– Даром спрашивать не стал бы. Так что же там с великой княгиней?
– Что‑что. Тяжело рожала, да так и не разродилась. Померла. Думали, цесаревич с горя свихнется. Ночами не спал, днями сидел, словечка не промолвит. Видеть никого не хочет. Ну, материнское сердце и не выдержало.
– Опять материнское сердце. Умная ты у нас, Анетта, чего ж комедию ломаешь. Что государыне понадобилось?
– Вот ты и не прав, Платон Александрович. О сыне государыня думала, только о сыне. Для того ему и представила письма, чтоб охолонул, в себя пришел.
– Какие еще письма?
– Которые один из кавалеров придворных великой княгине писал. Известно, амурные.
– Вот как! Вовремя, значит, нашлись.
– Да уж так вышло. Сначала цесаревич и в руки их брать не хотел, а потом…
– Что потом? О покойнице же речь!
– Плохо ты нашего цесаревича знаешь, Платон Александрович. Покойница – не покойница, так вскинулся, что уж государыня как унять не знала. Покойницу проклинать принялся. Все ее вещи из апартаментов личных вынести велел. Все портреты изничтожить.
– Помогло, выходит, зелье‑то отравленное.
– Это почему отравленное? Только то, что правда завсегда горька.
– Правда! Ох, Анетта, Анетта. Сама ли дурью мучаешься, меня ли обдурить хочешь? А откуда бы этим письмам взяться – не подумала? Неужто великая княгиня, коли мужу законному рога наставляла, в их супружеской спальне хранить бы бильедушки стала? А перед родами и вовсе – знала, сколько народу постороннего в покоях толочься станет, по всем уголкам рыскать. В нашем‑то дворце особенно.