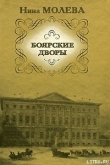Текст книги "Граф Платон Зубов"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
– Не захворала ли, спаси, Господи, и сохрани?
– Не знаю, что и сказать. Сама ни в чем не призналась. Мол – притомилася и весь сказ. С утра как птичка была, смеялась, день нахваливала. За кофий спасибо особенное сказала.
– Заснула ли?
– Видно, заснула. Меня прочь отослала. Я у щелки все стою. Вроде похрапывать даже начала. Необычно так. Я уж на свой страх за Платоном Александровичем велела послать. Что‑то не торопится.
– По–моему, давно торопиться перестал.
– И то правда. Да я пугать‑то его не хотела. Больше для порядку звала. Не мне же одной в ответе быть. Коли что…
– Никак встала государыня. Слышь, шаги. Взошла бы, Марья Саввишна. Тебе, поди, всегда можно.
– Не всегда, голубчик. Я свое место знаю. Не иначе государыня до устепу пошла. К чему же мне ей на глаза попадаться. Подождем малость. Раз встала, выходит, оклемалася, тогда и вовсе рассердиться может.
– Да что ты, Марья Саввишна, человек старый – все может случиться. Грех да беда на кого не живет.
– Господи! Да что же такое ты, голубчик, говоришь! Какое слово у тебя с языка сорвалось! Не дай Господь, до ушей государыни дойдет. Старый человек! Надо же такое вымолвить!
– Да ведь тебя государыня никак лет на десяток старше. Чего уж! Не век в девицах ходить – на все свой срок приходит.
– Со мной сравнивать нечего. У государей свой счет – не наш с тобой. Да и с чего это ты, голубчик, про Платона Александровича забыл, до его ушей дойдет – быть беде. Чистый порох – не человек!
– Марья Саввишна, а не долго ли за дверями ничего не слыхать? Может, войтить? Что за грех? Я вот дровишек для камина прихвачу, ты двери мне откроешь – за что тут на нас серчать?
– Твоя правда, голубчик. Входить надобно. Господи, так сердце и замирает. Спаси и сохрани ото всякой напасти! Видишь, видишь, голубчик, еще в устепе наша государыня. Только – только что же это ни шороха не слыхать? Что делать? Что делать‑то? Сама уж теперь не знаю. И Платон Александрович не идет.
– Да не придет он, Марья Саввишна, поди куда к знакомым в город уехал. Мало у молодого человека развлечений. Ты ж ничего опасного посланному не сказала.
– Как можно! Прежде времени!
– А теперь что? Позови ты государыню, Марья Саввишна! Окликни же!
– Государыня! Государыня–матушка! Не занемогли ли вы! Не помочь ли, государыня? Хоть словечком отзовитесь! Господи, молчит!
– Позвать людей надо, Марья Саввишна! Людей немедля!
– Каких людей, голубчик? Кто нас с тобой ей ближе, голубушке нашей? Самим, самим надобно все решать, коли Платон Александрович не идет. Государыня!
– Давайте‑ка, Марья Саввишна, дверку отворить попробуем. Не отворяется… Вроде держит ее изнутри кто.
– Не защелка ли?
– Какая защелка! Вон щель какая…
– А в щели‑то, в щели что, голубчик? Да говори же, не рви сердце!
– Государыня… на стульчаке… головкой к двери привалилася…
– Не дышит?!
– Никак дышит. Хрипит – так‑то вернее. Сомлела. В беспамятстве. Вот уж теперь людей звать непременно надо.
– А это еще зачем, голубчик? Чтобы государыню из устепа вытаскивать? Сами справимся! Сами! Вот когда на постельку положим, как следует приберем, тогда и тревогу подымать станем.
– Не получится у нас с тобой.
– Должно получиться, ради государыни нашей должно. Слышишь, голубчик? Скорей за дело берись. Дверку ломай. А я лучше дверь в коридор на ключ закрою – не зашел бы кто ненароком.
Петербург. Зимний дворец. Будуар Екатерины II. П. А. Зубов, М. С. Перекусихина, И. С. Роджерсон.
– Платон Александрович, голубчик, наконец‑то! Скорее, батюшка, только скорее!
– Да что случилось, Марья Саввишна? Что за спех?
– Государыня… государыня наша …
– Что государыня? Боже мой! Что с ней? Когда это случилось? Да говорите же, Марья Саввишна, говорите!
– Удар это, Платон Александрович, не иначе удар…
– Так ведь был уже у государыни прошлым годом. Обошлось же. Врача надобно. За врачом послали?
– Нет, батюшка, с прошлым годом не сравнить. Второй час государыня без сознания. Как сомлела, так и… хрипит.
– Но ведь обошлось тогда.
– По второму‑то разу, каждый тебе скажет, куда хуже. Тут уж пощады не жди. Одно спасение, батюшка, кровь пустить государыне надобно. Покуда за врачами посылать станем, поздно будет. Надобно самим, как цирюльники делают, ручку‑то надсечь.
– Нет, нет, только врача!
– Господи, пустого тебе не скажу, Платон Александрович. Знаю, давно знаю – одно спасение. Лишь бы не опоздать.
– Пустить кровь… Нет! И всем запрещаю. Оставьте государыню в покое. За врачом надобно послать. Где врач?
– Говорю же, нету. Дежурного во дворце не нашли, а за Роджерсоном – его еще сыскать надобно. Может, у больных неведомо каких. Времени у нас, батюшка, нету. Христом Богом тебя прошу, Платон Александрович, помоги государыне. Помоги же!
– Сказал, нет! И оставь, Марья Саввишна. Не твоего ума дело. Идти мне надобно – обдумать все. Как врач придет, меня позовешь.
– Платон Александрович!.. Государыня–матушка, благодетельница моя, не уберегла я тебя, дура старая. Ни до чьего сердца не достучалася. Что же еще сделать‑то для тебя, государыня, могу? Личико платочком обтирать. Глядеть на тебя, ненаглядную мою. Как жили мы с тобой вдвоем, так и в эту минуту горькую вдвоем остались. И семья‑то у тебя, и внуки с внучками любимые, и – Платон Александрович, а вот нету никого. Нетути! Государыня моя… Шаги в коридоре. Никак бежит кто. Изо всех сил торопится. Кричит что‑то. Ох, Иван Самойлович, я уж и ждать вас отчаялася.
– Потом, потом, Марья Саввишна. Сначала кровь отворим. Так… так… Что тут скажешь – плохо дело. Очень плохо.
– Неужто опоздали, Иван Самойлович?
– И это тоже. Надо было в первую же минуту кровь отворять. Только, может, здесь и это не помогло бы. Удар сильный и весь пришелся в голову.
– Иван Самойлович, императрица будет жить? Вы понимаете, как важно это знать.
– Еще бы. Жить, говорите, граф? Увидим. А вот движения, дара речи скорее всего не увидим. На долгое время, во всяком случае.
– Вы не ошибаетесь, доктор?
– Не ошибается только Господь Бог, наш Создатель и Вседержитель. Но похоже, ошибиться здесь можно только в худшую сторону. Не в лучшую. И я бы вам, граф, посоветовал – как врач, конечно, – побеспокоиться оповещением великого князя. Худо будет, если не от вас Павел Петрович известие это получит. Так что все обдумайте и – поторопитесь. Дорога до Гатчины достаточно далекая, да и человек вам надобен во всех отношениях доверенный. О ваших же интересах пекусь.
– Благодарю вас, Иван Самойлович. И никогда не забуду вашей любезности. Мне она может… спасти жизнь.
– Ну, зачем же так мрачно, граф. Но честно говоря, положение ваше завидным не назовешь. Так что мужайтесь и торопитесь. Кстати, подъезжая ко дворцу, я видел ваших братцев. Вы их уже успели оповестить? Тем лучше. У вас будут надежные помощники.
– Вы не осмотрите еще раз государыню?
– Бесполезно. Паралич ведет счет не на минуты – на недели и месяцы. В лучшем случае.
– А этот страшный хрип?
– Свидетельствует о глубоком поражении мозга. Мы полагаем, что в таком состоянии больной не должен ничего ощущать. Само собой разумеется, я останусь около государыни до конца. Так что вы свободны.
Говорит историк
Сие, служивый, рассуждая,
Представь мою всесильну власть
И, мерзостный мундир таская,
Имей свою в терпенья часть,
Я все на пользу вашу строю,
Казню кого или покою.
Аресты, каторги сноси
И без роптания проси!
С. Н. Марин. Сатира на правление Павла I. 1799-1800
Во время царствования Павла Петровича Петербург был вовсе невеселым городом. Всякий чувствовал, что за ним наблюдали. Всякий опасался товарища и собрания, которые, кроме кое–каких балов, были редки.
А. П. Рибопьер. Записки.
Герцен писал о «весне девяностых годов». Несмотря на заключение в крепость Н. И. Новикова и ссылку А. Н. Радищева. Несмотря на политические репрессии, к которым все более открыто прибегало правительство Екатерины. Несмотря на насаждение официальной доктрины искусства, которую просвещенная монархиня решила проводить в жизнь. Запрещенная к постановке комедия В. В. Капниста «Ябеда» и судьба «Вадима» Я. Б. Княжнина свидетельствовали о новых тенденциях со всей определенностью. Принципиальная разница заключалась в том, что комедия еще не была напечатана, а «Вадим» опубликован и притом дважды – отдельным изданием и в 39–й книжке «Российского феатра». Единственным напоминанием об отвергнутом императрицей либерализме оставалось то, что следствие о кощунственной трагедии велось по возможности секретно. Именно по возможности, ибо как избежать огласки, когда весь тираж книги конфискован. Полиция устанавливала через книгопродавцов имена ее покупателей, производила у них обыски, а разысканные экземпляры сжигала. Та же участь ждала и выдранные из «Российского феатра» страницы с княжнинским текстом. Генерал–прокурор А. Н. Самойлов предписывает московскому главнокомандующему князю А. А. Прозоровскому допросить уехавшего в старую столицу книгопродавца Глазунова и отобрать у него оставшиеся нераспроданными экземпляры «Вадима», оговариваясь при этом: «Благоволите исполнить все оное с осторожностью и без огласки… не вмешивая высочайшего повеления». Формально трагедия запрету не подвергалась. Императрице пока еще не хотелось открыто выступать против автора строк:
Блаженством подданных мой трон крепится.
Тиранам лишь одним рабов своих страшиться!..
Бесстрашен буди, царь: но чем сильней правитель,
Тем больше должен быть он истины хранитель
И чтить священнейшим народных прав закон!..
Законов первый раб, он подданным пример!
Но новиковские издания и труды уже сделали свое дело: побежденное с их помощью общественное мнение существовало и представляло силу, с которой правительство не могло не считаться. Альтернатива состояла в том, чтобы или найти способ скрытого воздействия на нее, или постараться эту заведомо враждебную императрице силу переломить. Екатерина предпочитает второе. Вопреки всем былым заверениям и излагаемым в письмах к французским энциклопедистам взглядам. Изменилось время. Изменился круг советников, сузившись до единственного – все более обожаемого и превозносимого Платона Зубова. Другое дело, что раскаты французской революции в некоторой степени заглушают сложности местной ситуации. В передовых умах зародилось сознание пусть далекой, но неизбежной перспективы, построения общества на принципах свободы и равенства. Возможность появления на престоле Павла I ни для кого не связывалась с приходом ожидаемых перемен. Время влияния Панина безвозвратно ушло и забылось. Гатчинский затворник год от года определеннее утверждался на иных позициях и пристрастиях. Его казарменные увлечения и страсть к прусским образцам ни для кого не составляли секрета. Со временем его сын, Николай I, производя вместе с принцем Вильгельмом смотр прусским войскам скажет то, что составляло атмосферу дворца родительского: «Помните, я наполовину ваш соотечественник». Это признание тем более могло принадлежать Павлу. Вести из Гатчины не утешали и не радовали, чтобы, в конце концов, стать былью Зимнего дворца. Под властной рукой матери Павел совершал немало поступков, создававших впечатление либерализма его настроений. Это он оказывает материальную поддержку Державину в ходе следствия 1789 года – тысяча рублей была им втайне передана жене поэта, его молочной сестре. Он подчеркивает свою заинтересованность инженерными способностями Н. А. Львова, которым императрица–мать не придавала значения. И поддерживает тех художников, которые заведомо не нравились Екатерине. Памятуя о панинских идеях, с ним ищут связи мартинисты круга Н. И. Новикова. Сдержанность Павла, незначительность его действий легко объяснить сложностью положения наследника и теми последствиями, которыми грозило всякое общение с ним. Жестокость расправы с Новиковым в немалой степени определялась попыткой мартинистов найти покровителя в лице великого князя. Окружение императрицы, как и она сама, отдавали себе отчет в том, что наследник престола станет играть в свободомыслие, пока эта игра будет поддерживать их врагов. Другое дело, когда вся полнота власти окажется в руках Павла. Но даже самые мрачные предположения не могли нарисовать подлинных перспектив нового царствования. Та же революционная обстановка в Европе вместе с появившейся на горизонте фигурой Первого консула Республики – Наполеона Бонапарта, становящегося кумиром и русской молодежи, предопределяет ожесточение внутренней реакции. Хотя на первых порах освобождение узников екатерининского правления, возвращение опальных и впавших в немилость государственных деятелей и создавало впечатление обновления государственной политикой, обращения к более независимым, а в чем‑то и передовым умам. Иллюзорность подобных надежд становится очень быстро очевидной для современников. К позиции представителя монархической власти присоединяются личные черты Павла I – нетерпимость, жестокость, отсутствие перспективного мышления и планов государственной политики, неизменная влюбленность в старопрусские порядки и фанатическое благоговение перед институтом императорской власти, которое приводит к созданию подлинного ее культа. «Истребить эту обезьяну!» – приказ императора в отношении мраморной статуи Вольтера в Эрмитажной галерее повторяется повсюду и по самым разнообразным породам. Адъютант великого князя Александра Павловича, А. А. Чарторыйский, как и многие другие, отмечает необычайную любовь Павла к церемониалу. Павел упивается властью, не желая упустить ни единого ее проявления. Он уже не может и не хочет изменить духа Гатчины, который становится духом его правления. Ничтожные бытовые подробности говорят о нем нисколько не менее ярко, чем указы, бесконечные снятия с должностей, опалы и столь же неожиданные милости и награждения.
В Гатчине можно себе позволить любимый распорядок дня. В 7 часов утра прогулка со свитой верхом. Павел не терпит верховой езды, не любит лошадей, но император должен быть на коне, и этим все сказано. В половине второго обед, на котором сыновья бывали только по особому приглашению. Из соображений экономии император предложил им держать для себя и своей свиты собственный стол.
В пять часов великие князья и придворные являлись в Кавалерскую, или Кавалергардскую, комнату, чтобы, независимо от погоды, отправиться на прогулку в линейках или пешком.
Вечерами иногда бывали спектакли, гораздо чаще карты, но с тем, чтобы не позднее десяти все расходились по своим комнатам. Балы становились редкостью – они раздражали Павла. Чарторыйский описывает один из таких редких праздников: «Несколько раз при дворе были балы менее многочисленные, чем обычно, где каждый чувствовал себя более естественно. Император пришел один раз во фраке – костюм, которого он не носил никогда; этот фрак был, если я не ошибаюсь, красного бархата с седоватым оттенком. В этот день он танцевал с Нелидовой контрданс, который иначе называют английским, в котором пары выстраиваются в колонну, где все последующие пары повторяют движения первой. Можно себе представить, как плохо себя чувствовали те, кто вынужден был строиться в эту колонну. Это было курьезное зрелище, оставшееся в моей памяти, – император Павел, маленького роста, в широких круглых чулках, становясь в третью позицию, округляя руки и делая плие, как учителя танцев прошлого и имея партнершей танцовщицу, такого же маленького роста, которая принуждена была отвечать на движения и жесты своего партнера».
Павел требовал безоговорочного повиновения монаршей власти, угрожал строптивым и приводил свои угрозы в исполнение. Страх охватывает дворец, но – не армию и не народ. Надежды «весны девяностых годов» продолжают жить, несмотря на павловские порядки и вопреки им. Действия императора вызывают впервые заявляющий о себе в таком количестве поток политических пасквилей. Интерес к политическим вопросам пробуждается во всех слоях русского общества. И характерно, что первый кружок, занявшийся вопросами государственного переустройства России, возникает в среде молодых художников, в классах императорской Академии трех знатнейших художеств, идейным руководителем которой долгие годы был фактически заменявший престарелого Бецкого в его президентских функциях Я. Б. Княжнин.
В 1798 году только что переведенный в старший, пятый, возраст А. И. Ермолаев пишет своим товарищам – будущему академику А. X. Востокову и книжному иллюстратору и архитектору А. И. Иванову, адресуясь к последнему: «Политическая статья твоя весьма хорошо написана, и я тебя за нее весьма благодарю, а особливо за книжку – выписку об экспедиции и характера генерала Буонапарте. Я никак не могу всему верить, что о нем пишут в лондонских известиях, и для многих причин. Мне нет времени представить тебе их по порядку, а скажу только то, что если бы Буонапарте не имел тех талантов, чрез которые он сделался столь известен, то я уверен, что Директория французская не поручила бы ему главного начальства над такою армйею, какова Итальянская, на которую Директория положилась в произведении главнейших своих планов против Римского императора; притом Буонапарте должен был во всем следовать советам Бертье; но мы напротив того знаем, что во время баталии при Лоди Буонапарте не послушался и – одержал победу. Стало быть Буонапарте имеет таланты, которые доставляют ему верх над неприятелем, в то время когда Бертье не находит в себе и столько искусства, чтоб хоть не проиграть батальи».
Часть III. Завещание Екатерины Великой
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императора Павла I. Павел, дежурный секретарь, А. А. Безбородко.
– Ваше императорское величество, граф Безбородко просит аудиенции.
– Некогда. Придет в другой раз.
– Но граф настаивает, ваше императорское величество.
– Что значит – настаивает?! Что он о себе думает?
– Ваше императорское величество, я всего лишь передаю слова графа. Он говорит, что новость его должна безотлагательно стать вам известной. И еще он упомянул завещание.
– Завещание? И у вас не хватило ума сразу же доложить об этом? Зовите же его, немедленно зовите. Рад вас видеть, Александр Андреевич, и отложите все церемонии на более удобный случай – сейчас мне не до них. Вы хотели мне что‑то сказать?
– Ваше императорское величество, вы знаете, сколько всегда был я вашему величеству предан и сколь…
– Граф! Вы хотите вывести меня из терпения!
– Ваше императорское величество, если бы я мог предположить, что послужу причиной вашего гнева…
– Все понятно: вы не знаете, как приступиться к делу. Я сделаю это за вас. Мне известны разговоры о завещании моей матери не в мою пользу, как бы абсурдна ни была такая воля. Весь вопрос в том, соответствуют ли они действительности?
– Как нельзя более, ваше императорское величество.
– Вы видели своими глазами ту бумагу? Или все это еще только область дворцовых сплетен?
– Я присутствовал при ее подписании, ваше императорское величество. Императрица вызвала меня для этого.
– Ах, отсюда и слухи!
– Я был нем, как могила, ваше величество, но я был не один в кабинете императрицы.
– Вы хотите сказать – убийцы моего отца. Какую же участь, расправившись с отцом, она придумала для единственного законного его сына?
– Мне тяжело об этом говорить…
– Я должен знать правду, Безбородко! Должен!
– Императрица передавала скипетр своему старшему внуку.
– Александру? Я так и знал. Она всегда старалась отделить его от родителей и настраивать против меня. Александр – отрезанный ломоть. Подождите, граф, но он же слишком молод?
– Да, покойная императрица предусмотрела опекунство до его совершеннолетия.
– Чье? Да не тяните, Безбородко, не тяните! Я только теряю с вами драгоценное время, тогда как мне следует действовать.
– Нескольких человек, и в том числе – мое.
– Ваше?! Это значит, моя мать настолько была уверенна в вашей преданности.
– Даже монархам свойственно ошибаться, государь.
– В чем же ее ошибка?
– Она гораздо более глубока, чем даже вы, ваше императорское величество, с вашей удивительной проницательностью могли бы предположить.
– Когда я наконец вступил на престол, естественно, что все придворные станут мне клясться в верности.
– Ваше императорское величество, императрица передала это завещание на хранение мне.
– Где оно?
– Со мной, мой государь. Вот оно.
– Дайте его мне.
– Ваше императорское величество, простите мне мою безумную смелость, но я умоляю выслушать меня прежде, чем в ваших руках окажется эта бумага. Государь, мой государь, вам не следует ее ни брать, ни тем более читать.
– Что это за бред!
– Только на первый взгляд, государь, только на первый взгляд! Ведь это так важно, чтобы вы могли с чистой совестью всем сказать, что вы никогда не видели никакого завещания и тем более не знали его содержания. Что такое мои слова? Император может склонить к ним свой слух или нет. Государь, разрешите приказать растопить камин.
– Камин? Кажется, я начинаю догадываться. Сейчас я позвоню.
– Государь, я все сделаю сам. Липшие глаза и уши здесь ни к чему. Вот видите, как просто – огонь уже пошел. Он будто ждал вашего приказа. А теперь – я просто разрываю эту недостойную бумагу и…
– Вы бросили ее в огонь?!
– Вот именно, ваше императорское величество, и никто на свете не сумеет доказать, что она вообще существовала.
– Безбородко! Я не благодарю вас – я поздравляю вас канцлером Российской империи. Моей империи, граф. И за работу. Немедленно! Тотчас жё! Всех невских вод не хватит, чтобы очистить Авгиевы конюшни моей предшественницы. Вы справитесь с этим, Александр Андреевич, я уверен. А кстати, я до сих пор не имел возможности по–царски отблагодарить вас за ту любезность, которую вы мне в свое время оказали в Москве.
– О чем вы говорите, ваше императорское величество?
– О доме вашего предшественника в должности канцлера Алексея Петровича Бестужева–Рюмина. Моя мать выкупила его у наследников канцлера и подарила вам. Это был…
– 1785–й год.
– Неужели так давно? Вы еще его превосходно переделали и обставили, но когда мне захотелось его иметь, вы сами предложили этот дворец мне уступить. Полагаю, вам нелегко было е ним расставаться, особенно при такой превосходной картинной галерее, которую вы пожелали мне оставить.
– Государь, я с ваших малых лет всегда видел в вас единственного законного монарха. Все остальное представлялось мне временным, преходящим. И я был просто счастлив хоть чем‑то услужить моему повелителю.
– Пожалуй, я верю вам, Безбородко. Пожалуй, верю. Так вот запишите сразу первые мои распоряжения. Все политические узники моей матери должны быть немедленно выпущены на свободу. Мать была одинаково жестока и несправедлива. Я не собираюсь ни для кого делать исключений. Хотя – постараюсь соблюдать осторожность с мартинистами. Их бесконечная благотворительность подкупает людей, а завиральные идеи о всеобщем братстве отвращают от верного служения престолу. Я не могу оставлять их в тюрьме, но – соблюдайте осторожность.
Петербург. Зимний дворец. Кабинет императора Павла I. Павел, И. П. Кутайсов[20] .
– Я сказал тебе, Кутайсов, что следует немедля разобраться с личным штатам покойницы. Занятие для меня крайне неприятное, но иначе от них не освободишь дворец. Я желаю, чтобы все они исчезли с моих глаз.
– Тогда нет нужды вам с ними говорить лично, ваше величество. Распорядитесь об их выходных пособиях, и все сделается без вашего участия к не доставит вам никаких неприятных впечатлений.
– Благодарю за предупредительность, но я чувствую по отношению к некоторым из этих людей определенные обязательства. Начнем с Перекусихиной. Кажется, изо всей этой жадной орды она единственная была привязана к покойнице и даже искренне заботилась о ней. У нее есть какое‑нибудь состояние?
– Нет, ваше величество, никакого.
– Что, императрица не потрудилась обеспечить свою самую верную служанку? Невероятно!
– Но это действительно так. Я нарочно наводил справки. Перекусихина с незапамятных времен жала во дворце на всем казенном я не обзавелась даже собственной посудой.
– К чести для нее. Как ее звать?
– Марья Саввишна, ваше величество.
– Зови сюда эту бескорыстную камер–юнгферу.
– Государь! Ваше императорское величество.
– Входите, входите, Марья Саввишна. Я уважаю ваши чувства по отношению к императрице, которая, однако, не сумела вам ответить должной заботой и соответствующим вознаграждением. Но я позабочусь о том, чтобы вы до конца своих дней ни в чем не испытывали нужды.
– Ваше императорское величество, право…
– Не перебивайте меня – я не терплю этого и делаю то, что считаю нужным. Вы будете получать пенсион из Кабинета, скажем, сто рублей в месяц. У вас нет дома?
– Государь, я уже переехала из дворца. Меня приняла моя племянница, супруга бригадира Торсукова.
– Вам не пристало ни у кого жить в нахлебниках. Мне сказали, что вы родом из рязанских дворян.
– Да, ваше императорское величество.
– Поэтому вы получаете в Рязанской губернии 4517 десятин земли, а здесь, в Петербурге, дом банкира Сутерланда. И еще: если вы захотите взять с собой мебель, которой пользовались все годы, она ваша.
– Благослови вас Господь, государь. Вы так щедры!
– В отличие от своей родительницы. Прощайте, Марья Саввишна. Руки не даю. Покойница не могла воспитать в вас любви и почитания ко мне. Достаточно, если я пожелаю вам благополучия. Кутайсов, я хочу видеть Роджерсона. Впрочем, ему вы можете просто передать, что я оставляю его лечащим врачом императорской фамилии. Этого вполне достаточно.
– Вы не хотите попробовать иного медика, государь? Более молодого, образованного, модного, наконец?
– Пробовать медиков? Нет уж, уволь, братец. Самое большее, чего можно от них ждать, – чтобы хоть не травили своих пациентов. Роджерсон ни в чем подобном не был замешан. Поэтому пусть остается. Если ты хочешь сказать, что от него мало толку, зато и меньше, чем от других, вреда. К тому же за него усиленно ходатайствует граф Ростопчин. Да, а уж если речь зашла о Ростопчине, придется разобраться с Протасовой. Ростопчин и за нее стоит горой – как‑никак воспитательница и благодетельница его любимой супруги.
– Ей тоже придется переезжать из дворца.
– Это еще зачем? Ее‑то мы и оставим в ее старых пенатах и на тех же условиях, какие она имела при покойной. За ней останутся помещение и стол. Добавь к этому, пенсию, орден Екатерины, скажем, второго класса и тысячу душ в Воронежской и Петербургской губерниях.
– Вы словно откупаетесь от этой черноглазой ведьмы, государь.
– А что ты думаешь, Кутайсов, по существу это так и есть. Таким образом мы обезвредим это осиное гнездо. Просто теперь Королева' Лото вместо покойницы станет служить императрице Марии Федоровне, которая, сам не знаю почему, к ней определенно расположена.
– И все‑таки главное для вас, государь, – это Зубовы.
– Почему ты так думаешь? Вовсе нет. Пусть занимают те же места, которые занимали; если я начну с ними расправляться, я только подтвержу худшие сплетни, ходившие по поводу личных историй покойницы, а для меня это отвратительно. Итак, Зубов–отец. Он будет по–прежнему, как в Гатчине, сидеть у меня за обеденным столом. Если будет стол для посторонних. В принципе я хочу ввести строжайшую экономию расходов. Зубов–старший, Николай Александрович… Он тем более стал родственником Суворова. Запиши, Кутайсов: он станет президентом Конюшенной конторы. И получит орден Андрея Первозванного. Все же он первым сообщил мне о перемене в моей судьбе.
– Но тогда Конюшенная контора кажется недостаточной.
– Вот именно – Конюшенная. По существу большего он не заслуживает и на действительной службе мне не нужен. О втором брате, Дмитрии, которому удалось жениться на Вяземской, не стоит и говорить. Его предел – питейные сборы. Следующий…
– Вероятно, младший из братьев – Валерьян Александрович.
– Ты прав. Наглец, одинаково известный своей жестокостью и безрассудством. То, что он лишился в Польском походе ноги, мне всегда представлялось знаком свыше.
– Вряд ли вы станете, государь, говорить здесь о каких‑нибудь наградах. Кажется, они все у Зубова–младшего давно есть. И орден Андрея Первозванного, и Георгий третьей степени, и чин генерал–поручика. И все это в 23 года.
– Остается сказать, что императрица и в самом деле испытывала к этому негодяю слабость.
– Сам Платон Александрович его чрезвычайно опасался и норовил отправлять во все более дальние походы.
– Без ноги он вряд ли представлял для него опасность, хотя… Был же Потемкин одноглазым, и это не мешало ему в его похождениях. А насчет походов… Кто, кроме родного брата, мог пуститься в большую аферу, чем Персидский поход? Трудно понять, как императрица могла поддерживать затею завоевания всей западной Азии вплоть до Индии. И безответственность потрясает.
– Тем не менее двадцатипятилетний главнокомандующий сумел взять Дербент и Баку.
– Но какой ценой для нашего войска!
– Зато сам приобрел Георгия второй степени и чин генерал–аншефа. Ради этого можно было положить полки солдат.
– Но с этим преступлением покончено. Война будет прекращена немедленно, а генерал–аншеф удалится в свои Курляндские имения без права приезда в столицу.
Это должно в полной мере удовлетворить его больное тщеславие и непомерное самомнение.
– Заслуженное наказание. Пожалуй, остается пожалеть только его жену.
– Ты видел ее, Кутайсов?
– Только на портрете, который рассматривал граф Ростопчин.
– И что же?
– Красавица–вдовушка. Она урожденная княжна Любомирская и первым браком была за графом Потоцким.
– И после этого выйти замуж за одноногого Зубова, сокрушавшего с звериной жестокостью ее родной край? Поистине чудны дела твои, Господи!
– К тому же моста приписывает Валерьяну Александровичу редкую грубость, легкомыслие и расточительность. Как бы ни были велики подарки ему императрицы, они скоро будут израсходованы, а супруга ничего решительно не принесла одноногому Аполлону.
– Помнится, Державин всячески превозносил достоинства графа Валерьяна, не так ли?
– Державин, государь? Да разве вы не знаете его удивительнейшей способности прокладывать себе путь по службе с помощью виршей? Он славился этим даже среди самых близких своих приятелей.
– Позволь, позволь, Кутайсов, но мне говорили, что Валерьян польстился не столько на красоту, сколько на состояние своей супруги.
– В таком случае его остается пожалеть, государь. Весь Петербург смеялся по поводу того, что былая княжна Любомирская графиня Потоцкая предусмотрела раздельное владение имуществом по брачному контракту. Генерал–аншефу в последнюю минуту пришлось проглотить эту горькую пилюлю.
– Но Бог с ним. У вас остается сам Платон.
– Он усиленно добивается вашей аудиенции, государь.
– Об этом не может быть и речи. Но я готов его назначить инспектором артиллерии. Пока. Пусть чувствует себя при деле, но не показывается мне на глаза.