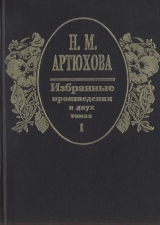
Текст книги "Избранные произведения в двух томах: том I"
Автор книги: Нина Артюхова
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
А я что, в чем виновата? Я вовсе и не писала Анечке про тебя. Только и писала, что про окопы и чтобы эвакуировалась. Ты же сам просил. И я вовсе ей никаких советов не давала к тебе приехать. Ты уж что-то о ней уж слишком заботишься. И не пропала бы она вовсе, если бы и приехала. Вот!
А я ей после Москвы вообще всего два единственных раза и написала до востребования. И если бы она захотела востребовать, то удивилась бы даже, что я про тебя не пишу.
Ведь мне бабушка сразу сказала, чтобы я ей про тебя не писала, я и не писала. Что, может быть, ты ее боишься пугать, что ты тяжело ранен, и что пускай сам напишешь. А теперь бабушка волнуется, и я же виновата, что тебя расстраиваю.
А я-то тут при чем? Ведь она же сама все время твердила, чтоб я тебе писала как можно почаще. Я и писала. А вот теперь и дописалась. Я теперь тебе и писать-то боюсь! Я даже и не знаю, писать или нет. Это последнее письмо.
Как ты скажешь, так и буду. Мне тебе писать хочется, но я не буду писать, если мои письма тебе такие вредные. Но ведь скучно же тебе будет, если я писать не буду!
А уж моей будущей тетушке я и вовсе писать не буду. Она, по-моему, в моих письмах не очень-то нуждается.
Ну, больше писать не о чем.
Крепко, крепко тебя целую.
Твоя Катя».
P.S. Не сердись, я тебе ничего плохого не сделала!
«Здравствуй, милый дядя Володя!
Как твое здоровье? Как ты поживаешь? Вот сейчас пришло от тебя извинительное письмо. Ты-то его написал в тот же день, а пришло-то оно на пять дней после сердитого. Нужно бы, чтобы извинительные вперед, а сердитые после. Ну, а почтальоны, наверное, не разбираются в людских сердцах и вперед пускают сердитые, а потом извинительные.
Ты говоришь (то есть пишешь), что у тебя от раскаяния температура поднялась на целый градус. Я очень рада этому! (Что ты раскаялся, а не что поднялась, уж зачем же на целый градус!)
Ты еще пишешь, что тебя за то письмо удавить мало, а, по-моему, совершенно не к чему. И писать я тебе не брошу. Вот ты надеешься, что я то письмо бабушке не показывала. Так все твои надежды могут рушиться прахом! Мы письма читаем все вместе. Знаешь, как она на твои письма накидывается! Так что ты и ей можешь извинительное писать.
В общем, сердиться в письменной форме опасно. Вот ты написал сердитое письмо и сейчас же раскаялся, а письмо уже идет. А я получила и сейчас же немножко обиделась и написала тебе обиженное письмо. А теперь мне тебя жалко, и я раскаиваюсь, что написала. А письмо-то мое уже идет.
Ты еще боишься, что я теперь с тобой и дружить не буду. Но ты не бойся. Я с тобой дружить все время буду. И вообще, если что, так ты прямо что хочешь пиши и не раскаивайся, я не буду обижаться.
Так ты пиши мне какие хочешь письма, даже ругательные.
Если, например, тебе очень больно или рассердишься на кого-нибудь (все равно на кого, я намеков не делаю), так ты ругайся, мне не будет обидно. Значит, ты пиши ругательные, я буду очень рада.
Анечке я теперь совсем не пишу. До востребования, когда не требуют, – скучно.
Ну, пока до свидания. Крепко, крепко тебя целую.
Бабушка целует. Так ты, дядя Володя, не расстраивайся уж из-за меня-то!
Твоя Катя».
То, что Катя «не делала намеков», было вызвано письмом ее отца, полученным за несколько дней до «почти сердитого» письма дяди Володи.
Вот что писал бабушке папа:
«Кажется, у Володи с Аней дело разошлось. Да оно и к лучшему. По-видимому, она оказалась пустой девчонкой и теперь никакого интереса к его судьбе не проявляет.
Те, кто видел ее в Свердловске, очень ее не одобряют.
Муся Назарова встретила ее случайно на улице и спросила про Володю. Аня ответила очень холодно, что он пишет редко, и сейчас же заговорила о другом.
Муся Назарова только позднее, из моего письма, узнала, что Володя ранен.
Володе я об этом не пишу и не спрашиваю: вижу, что больное место».
Дальше папа писал так:
«Володя в каждом письме спрашивает, не удалось ли узнать что-нибудь про Сережу Волкова. Но, сколько я ни писал и ни справлялся, ничего узнать не мог.
Завод, на котором работала Сережина мать, эвакуировался. Я писал туда, но мне о ней могли сообщить только, что она уехала в Дубровку за детьми и не вернулась.
Фронт, я думаю, сейчас где-нибудь между Бельковом и Городищами… Лейтенант, который тогда ездил за Володей и которому я тоже писал, считает, что Сережа и все Катюшины лохматые приятели попали к немцам».
XXVI
«Здравствуй, милый дядя Володя!
Как твое здоровье? Как ты поживаешь? Мне теперь совсем грустно. Очень жалко дядю Митю. Папа писал, что ты уже знаешь, что он убит.
Мы теперь с бабушкой, как только получим пропуск, поедем к его ребятам. Они ведь теперь освобождены. Их мать тоже погибла, они теперь с другой своей бабушкой, она совсем умирает.
Может быть, по дороге заедем в Дубровку. Даже странно опять попасть туда. Как все вообще совсем быстро меняется, и плохое и хорошее!
Дядя Володя! Вот ты пишешь, что тебе лучше. И в каждом письме так. А я стала складывать все эти лучше, и получилось, что ты здоров. А ты все болен. Тебе, наверно, даже надоело. Я стала один раз считать, сколько ты болен. Насчитала уйму времени. Я и не знала, что так долго можно болеть. Вот ты мне еще писал „философское“ письмо, что жизнь слагается из больших и маленьких огорчений и радостей и что ты не обращаешь внимания на свои маленькие огорчения (то есть что ты болен), когда теперь такая большая радость (то есть что наша земля освобождается). Так-то оно так. Да мне иногда кажется, что не обращать внимания тебе не так просто, как в письменной форме. Ты еще сравнивал жизнь с разными вещами. А мне больше всего нравится, что она винегрет. Тут есть намеки в мою сторону. Ты говоришь, что „раз в винегрете все перемешано – сладкие, соленые, кислые и горькие кусочки, то и нужно есть все подряд, а не выбирать одно самое вкусное, как делают некоторые“ (вот он намек-то!). И еще, что тебе хочется все-таки доесть свою порцию, хотя тебе в нее, на твой вкус, определенно переложили перцу.
Про перец я понимаю, я сама его не люблю.
А про выборку вкусных вещей твои намеки теперь уж не правильны. Я ем все, и вкусное и невкусное, кроме вареной моркови, но бабушка мою порцию дает мне сырую. И потом теперь вкусного так мало она кладет, что им и наесться-то нельзя.
О бабушке я писать не буду. Сам понимаешь, что же писать! Но так-то она здорова! Пока до свидания.
Крепко тебя целую.
Твоя Катя».
XXVII
Письмо Кате принес один из деревенских мальчиков, а ему подал письмо шофер на шоссе с наставлением обязательно передать лично и только, если Катя будет одна. На конверте корявым, неразборчивым детским почерком было написано: «Дубровка, д. 8, Кате Курагиной. Читай одна, не показывай бабушке». Последние слова два раза подчеркнуты неровными, волнистыми линиями.
Мальчишка деликатно удалился, и Катя вскрыла конверт.
Первым делом она взглянула на подпись.
Все стало понятным. Дядя Володя диктовал свои письма, самому было неудобно писать лежа. Но неужели сейчас он никого не нашел постарше? И почему не по почте? Катя стала читать.
«Милая Катюша! Еду из госпиталя в Москву на машине. В городе случайно узнал, что ты с бабушкой в Дубровке и что поедете скоро к Митиным ребятам. Мы будем проезжать по шоссе сегодня вечером. Я мог бы заехать к вам на несколько часов, но боюсь за бабушку. Дело в том, что у меня руки одной нет и ноги не в порядке. Впрочем, про ноги говорят, что, может быть, потом буду ходить лучше. Я не писал вам об этом раньше, только папе написал, думал – все равно умру, так зачем же еще перед этим лишнее огорчение. Но теперь, зная, что вы здесь, просто не могу проехать не повидавшись. Вы уедете далеко и надолго, я стал непрыткий, может, и не увидимся больше.
Осторожно скажи обо всем об этом бабушке, чтобы она меня не испугалась.
Я не знаю, какая она теперь, после смерти дяди Мити.
Катюша, решай сама. Если, по-твоему, бабушку сейчас волновать не нужно, ничего ей не говори. Тогда выйди сама к мосту на шоссе, часам к шести вечера. Если не сможешь прийти, устрой так, чтобы вы были в саду перед домом между шестью и семью часами. Я вас увижу. Машина легковая, защитного цвета.
Катюша, пишу тебе как взрослой. Подумай хорошенько, стоит ли говорить бабушке. Не знаю, с кем из старших ты могла бы посоветоваться.
Жив ли Сережа и что с ним? Если он в Дубровке, пусть придет с тобой к мосту, очень хотел бы его видеть.
До свиданья, милый друг. Прости, что заставляю тебя разбирать мои каракули. Никак не научусь писать левой.
Поцелуй за меня бабушку и ребят Митиных, когда увидишь. Целую.
Твой В. Курагин».
Катя несколько раз перечитала письмо, потом молча сидела и смотрела на дорогу вдоль улицы.
Странная это была улица. Вместо домов на большом расстоянии друг от друга торчали печи и трубы, рассыпанные кучи кирпичей, черные бревна. Здесь бугор, там яма.
Казалось, что в этом месте играл большой и злой великанский ребенок, хотел построить что-то из своих великанских кирпичиков и дощечек, а потом все разломал, растоптал, засыпал черным пеплом и ушел.
«Жди в саду перед домом…» – писал дядя Володя. Где сад? Удивительно, что уцелел этот конец улицы, начиная с их дома. Слишком торопились немцы, не успели дожечь.
Наконец Катя встала, спрятала письмо, расправила совершенно мокрый носовой платок, повесила его, чтобы просох на солнышке, и пошла к ручью вымыть лицо.
XXVIII
Автомобиль остановился на шоссе. Катя хотела бежать на кухню к бабушке. Но когда увидела в окно, как дядя Володя идет от калитки по двору, она решила бабушку не звать. Пусть он сначала войдет, в комнатах будет не так заметно. Из автомобиля выскочили еще двое военных и пошли рядом, делая совсем короткие шаги.
Катя выбежала на крыльцо. Владимир остановился, тяжело опираясь на костыль, поднял голову и спросил:
– Ты ей сказала?
Болезнь смыла все краски с его лица. Глаза были по-незнакомому невеселые и строгие…
Только золотисто-коричневые волосы по-прежнему ребячливо и молодо закручивались надо лбом короткой жесткой завитушкой. Подойдя к лестнице, он снова остановился: пять ступенек – это было слишком трудно. Ему помогли войти.
Бабушка сидела, привалившись белой головой к пустому рукаву его гимнастерки. Владимир тихонько гладил ее маленькие белые руки.
Кате казалось странным, что они говорят совсем о другом – о смерти дяди Мити, о том, давно ли писал папа, и о том, как бабушка доехала.
Когда Владимир встал и прошел по комнате, осторожно переставляя негнущиеся ноги, Катя не выдержала и разрыдалась.
У него покривились губы:
– Ничего, Катюша, то ли еще бывает!
Катя плакала громко, отчаянно и никак не могла остановиться. Слезы заразительны.
Бабушка покашляла, сложила маленьким комочком носовой платок и вышла в сени.
– Перестань, Катюша. Не расстраивай бабушку. Ты мне вот лучше что скажи: кто у вас тут уцелел? Где Сережа? Знаешь что-нибудь про него?
Катя кивнула головой. Она начала говорить, прерывая всхлипываниями свои слова:
– Он здесь… Он был у партизан… Знаешь, дядя Володя, что он делал?
– Не знаю, – улыбнулся дядя Володя, – но наверное что-нибудь уж очень здорово делал!
– Он даже в разведку ходил!
Катя встала, вытирая глаза.
– Дядя Володя, я обещала Сереже сказать, когда можно ему прийти. Можно сейчас?
– Ну конечно. Беги за ним скорее!
Катя убежала. Бабушка вернулась в комнату.
– Мне так тяжело уезжать, – сказала она. – Ужасно, что я не могу быть с тобой.
– Что ты, мамочка! Ты ребятам сейчас нужнее. А обо мне не беспокойся. Там, в Москве, есть человек, мы уже договорились, он мне все делать будет.
– А что, Аня давно тебе писала?
– Да мы не переписываемся.
– Как, совсем? Но ведь ты-то писал ей что-нибудь?
– Один раз писал… Вернее, на машинке настукал.
– Ну и что же?
– Ну и все.
– Володя, а что ты ей написал?
– Чтобы меня не ждала и чтобы устраивала свою жизнь иначе.
– Но знает она про тебя… что ты ранен был… Володя?
– Думаю, что не знает… И я вас всех очень прошу, чтобы она ни от кого и не узнала об этом! Мамочка, прости, ты меня лучше не спрашивай.
– Володя, но ведь если она не знает. Это твое письмо, да еще на машинке напечатанное…
– Я так и хотел. Я, впрочем, извинился тогда, что у меня ни чернил, ни карандаша нет под рукой.
– Но, Володя… – голубчик мой, мы больше не будем об этом, – я только одно еще спрошу. Ведь, может быть, если бы она знала, она бы… Володя, ведь это жестоко!
– Мамочка, ей двадцать лет. Ты видела ее когда-нибудь?
– Ну, видела.
– А меня видишь?
Он сел на подоконник и стал смотреть в окно.
– Вот они идут, – сказал он вдруг совсем другим голосом. – Здравствуй, Сережа! Ну, беги сюда! Давай поцелуемся.
Сережа подбежал, вспрыгнул на подоконник и молча обнял Владимира.
– Очень, очень рад тебя видеть! – Владимир похлопывал его по плечу. – Говорят, ты тут партизанил хорошо?
Сережа не мог говорить от волнения и жалости.
– А как твои? Мама, сестренка? Живы?
Сережа ответил тихо:
– Нет.
Владимир вздохнул. Они молча смотрели на черную улицу.
– Что же ты думаешь делать теперь, милый друг? Родные какие-нибудь есть у тебя?
– Нет.
– Дом твой, кажется…
– Вот наша печка торчит.
Они опять помолчали.
– Знаешь что, синеглазый? Поедем со мной в Москву. Устроим тебя в какую-нибудь школу или детский дом… А хочешь, у меня поживи. Своих ребят у меня не будет, будешь моим сыном.
Сережа ответил ему таким взглядом, что Владимир сморщил лицо, отошел от окна и пересел на лавку, где потемнее.
– Так решено! Я попросил моих товарищей, чтобы ехать завтра. Успеешь собраться?
– Успею.
– Только вот что, милый друг… Я как-то не сообразил сразу… Все еще привыкнуть не могу… Может быть, тебе будет неприятно… Дело в том, что… тяжело жить с калекой. Во всяком случае, можно ведь и не у меня.
Сережа опять только посмотрел на него. Слов не потребовалось.
XXIX
Владимир тяжело переносил свое увечье. Он привык быть сильнее всех, привык оказывать помощь и покровительствовать более слабым. Пока он лежал в лазарете и не был уверен, останется ли жив, было, пожалуй, даже легче. Его окружали такие же больные люди.
Было совершенно естественно, что сестра кормила его с ложечки или писала письма под его диктовку.
Несколько раз, подчиняясь его настойчивым просьбам, она пристраивала пишущую машинку около кровати так, чтобы он мог нажимать клавиши, вставляла бумагу и помогала печатать, деликатно отворачиваясь, чтобы не заглядывать в текст.
Теперь он чувствовал себя гораздо лучше, мог передвигаться самостоятельно, но теперь было тяжелее. Он слишком долго лежал в четырех стенах, отвык от суеты и пространства большого города.
Так хотелось вернуться в Москву, но, только вернувшись, он понял, насколько изменилась его жизнь. Крутом все было такое же или почти такое – все, кроме него самого.
Первое время, просто чтобы выйти на улицу, нужно было сделать большое усилие над собой. Вокруг него ходили здоровые люди, не замечавшие веса своего тела. И не только ходили, но бегали, нагибались, прыгали на подножки трамваев, поднимались по лестницам, как будто это было совсем простое дело.
Они не знали и даже представить себе не могли, что переходить улицу страшно, – просто потому, что она широкая; что спускаться по лестнице вниз, может быть, еще труднее, чем подниматься, потому что ступеньки мелькают и путаются под ногами, как живые, и, если кто-нибудь не идет рядом, кажется, что сейчас упадешь. И он нуждался в помощи и покровительстве этих людей.
Даже самые слабые были сильнее его. Пожилые женщины уступали ему место, маленькие дети открывали ему дверь и придерживали ее, чтобы он мог пройти.
Когда в Дубровке Елена Александровна и Катя передвигали тяжелую кровать, чтобы устроить его поудобнее на ночь, он сидел молча и смотрел на них, стараясь сохранить хладнокровие.
Но смотреть было невыносимо, он вышел на крыльцо и простоял там, опираясь на перила, пока они не кончили.
И вот теперь Сережа. Сереже он предложил жить вместе, подчиняясь прежней, нелепой теперь уже, привычке покровительствовать.
Сережа смотрел на него влюбленными глазами, бросался подавать вещи, к которым он протягивал руку, помогал одеваться, резал хлеб, бегал за покупками, начищал его сапоги до солнечного блеска, снимал пылинки с его шинели.
Знакомые, которые помогли Владимиру найти комнату в Москве (его прежняя квартира была разбита), писали ему, что рядом с ним будет жить бодрый и расторопный старичок, желающий подработать, вполне пригодный для услуг.
С ним можно договориться – он будет готовить, покупать и прочее и прочее.
Старичок оказался ненужным: Сережа был и камердинером, и поваром, и сиделкой.
Это было так же невыносимо, как передвижение тяжелой кровати слабыми руками Елены Александровны.
Самое ужасное было то, что с каждым днем он привязывался к мальчику все больше и больше.
Расставаться нужно было именно сейчас, потом будет труднее. Через несколько дней после их переезда Владимир сказал Сереже самым естественным и непринужденным тоном:
– Знаешь, Сергей, тебя можно устроить в очень хороший детский дом, здесь, недалеко от Москвы. Будешь учиться, сможешь приезжать ко мне по воскресеньям.
– Вы не хотите, чтобы я жил с вами?
Когда Сережа волновался, он не отворачивался и не смотрел куда-нибудь себе под ноги, – он смотрел прямо на собеседника яркими синими глазами, и в этих глазах можно было читать все его чувства.
Отвернуться пришлось Владимиру. Никакой непринужденности не было в его голосе, когда он ответил:
– Я сам не знаю, чего хочу, милый друг. Во всяком случае, я хочу, чтобы тебе было лучше. Ну кем ты будешь здесь? Нянькой моей?
– В Дубровке вы говорили… вы говорили…
– Что я говорил?
– Не про няньку!
В Сережиных словах звучала такая боль, что Владимир окончательно расстроился.
– Хорошо… Я не забыл… Сережка, я же не хотел тебя огорчить!
Сережа понял, что он остается, и решил продолжить деловой разговор:
– Я буду работать. Я уже справлялся. Я пойду…
«Вот оно что! – подумал Владимир с досадой на самого себя. – Мальчишка решил, что я заговорил об этом, боясь лишних расходов!»
– Вот что, Сергей, – начал он с большой запальчивостью, – если ты хочешь, чтобы было так, как мы говорили в Дубровке, ты должен меня слушаться!
– Владимир Николаевич, да разве я…
– Стой, не переворачивай моих слов! Я не говорю, что ты меня не слушаешься, я говорю только, что ты должен меня слушаться. Сколько тебе лет? Тринадцать? Не примут тебя, ни на какую работу не примут, успокойся!
Он докончил, уже смягчившись:
– Даже грузчиком не возьмут ни в какую товарную контору! Тебе нужно учиться. Завтра узнаешь, где тут поблизости школа, и подашь заявление.
XXX
В комнату вошла пожилая женщина, худенькая, с проседью в темных волосах.
– Я соседка ваша, в домоуправлении работаю…
Она положила перед Владимиром паспорт, пенсионную книжку и Сережину справку для школы.
– Вот. Все уже оформлено.
Он раскрыл пенсионную книжку, потом захлопнул и спрятал в стол.
– Благодарю вас.
Она оглядела стены и потолок.
– Нужно будет вам печку железную поставить. В этом году центрального не обещают… Вы инженер?
Владимир обернулся. Она стояла у книжного шкафа и разглядывала книги за стеклом.
– У меня от мужа много осталось книг технических и журналов. Он выписывал разные редкие издания. Вы языки знаете? Иностранные тоже есть.
Он спросил:
– Ваш муж?..
Она ответила уже в дверях:
– Да, этим летом… под Белгородом…
Не прошло и получаса, как она вернулась с тяжелой связкой книг.
– Вы бы сказали, я бы вам… – Сережа вскочил, чтобы ей помочь.
Владимир перелистывал книги. Она смотрела по-матерински ласково на его оживившееся лицо.
– Есть что-нибудь интересное для вас?
– Очень, очень вам благодарен!
– Я бы вам совсем их оставила, но… вы понимаете…
– Что вы, что вы! Положим их вот сюда, на отдельную полку, все будет в целости и сохранности!
Когда она ушла, Сережа спросил:
– Владимир Николаевич, она вам нравится?
– Очень.
– Она на мою маму похожа. Не лицом, а так… да и лицом немного.
Владимир отодвинул от себя книги.
– Сережа, если тебе когда-нибудь захочется рассказать про своих, расскажи. А если тяжело – не надо.
Сережа сидел на подоконнике и смотрел прямо перед собой сухими, блестящими глазами.
И вдруг стал говорить:
– Я… о маме узнал… только вот теперь, когда наши пришли… Помните, мы с вами встретились… Вы говорили: «Уезжай», а я сказал, что мама должна приехать. Ну… вот она – тогда… в поезде… А Любочка – в конце зимы, болела она. Нам было очень трудно жить…
Владимир сидел у стола, подперев голову рукой, и слушал.
XXXI
Человек устроен так, что он должен кого-нибудь любить. Сережина любовь была любовью с первого взгляда, с первого дня знакомства, с первого доброго слова, сказанного ему. Этот большой и сильный человек, так сочувственно отнесшийся к его маленьким неприятностям и обидам, прочно и навсегда завоевал его сердце.
Теперь, после всего пережитого, Сереже было странно, что он мог чувствовать себя несчастным, когда его в Дубровке дразнили ребята.
Очень скоро, однако, в первый же месяц жизни в Москве, он снова понял, что даже и маленькие неприятности могут причинять боль.
Он стал ходить в школу, когда занятия уже начались.
Пропущено было много. Он отвык заниматься, не все учебники удалось достать. Много времени отнимали его хозяйственные заботы.
Результатом было несколько двоек, полученных как-то очень быстро, одна за другой.
Потом начались контрольные работы, и это была гибель. Сначала Сережа растерялся, он не привык к таким отметкам. Страдало самолюбие: ребята, которые были – ведь он чувствовал это – гораздо менее способными, чем он, бойко трещали у доски, рассказывая про римских императоров. Они легко решали алгебраические задачи, над которыми Сережа ломал голову. Он знал, что Владимир Николаевич будет огорчен его неуспехами, – этого было достаточно, чтобы ничего не говорить и попытаться выкарабкаться самому.
Но когда он начинал немножко подгонять и разбираться в одном предмете, его вызывали по другому, и в классном журнале появлялась новая двойка.
Сережа был похож на человека, идущего в неподходящей обуви по мокрой и грязной дороге.
Сначала человек ступает осторожно, не желая промочить ноги, обходит лужи или перепрыгивает их.
Но вот холодная сырость проникла в носок правого башмака, еще неверное движение – нога становится совсем, до самой щиколотки, мокрой. Теперь уже не так жалко промочить и левую.
Человек перестает беречься и шагает уже прямо в глубокие лужи, не обходя их и чувствуя даже некоторое грустное удовлетворение при мысли о том, как сильно он промок, как ему холодно и нехорошо.
Получив сразу три плохие отметки за три контрольные работы, Сережа перестал защищаться и шагал по своим двойкам, уже не разбирая дороги, со спокойствием отчаяния.
Четверка за русский диктант не могла явиться даже слабым утешением.
И вот настал день, когда классный руководитель Павел Петрович отозвал Сережу после уроков и сказал ему, глядя добрыми глазами через круглые очки:
– Послушай, Волков, с такими знаниями мы не можем оставить тебя в шестом классе. Придется перевести в пятый. Мне нужно поговорить с твоими родителями. С кем ты живешь?
Сережа назвал.
– Это твой родственник? Попроси его прийти в школу.
Сережа ответил, бледнея:
– Павел Петрович, он не может прийти.
– В таком случае я напишу ему записку, зайдем в учительскую, передашь ему сегодня же.
Павел Петрович говорил еще что-то, но Сережа уже не слышал ни слова.
Он вышел из пустой уже и гулкой школы с конвертом в руках, не пряча его ни в портфель, ни в карман.
Зачем, зачем он остался с Владимиром Николаевичем? Зачем не уехал в детский дом?..
Самые черные мысли теснились в его голове. Но за всю дорогу Сережа ни разу не подумал, что он может не передать письмо или уничтожить его. Письмо было адресовано Владимиру Николаевичу, значит, было уже как бы его собственностью.
XXXII
Владимир сидел за письменным столом и рассеянно перелистывал журнал.
– Что-то ты сегодня поздно… Сергей, случилось что-нибудь у тебя?
Сережа положил перед ним конверт и выговорил с трудом:
– Это вам от классного руководителя.
Владимир пробежал письмо.
– Так… Неприятная история, Сергей. Ты знаешь, о чем он пишет? С отметками у тебя нехорошо. Двойки есть. Много?
– Много.
– Он просит меня прийти в школу поговорить.
– Я уже сказал ему, что вы не можете прийти.
– А кто тебя просил за меня командовать? Почему это я не могу прийти? Вот что, милый друг, выкладывай начистоту. По каким предметам у тебя двойки?
Сережа отвечал, не опуская глаз, но с пылающими от позора щеками:
– По алгебре за контрольную и у доски, по геометрии за контрольную, по немецкому за контрольную, по географии две и по истории две.
– Однако здорово! Как же ты их успел нахватать за такое короткое время? Ты как прежде-то учился, Сережка, в пятом классе?
– Хорошо и отлично.
– Хорошо и отлично. Ну, тогда это еще полбеды. Только вот что для меня непонятно: ведь не все же эти двойки ты сегодня и вчера получил. Значит, и раньше были?
– И вчера, и сегодня, и раньше…
– Так почему же ты мне раньше об этом не говорил, чудак? Сергей, я тебя спрашиваю, нужно что-нибудь ответить.
– Я думал… что вам это будет неприятно.
– Ах, вот как! Ты мне только о своем приятном хочешь рассказывать? Давай все-таки в этом неприятном деле разберемся. Алгебра, геометрия… Как это все произошло?
– Они объясняли без меня. Я не понимаю, как решать задачи.
– Так. Ну, немецкий тоже пропустил – не понимаешь. Но почему у тебя история и география с двойками? Ведь тут и понимать нечего – прочел и рассказывай.
– У меня по истории и географии учебников нет.
– Без учебников учиться нельзя – это ясно. А в школе не дают?
– Давали, да ведь я опоздал к началу занятий.
– Спросил бы у ребят!
– Я еще никого не знаю.
– Тяжелый случай… Постой, Сергей, ты же покупал учебники, приносил что-то. Или не было истории и географии? Стой, можешь не отвечать! По глазам все вижу. Дорого показалось или денег у тебя не хватило? Так? Знаешь, Сергей, это… это… это самое настоящее свинство!
Владимир достал бумажник и с такой стремительностью вытащил из него сторублевку, что целый водопад адресов и писем извергнулся ему на колени, а оттуда на пол.
– Держи, Сергей. Послезавтра – воскресенье, обойдешь все магазины, без учебников можешь не возвращаться!
– Спасибо, – сказал Сережа и стал собирать записки на полу.
– При чем тут спасибо? Какие могут быть между нами «спасибо»? Я тебе говорил спасибо, когда ты меня от смерти спас?.. Ладно, не переживай, я не очень обиделся. Но если ты мне еще когда-нибудь такую штуку устроишь, я обижусь уже по-настоящему, изо всех сил! Все собрал? Ну вот, спасибо тебе. – Он засмеялся.
Весь вечер они сидели за письменным столом. Решали задачи по алгебре, и не только заданные, но и все соседние. Истории и географии в субботу не было. Зато были физика и русский.
Засыпая, Сережа чувствовал, что знает уроки замечательно, и мечтал только об одном: чтобы его спросили завтра.
XXXIII
Появление Владимира в школьном коридоре во время перемены было целым событием для ребят. Его обступили. Узнав, что он разыскивает классного руководителя шестого класса, несколько человек сейчас же бросились на поиски. Другие остались и говорили наперебой:
– Вы подождите, ребята найдут!
– Вы никуда не ходите!
– Посидите здесь!
– Павел Петрович в учительской!
– Нет, он в канцелярию пошел!
– Да вам кого? Павла Петровича? Из шестого «А»?
– Вот уж этого, дорогие товарищи, я не знаю. Его фамилия Шмелев.
Но оказалось, что ребята фамилии не знают, а только имя и отчество.
– Ничего, они вам всех найдут! Вы про кого узнать?
– Про Сережу Волкова.
Беловолосый мальчуган восторженно заулыбался:
– Так это же в нашем классе! Новенький! Значит, вам Павла Петровича. Он у седьмых, там была геометрия.
Несколько человек побежало к седьмым, а беловолосый мальчик помчался в свой класс сообщить новость Сереже.
Седьмой класс был совсем близко, поэтому ребята могли только повторять трагическим шепотом:
– Павел Петрович! Вас спрашивают! – не вдаваясь в подробности.
Учитель увидел Владимира, окруженного ребятами, и в глубине коридора – отчаянные Сережины глаза.
Задребезжал звонок. Ребята стали входить в классы.
– Пройдемте в учительскую, – сказал Павел Петрович. – Я сейчас свободен, и мы можем поговорить. А впрочем, вот пустой класс. Зайдемте сюда.
Они вошли. Павел Петрович показал на стул около учительского стола:
– Садитесь, пожалуйста.
Владимир увидел, что стул только один и что если он займет его, положение учителя станет затруднительным.
Ребята, знавшие Павла Петровича до войны, утверждали, что он похудел вдвое, но и теперь он не мог бы поместиться на скамейке школьной парты.
Владимир сел на парту сверху и сказал:
– Если позволите, я сяду сюда, пока ваши мальчишки не видят. Мне удобнее на высоком.
– Спасибо вам, что вы пришли, – начал учитель. – Вы отец Сережи Волкова? Впрочем, я говорю глупости, у вас не может быть такого большого сына.
– Не родной отец, – ответил Владимир, – но это неважно. Дело не в родстве. Впрочем, родительского опыта у меня нет, и отсюда все школьные беды моего большого сына. Мне бы нужно было прийти к вам сразу, с самого начала, посоветоваться и рассказать про мальчика.
XXXIV
За Сережиной спиной шептались ребята.
Что Владимир был важным командиром, это было ясно, но кем именно? Спорили о том, какие у него ордена и сколько: определить по ленточкам умеет не всякий. Спрашивать Сережу, конечно, не стали: понимали, что ему не до того.
Когда Сережа увидел Владимира, стоявшего в коридоре очень прямо и говорившего что-то ребятам с обычным своим спокойным и самоуверенным видом, он понимал, что это только внешность. Он видел, что Владимир уже устал от лестницы на третий этаж, от всех этих почтительных и любопытных взглядов.
По тому, как напрягалась рука, сжимавшая костыль, Сережа видел, как трудно этой же рукой придерживать фуражку. И зачем снял?
Теперь в соседней комнате классный руководитель говорит Владимиру Николаевичу, что Сережу придется перевести в пятый класс.
– Волков!
Сережа не сразу понял, почему его позвали. Ах да, это урок физики. Об этой минуте Сережа мечтал со вчерашнего дня. Он так хорошо выучил физику. Он уложил все прочитанное, все формулы в какую-то коробочку у себя в голове и знал, что нужно будет только вынимать спокойно одно за другим перед всем классом, перед учителем, рассказывать, писать на доске.
Но теперь он чувствовал, что коробочка пуста. Вообще он не мог думать сейчас о физике. На несколько шагов он стал ближе к комнате, в которой сидит Владимир Николаевич.
Пожалуй, если бы тише было в классе, можно было бы услышать, о чем там говорят.
А в классе становилось все более и более шумно.








