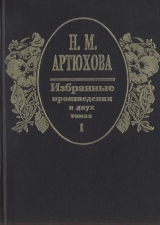
Текст книги "Избранные произведения в двух томах: том I"
Автор книги: Нина Артюхова
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
– Какие у вас рукавицы интересные! – сказал Сережа. – Где вы купили такие?
Губы Владимира как-то сами растянулись в улыбку.
– А может быть, я их не купил?.. – Он прибавил с важностью: – Это подарок.
– Они у вас совсем новые.
– Я их почти не надевал: тепло еще было. У меня были другие, будничные.
– А разве сегодня праздник?
– Праздник не праздник, а дни у меня будут торжественные. – Он оглянулся: – Ну, мои поехали. До свиданья, синеглазый. Желаю тебе, чтобы все было хорошо.
Он подобрал поводья и догнал своих спутников около поворота дороги, даже не поднимая лошадь в галоп.
Они уехали не на восток, куда уходили наши части, а почти прямо на запад, в ту сторону, откуда был слышен взрыв.
XVI
Сережа стоял на опушке леса, около заброшенного сарая. Он пришел сюда с мешком за сеном для Альбы.
С тех пор как он встретил Владимира Николаевича, прошло два дня.
А мамы все не было.
Ночью Сережа часто просыпался и вскакивал: ему казалось, что он слышит под окошком мамины шаги. Когда он отлучался ненадолго днем, он подходил к дому с надеждой: а вдруг мама уже вернулась и ждет его?..
Иван Кузьмич каждый вечер заявлял, что они поедут завтра. Но уж на этот раз как будто было решено окончательно ехать завтра.
Сережа стоял лицом к лесу. Ухо уже привыкло к звуку выстрелов, но было странно думать, что фронт так близко, прямо за этим большим лесом, на другой его опушке. Может быть, бой идет сейчас именно в том месте, на просеке около реки, куда они ходили за грибами летом.
Неужели там, на другом берегу реки, немцы?
Наши войска отступили и занимали теперь укрепленные позиции у Белькова и Семенова, чтобы не пустить немцев в город.
Между Дубровкой и немцами оставалась только часть, которой командовал Владимир Николаевич. Она должна была задерживать немцев как можно дольше, чтобы дать возможность другим спокойно отойти, перегруппироваться и укрепиться на новом месте.
Два дня шли бои у реки. Немцы по нескольку раз в день бросались в атаку, но были отбиты.
О боях Сережа узнал от раненого красноармейца, проходившего утром через деревню. Красноармеец прибавил с гордостью, что майор Курагин – это такой командир, что если ему приказано задерживать, он и будет задерживать, не отступит…
«Потому он и сказал тогда, что дни у него будут торжественные! Надел свои парадные рукавицы и уехал…»
Сережа смотрел на зимний, сквозистый лес. Если бы можно было увидеть, что делается там, за лесом, у реки…
Резкий, нарастающий гул и свист. Немецкий самолет с черной свастикой пролетал низко над деревьями. Самолет уже не был виден, когда Сережа услышал разрывы бомб и треск пулемета.
Совсем близко, где-то здесь, в лесу… Взрывы толкали землю и воздух. Потом все затихло.
Сережа хотел идти домой, но вспомнил, зачем он пришел, набрал сена в сарае и вытащил мешок на дорогу. Перед тем как закинуть его себе на спину, он еще раз обернулся в сторону леса.
Что-то темное мелькало между деревьями и приближалось очень быстро. Кто-то скакал на лошади и не по дороге, кажется, а просто так. Вот на минуту скрылся за частым кустарником… И когда выехал на опушку, Сережа узнал всадника и побежал к нему.
XVII
По-видимому, лошадь скакала сгоряча. Теперь было заметно, что она хромает: она замедлила шаг, припадая на переднюю ногу, и наконец остановилась.
Яркие красные пятна на снегу…
– Владимир Николаевич!
Он почти лежал на шее лошади. Поднял голову и смотрел на Сережу не узнавая. Лицо его было какое-то растерянное и бледное, и заметно дрожал подбородок.
– Ты что здесь делаешь? – спросил он удивленно.
– Владимир Николаевич, вы куда едете?
– Зацепило меня… Здесь, в овражке, наши санитары… были! – У него сильнее задрожал подбородок. – Ничего там теперь не осталось!.. Лошадь понесла, не смог с ней справиться.
Он качнулся, хватаясь левой рукой за гриву лошади.
– Вы сильно ранены?
– Достаточно… Мне еще сейчас добавило. Постой, куда же я еду? Это Дубровка там?
– Да, да!
Сережа взял лошадь под уздцы. Она сделала несколько шагов по направлению к деревне, хромая все больше и больше.
– Владимир Николаевич, она не дойдет до деревни!
Сережа огляделся.
– Давайте хотя бы до сарая дойдем… Здесь сарай в лесу, на опушке… Совсем близко… Владимир Николаевич!
– Сарай? Ага, хорошо…
Сережа тянул, подталкивал, понукал лошадь. Она чуть не упала, переступая порог, и остановилась, вся дрожа, посредине сарая.
– Вот теперь можно слезать.
– Слезть не смогу. Смогу только упасть. И потеряю сознание. Учти. До чего ж падать высоко!..
Он зажмурился.
Сережа взбил высокой копной кучу сена, лежавшую в углу, с трудом подвел к ней лошадь.
– Сними все, что на мне навешано… Стремя… не могу шевельнуть ногами.
– Вы куда ранены?
Владимир безнадежно махнул рукой:
– Всюду… Налево нужно слезать.
Упав на рыхлое сено, охнул и закрыл глаза.
Сережа разровнял и примял сено кругом него. Боясь, что лошадь упадет, он вывел ее из сарая. Она тут же свалилась и захрипела.
Когда Сережа вернулся, Владимир спросил сквозь стиснутые зубы:
– Что там с ней?
– Она упала, бьется и хрипит. Она еще в бок ранена.
– Достань наган.
Сережа, недоумевая, вынул револьвер из кобуры.
– Стрелять умеешь?
– Умею.
– Стреляй в ухо.
Сережа не двинулся с места. Владимир досадливо дернул щекой.
– Ну, что ты на меня смотришь, чудак? Я еще в здравом уме. Лошадь пойди пристрели!
– Так давайте я сначала посмотрю, что с вами…
– Ты со мной дольше провозишься. Что же она будет мучиться?.. А ну пойди, сделай быстро!
Выстрел раздался ровно через столько времени, сколько потребовалось, чтобы погладить лошадь по шее и сказать ей несколько ободряющих слов.
Сережа положил револьвер на порог и стал тщательно мыть руки снегом. И в рот напихал полную горсть, чтобы хоть немного успокоиться. Он вернулся в сарай, вытирая платком руки.
Владимир сказал:
– Спасибо. Я вижу, ты настоящий мужчина. И руки вымыл… Значит… санитарному делу… обучался… Что такое индивидуальный пакет… знаешь?
– Знаю.
– Достань в сумке. Не хватит этого. Там еще полотенце… Ножик в кармане. Разрежь вдоль… Еще раз… Закатай. Положи все это там. Разрежь рукав.
Сережа осторожно разрезал рукав и отогнул его. И только теперь со всей ясностью понял, какая большая разница: перевязывать здоровую лапу школьному товарищу, который при этом скалит зубы, или увидеть вот такое…
Он почувствовал мгновенную дурноту и отвернулся.
– Э, нет, – сказал Владимир резко, – я так не играю! Начал, изволь доканчивать, не падать в обморок! А то не нужно было и начинать!
Сережа тихо ответил:
– Я сейчас сделаю… – крепко закусил губы и стал бинтовать. – Так хорошо? Не туго?
– Очень хорошо. Молодец. Теперь разрежь сапог… Правый. А потом вот здесь посмотри.
XVII
Сережа завязал последний узел последнего бинта и низко нагнулся к лицу Владимира.
– Ну как?
Тот открыл глаза.
– Очень хорошо. Просто замечательно!
– Владимир Николаевич, я сейчас схожу в деревню и очень скоро вернусь.
– Ступай, ступай. Положи наган поближе… чтобы я мог достать.
Зачем вам наган?
– Для порядка.
Он пошарил рукой около себя и спросил тревожно:
– Где моя рукавица?
– Да их не было у вас. Должно быть, вы их уронили.
– Нет, нет, одна осталась. Я в карман сунул. Будь другом, поищи. Тут где-нибудь.
Сережа разрывал сено, обошел весь сарай – рукавицы не было.
Владимир жалобно повторял:
– Поищи, пожалуйста… Может быть, вот здесь. А около двери смотрел?
Потом сказал огорченно:
– Ладно. Ступай. Все равно.
Сережа вышел из сарая и сейчас же вернулся:
– Вот она. Там в снегу лежала.
Он отряхнул рукавицу и хотел надеть ее Владимиру на здоровую руку.
– Нет, нет, я руку в карман… не будет холодно. Ты мне ее… под голову положи. Вот так. – Он шумно вздохнул. – Просто замечательно! Ну, беги, беги.
XIX
Дверь сарая скрипнула и отворилась. Вошел седой карлик, уродливый, бородатый, одетый во что-то белое, меховое. Он приближался в полутьме, шуршал по сену, переступая маленькими узкими ногами.
Когда Владимир заметил рога на голове карлика, он закрыл глаза и тоскливо подумал:
«Плохо дело! Уже начинаю бредить».
Шелестело сухое сено. Кто-то ходил совсем рядом… Много маленьких ног. Шептались.
Владимир почувствовал на своей щеке чье-то теплое дыхание и услышал слова:
– Спит.
– Нет, проснулся, – сказал другой голос.
Владимир увидел Федю, Любочку и Нюрку, а за ними белую козу, которую он принял за карлика. У него уже окончательно все перемешалось в голове, и он сказал:
– Очень хорошо. Сейчас придет Катюшка, и мы пойдем за земляникой.
Нюрка и Любочка засмеялись.
Сережа подошел и положил руку ему на лоб.
– Аня, если бы ты подержала так свою лапку, было бы гораздо легче.
Девочки не смеялись больше, они испуганно переглянулись.
– …Небо такое синее… Странно, ведь лето? Почему такая холодная земля?.. Что это за шум?.. Опять танки?.. Идут по нашей земле!
Сережа достал салфетку из принесенного узла, насыпал в нее снега, завязал и положил Владимиру на лоб.
– Вот видишь, как хорошо. Просто замечательно. Аня, очень не хочется умирать. Хочется дожить… дожить, самому увидеть, как прогоним их, как не будет их больше здесь, на нашей земле!
Сережа потрогал его за плечо.
– Владимир Николаевич, вы меня слышите?
– Я очень хорошо тебя слышу.
– Скажите, наши войска сейчас в Семенове и в Белькове?
– Да. Почему ты спрашиваешь?
– Я сейчас пойду в Бельково.
– Зачем?
– Рассказать про вас. В деревне никого не осталось. Никто вам помочь не может. Или, может быть, пройти в вашу часть? Это ближе.
– Глупости какие! Слышишь, что там делается? Тебя убьют.
– Тогда пойду в Бельково.
– Как ты можешь уйти и оставить сестренку? Зачем ты ее сюда привел?
– Она побудет с вами, и Федя, и Нюрка тоже. Их мать за санками ушла, отец больной лежит.
– А при чем здесь коза?
– Я же не мог ее одну оставить!
– Понимаю. Я буду защищать их. Они будут защищать меня. У них живая сила, у меня техника. Где моя техника? – он нащупал кобуру. – Ага, вот она! – И продолжал, передохнув немного: – Мне трудно говорить. Граждане, разойдитесь по домам. Уведите это домашнее животное. Если будут меня искать, сообщите, что я здесь, – и довольно об этом.
– Владимир Николаевич, ведь вы бы сами никого так не оставили. Зачем же вы нам это говорите?
– Обиделся! Мама тебе что скажет, если уйдешь?
– Я свою маму знаю и знаю, что она скажет.
– Не могу с тобой спорить… Имей в виду… наши там продержатся день-два – не больше.
Сережа стал разворачивать узел.
– Вы есть хотите? Или молока? Мы принесли в котелке горячей картошки.
– Есть не хочу, а молока пожалуйста. Очень пить хочется.
Сережа напоил его, подложил ему под голову принесенную подушку. Заметив беспокойный взгляд Владимира, пристроил туда же рукавицу. Потом прикрыл одеялом и строго сказал ребятам:
– Смотрите, не заморозьте. Владимир Николаевич, если станет холодно ночью, пускай все сядут рядом с вами и вот так этим большим одеялом закроются. Можно и Альбу рядом положить, она очень теплая. Вы не бойтесь, она вас не толкнет и не ушибет. Она теперь ко всему привыкла и стала очень смирная.
– Да я ее не боюсь.
– Если вам что-нибудь нужно, вы им скажите только, они все сделают.
Федя сказал, нахмурившись:
– Да уж иди ты, сделаем. Не беспокойся.
Владимир пошарил рукой на груди.
– Постой… Сережа, ты вынул у меня из кармана?..
– Здесь, здесь, в сумке, я вынул, когда перевязку вам делал.
Сережа взял фотографию, письмо и маленькую красную книжечку.
Владимир протянул руку и повелительно сказал:
– Дай сюда!
– Владимир Николаевич, может быть, спрятать партбилет? Вы же знаете, как они…
– Дай сюда, тебе говорят!
Он оперся на локоть и хотел приподняться.
– Лежите, лежите! – испуганно крикнул Сережа. – Вот, вот! Все здесь! Я вам в карман кладу.
Владимир положил руку на грудь и закрыл глаза.
Сережа поправил упавшую салфетку со снегом.
– Вам оставить это?.. Владимир Николаевич, вам сейчас очень нехорошо?
– Ведь если я скажу: «Хорошо»… Ты же мне… не поверишь. Скажем – средне. Думаю, бывает гораздо хуже. Имей в виду… шоссе минировано.
– Я знаю. Я пойду через поле на Городищи.
Сережа медлил, его лицо было совсем близко.
Владимир сморщил губы в ласковую и немного смущенную улыбку.
– Я вижу, милый друг, тебе поцеловаться хочется. Я ничего не имею против!
XX
Когда идешь ночью в поле зимой, нужно искать дорогу ногами. Совсем темно не бывает, потому что снег. Но эта беловатая туманная муть хуже темноты. Земля и небо все такое одинаковое и неясное. Не нужно смотреть близко перед собой на дорогу, не нужно оглядываться, нужно верить ногам: пускай сами ищут твердое и идут прямо. Может быть, это поле не такое страшное, как лес у реки, в котором даже ночью не умолкают звуки боя. Но здесь так пустынно, холодно и одиноко…
Белые вихри поземки налетали сухими, острыми волнами, все огромное поле звенело колючим шелестом снега.
Ветер дул иногда с такой силой, что казалось – ничего на тебе не надето. Ветер входил прямо в грудь и выходил в спину.
Первые кустики должны быть слева. Когда они покажутся, будет пройдена четверть поля…
Сколько может быть времени сейчас?
Сережа стал считать, сколько он прошел километров.
– До линии – один. От линии до леса – два. – Сережа загнул три пальца внутри варежки: Лесом три. – Он перешел на другую руку. – Полем… – Но ведь неизвестно, сколько он прошел полем, раз не видно еще первых кустиков.
Почему-то все время кажется, что дорога правее, хочется – просто так и тянет – идти вправо. Но ведь ноги же чувствуют твердое, значит, он идет правильно.
Странно все-таки: когда идешь, кажется, что каждый шаг сделать очень трудно. А потом делаешь двадцать шагов и сто шагов, и вот уже целый километр прошел… Нужно только переставлять ноги и не думать о них.
Не думать о ногах можно. Но почему нельзя совсем не думать? Хорошо ли он сделал, что оставил Любочку? А вдруг он собьется с пути и замерзнет в поле? Или залетит сюда немецкий снаряд и убьет его?
Но ведь Любочка не одна. Там Нюрка и Федя, их мать и отец, правда, он болен. Если Сережа не вернется, Любочка завтра пойдет с ними. До Зимницкого совхоза дойдут пешком. А там Ивана Кузьмича обещали посадить на грузовик и подвезти в город. Иван Кузьмич у них работает, его там все знают.
Приедут в город… Это с Сережей или без Сережи? Конечно, все вместе, Сережа уже вернется в Дубровку.
Приедут в город. Там сейчас же нужно будет оставить где-нибудь Любочку и бежать на мамин завод, узнать, почему она так задержалась.
А если на заводе скажут, что мамы там нет, что она уехала в Дубровку? Может быть, именно в тот день, когда бомбили пассажирский поезд?
Говорили, что раненых тогда увезли в Михайловскую больницу. Убитых… Довольно, больше думать об этом нельзя!..
Вот первые кустики замаячили слева. Они двигаются вместе с Сережей, потом отстают. Опять все одинаковое, белое, мутное. Даже рябит в глазах…
Что они делают сейчас там, в сарае?
Как изменилось лицо Владимира Николаевича за эти несколько часов! Неужели он умрет? Нет, не может быть. Его будут лечить, сделают переливание крови.
Берут ли кровь у детей?
Хорошо бы, если бы Сережина кровь подходила для мамы, для Любочки и для Владимира Николаевича.
Почему, когда умирает веселый человек, его особенно жалко?
Почему нельзя поменяться: умереть одному человеку вместо другого? Хорошо бы умереть два раза: один раз вместо мамы и другой раз вместо Владимира Николаевича.
Но если Сережа умрет, с кем будет оставаться Любочка, когда мама на работе? Ничего, мама может жить в городе, а Любочка будет ходить в детский сад.
Вторые кустики должны быть справа. Они идут из белесого мрака Сереже навстречу, они подходят совсем близко к дороге.
Они похожи на человечков, которых рисует Любочка: прямые, черные руки подняты кверху, и на каждой руке по пять растопыренных пальцев – и даже больше.
Они отступают, их уже не видно.
Где-то здесь, на дороге, должны быть противотанковые ямы… Вот первая…
Не оступиться бы. Яма не глубока, но можно ушибить ногу, будет еще труднее идти.
Почему так трудно вытаскивать ноги из рыхлого сугроба?
Слабость какая-то…
Глупо, что он не поел перед отходом. Ведь ребята ели в сарае, нарочно принесли горячей картошки и молока. Нужно было поужинать с ними. Ведь Сережа даже пообедать сегодня не успел. Если бы он стал есть, никто не подумал бы, что он жадный. Нужно было поесть, чтобы легче и быстрее дойти. Не успел, забыл об этом, поторопился.
Несколько минут Сережа мог думать только о чугуне с горячей картошкой. Нужно было хотя бы выпить молока. Нужно было взять с собой хлеба.
Ветер задул сильнее. Сейчас начнется метель.
Ветер стоит перед ним колючей, плотной стеной. Через нее нужно пробиваться всем телом, головой, руками. Это уже не снег, поднятый с земли ветром, этот снег падает с неба.
Падает? Нет, он стремительно несется прямо в лицо, в рот, не дает смотреть глазам.
Да и зачем смотреть? Все равно во всем мире ничего не осталось, кроме снега и ветра.
Снег. Ветер. И еще – Сережа, который должен идти им навстречу. Если все время передвигать ногами, когда-нибудь он дойдет…
Слева становится мягко ступать. Нужно идти правее. Откуда эта гора? Почему так трудно идти?
Нужно посмотреть. Придется открыть глаза…
Могила, приготовленная для кого-то. Крутой холмик земли. Ах да, это противотанковая яма!
Можно обойти справа. Все равно, дорогу можно найти потом.
А все-таки дороги нет. Снег рыхлый и вязкий, он придерживает валенок при каждом шаге и не дает поднять его. Неужели так трудно поднять ногу?
Теперь нужно идти зигзагами, чтобы ноги сами нашли твердое. А если они не найдут? Хорошо, что ветер переменился. Легче стало дышать. Странно… чьи-то следы.
Кто-то прошел здесь совсем недавно – следы только чуть присыпаны снегом.
Нужно наклониться и пощупать их руками.
А может быть, это мама идет пешком в Дубровку?
Нет, мама пошла бы другой дорогой. Ведь это же дорога в Бельково.
Следы делают полный круг. Если идти так, никуда не придешь. Это его собственные следы.
Теперь нужно подумать, нужно хорошенько подумать. Ветер дует в спину, помогает идти.
Впереди, далеко-далеко, тоже стреляют. Почему стреляют в Белькове? Неужели там немцы? Парашютный десант?
Глупости! Десант в такую погоду?
Сережа стоит и слушает, потом заставляет себя опять повернуться лицом к ветру.
В конце концов, не так важно найти дорогу. Ведь это еще не настоящая зима. Снег еще неглубокий. Можно идти прямо полем. Трудно, конечно. Но главное – не потерять направления…
Все время идти против ветра и чтобы стреляли сзади.
Опять навстречу ему Любочкины нарисованные человечки. Третьи кустики? Если это они, то совсем близко река, а когда поднимешься на высокий берег, то в мирное время можно уже видеть огни Белькова. Теперь огней нет.
Черные нарисованные человечки толпятся и справа, и слева. Они хватают Сережу за полы его полушубка, они трещат и хрустят растопыренными пальцами.
Валенки тонут в мягком, рыхлом снегу. Как здесь глубоко, человечки ловят и задерживают снег своими черными ножками.
Нужно выбираться отсюда. Почему теперь с каждым шагом он спускается все ниже и ниже?
Яма какая-нибудь?
Но почему такая большая?
Ветер как-то смягчается и затихает.
И снег теперь не такой частый и колючий. Можно немного осмотреться.
Все понятно. Это не третьи кустики. Это кустарник на склоне оврага. Сережа спускается вниз к реке.
О том, чтобы искать мост, нечего и думать.
Но ведь река давно уже стала, ее можно перейти в любом месте.
Река в Белькове меньше, чем в Дубровке. Тем легче будет ее перейти.
Хорошо бы найти палку и постучать по льду, прежде чем переходить.
Сережа хочет отломить ветку, но черный человечек сопротивляется и борется с ним, хлещет по лицу, обсыпает руки снегом.
Все равно, он перейдет так. Лед крепкий, он должен быть крепким.
Мутно виднеется под ногами широкий завиток снега, нависающий над берегом.
Сережа сбивает его валенком и, придерживаясь руками за кусты, становится на лед. Топает ногой.
Ну, разумеется, лед совсем твердый, можно идти.
Человечки не сердятся больше. Теперь это дружеские руки, они поддерживают и охраняют его. Но приходится оставить их, идти одному.
Ничего. Лед твердый и гладкий, немного запорошенный снегом. Вот уже середина реки. Подходить к тому берегу нужно очень осторожно. Он крутой, с круглым поворотом. Почему-то кажется, что в таких местах бывают родники. Даже в сильный мороз река может не замерзнуть.
Что-то темнеет справа. Неужели это вода?
Нужно держаться левее…
Что случилось?
Почему он сделал такой большой шаг? Резкий холод охватывает ногу до самого колена.
Все стало непрочным и мягким. Валенки тяжелеют и наполняются водой.
Тонкие, мутно-белые льдины мягко обламываются одна за другой и с тихим бульканьем погружаются в черную воду.
Сережа ложится на живот и пытается ползти на локтях и коленях.
Это похоже на страшный сон.
Все колеблется под ним, не на что опереться…
XXI
Жарко натопленная русская печь. Мерцающее пламя гильзы освещает бревенчатые стены. Большая высокая кровать с полосатым матрацем.
Над кроватью – картина-коврик. На картине синее небо, голубая река. За рекой – белый дом с белыми колоннами и сине-зеленые деревья. По реке плывут два белых лебедя.
Белые лебеди, кровать с полосатым матрацем да ухваты около печки – это остатки мирной жизни. Все остальное военное.
Автомат на стене. На столе – полевая сумка и развернутая карта. Над картой склонился капитан с черными усами. Огонек колеблется, коптит, по стенам блуждают беспокойные тени.
Из-за перегородки то и дело слышится хриплый, простуженный голос:
– Связь! Связь!
Шаги и стук у двери:
– Товарищ капитан, разрешите доложить: тут парнишка пришел и какого-нибудь начальника спрашивает.
От двери с каким-то стеклянным звоном шагнула маленькая белая фигурка.
Валенки, рукава и полушубок спереди, до самой груди, были гладкие, твердые, ледяные. Плечи и шапка мягкие, пушистые от снега. Мальчик поднял на капитана яркие синие глаза и проговорил, тяжело дыша, останавливаясь после каждого слова:
– Майор… Курагин… тяжело ранен. В сарае. Около Дубровки…
Он огляделся и хотел подойти к печке, но поскользнулся и упал на пол с тем же ледяным стеклянным звоном.
Все подбежали к нему.
– Скорее снимите с него все это! – крикнул капитан.
Мальчик отстранил рукой красноармейцев.
– Я сначала скажу. – Он взял с пола уголек и провел им черту на полу: – Шоссе. Деревня. Лес. Колодец. Сарай – здесь.
Он поставил на полу черный крестик и потерял сознание.
XXII
Сережа сидел на лавке, поджав под себя ноги в больших валенках и завернув длинные рукава гимнастерки. Он был закутан в огромный мохнатый полушубок.
Перед ним стояла дымящаяся паром миска со щами.
Ему хотелось поскорее, как-нибудь помимо рта, вливать в самую свою середку горячую жидкость.
Холод выходил из его тела постепенно, толчками.
Сначала стало тепло внутри, холод и боль от него отступали, сгущаясь, к рукам и ногам.
Когда они остались, наконец, только в самых кончиках пальцев, это было так больно, что хотелось кричать.
И вдруг Сережа почувствовал себя свободным от этой боли.
Пальцы горели, двигались, как живые, можно было не думать, забыть о них.
Боец вынимал ухватом из печки Сережины валенки и осматривал, боясь припалить.
– Все равно не высохнут, товарищ лейтенант.
– Ничего, поедет в этом. А все-таки посуше немножко… Заверни вместе с его вещами. – Лейтенант с румяными щеками и вздернутым мальчишеским носом повернулся к Сереже: – Ты скажи спасибо, что мороз еще не силен, без ног остался бы.
Потом начинал расспрашивать в десятый раз:
Так ты говоришь, тяжело?
– Да, думаю, что очень.
Лейтенант старался утешить себя:
– Здоровый он, может, и обойдется. У нас врач хороший. Сейчас же переливание крови и все такое.
Сережа с благодарностью смотрел на лейтенанта: так хотелось верить, что все обойдется.
– Ведь мы его, Сережа, убитым считали… Вечером сообщили из батальона, что он, раненный, на перевязку поехал, а перевязочный пункт разбомбило… Ординарец и автоматчик, что с ним вместе были, убиты, а майора, сказали, даже тела не нашли, только рукавицу его около воронки – и кровь на ней…
– Товарищ лейтенант, а меня возьмут?
– Как же не возьмут, когда я сам туда еду? Уж я-то тебя не оставлю. Что же ты? Ешь!
– Спасибо, не могу больше.
Лейтенант положил перед ним несколько кусков сахара.
– Не надо, спасибо.
– Как так не надо? Я тебе еще сюда в узел завернул – для сестренки. Ведь вы теперь ниоткуда не получаете? Мыло у вас есть дома?
– Есть.
– Жаль! Я бы тебе дал.
Он наспех пошарил на полке.
– Консервы еще положу. Очень вкусные… Увози ты, Сережа, свою сестренку в город! Ты думаешь, немцы до города дойдут? Ни за что не дойдут. Мы их дальше не пустим. Мы тут укрепились хорошо. В Москву их не пустили, и мы не пустим. Да еще зима начинается. Ты готов?
Он прислушался.
– Это за нами, кажется. Поехали.
Вошел капитан, отряхнул снег с рукавов и шапки. Подозвал к себе лейтенанта и тихо сказал ему:
– Вы там не задерживайтесь: им дан приказ отходить на Бельково.
XXIII
Бледное, желтовато-серое небо. Желтовато-серый утренний снег… Носилки… Бледное лицо, почти такого же цвета, как снег и зимнее небо.
Лейтенант, не стесняясь нисколько, размазывает варежкой слезы на румяных щеках. Любочка крепко держит Сережу за руку: ей страшно, что он уйдет куда-нибудь опять.
– Он все говорил, говорил… Очень много рассказывал. А потом заснул и все молчит… Он спит, Сережа?
Сережа сказал:
– Спит, – и прикоснулся губами к белому лбу.
Лейтенант спросил:
– Сережа, как же ты решил? Не поедешь с нами? Хотя куда же вас потом?
– Нет, нет, ведь мне нужно в город. Мы сейчас все вместе собираемся.
– Ну, прощай! – лейтенант крепко, по-взрослому, стиснул его руку, кивнул Любочке и побежал за носилками.
XXIV
Санки были очень удобные, легкие на ходу, с широкими полозьями, сделанными из двух лыж.
И узел был небольшой. И Любочка была совсем небольшая, хотя и закутанная во все теплое.
Но у Сережи болел каждый мускул, руки и ноги стали тяжелыми, неуклюжими, он не был уверен, сможет ли он вообще без всяких санок дойти до совхоза. Одна надежда, что это только вначале так трудно двигаться, а потом разойдется.
– Любочка, ты сможешь идти пешком? А то давай оставим узел, а ты садись на санки.
Любочка ответила с упреком:
– Что ты, Сережа! Разве можно оставить узел, ведь там моя кукла! Я пойду пешком.
Сережин узел был самый маленький.
Иван Кузьмич, хоть и больной, тащил за собой чуть не целые розвальни.
Федя и Нюрка тоже везли много. Но они были долговязые, неуставшие, здоровые.
Их мать последней вышла из дому, тревожно постояла у крыльца – не забыла ли чего. Поголосила немножко, вспомнив про Марусю, но сразу замолчала, увидев, сколько вещей набрал ее лохматый дед.
– Да ты с ума сошел, старик?!
Но она знала, что он все-таки сделает по-своему, и даже почти на него не шумела.
Она пошла впереди со своими санками, за ней Иван Кузьмич, за ними ребята. Сережа и Любочка шли последними. Альба переступала по снегу и относилась к путешествию с явным неодобрением.
По большой дороге идти было нетрудно, но когда свернули в поле на узкую стежку, запорошенную метелью, санки стали проваливаться в рыхлый снег, все пошли медленнее.
Сереже и Любочке идти было легче всех – по протоптанной дороге. Но когда они прошли полтора или два километра и Сережа увидел, как спотыкается Любочка, он остановился, с решительным видом снял узел и положил его на снег. Сунул туда руку, пошарил, вынул Любочкину куклу.
– На, держи крепче. – И посадил Любочку на санки.
Федя и Нюрка тоже остановились, чтобы передохнуть, и посмотрели друг на друга.
Нюрка большими прыжками промчалась по снегу, огибая Сережины санки, подхватила оставленный узел и молча приладила его к своим вещам. Потом все так же молча и такими же скачками подлетела к Любочке, подхватила ее под мышки и усадила сверху на Федины санки.
– Не упадешь?
Сережа хотел протестовать, но Федя сказал ему:
– Ты сам-то дойди. Посмотри на себя.
Перед совхозом был широкий овраг. Нужно было спуститься в него и перейти. Потом дорога поднималась и некоторое время шла вдоль его высокого края. Когда подходили к оврагу, Нюрка сказала:
– Смотрите, кто-то идет.
По дороге на той стороне шел человек с мешком за плечами. Казалось, что он идет по краю высокой снежной стены. Вся его фигура, даже ноги, четко вырисовывались на фоне неба.
Издали он был совсем игрушечный. Черный на белом, он был похож на маленькие смешные фигурки из мультипликационных фильмов и двигался так же, как они, маленькими, быстрыми шажками.
А когда они перешли ручей и стали подниматься наверх, человек этот, ставший высоким и бородатым бухгалтером совхоза, бежал по склону оврага вниз, им навстречу, размахивал руками и кричал:
– Куда вы идете?! В совхозе немцы!
XXV
«Здравствуй, милый дядя Володя!
Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Как поживает Анечка, если она тебе пишет?
Хорошо, что ты нам теперь пишешь. А то мы про тебя совсем долго ничего не знали.
Первый наконец-то узнал о тебе папа и написал нам. Ну, а письма, сам знаешь, как долго идут. Потом про тебя папе писала твоя сестра, то есть из госпиталя. А папа писал нам про то, что она пишет. Я очень рада, что тебе лучше.
Мы все здоровы. А бабушка все за всех беспокоится, и за тебя тоже. Вот папа писал бабушке, что хорошо, что я с ней, что ребята помогают, когда тяжело. Только от меня какая же помощь! Огород копала совсем плохо. Теперь у нас событие – мы его закончили. Тебе было бы смешно, как мы долго возились, да еще нам помогали. Ты бы это все в один день.
Почему моя будущая тетушка мне совсем не пишет? Ведь я точный адрес ее будущего места не знаю. Знаю только: Свердловск, до востребования, а она мне не отвечает.
Дядя Володя, напиши мне поскорее ее адрес. Мне хочется ей писать, а она – ноль внимания.
Последнее ее письмо было относительно окопов, из Москвы. Она писала, что напрасно дядя Володя думает, что он один все замечательно умеет делать, а другие ничего, что ее окопы тоже вышли замечательные – может быть, именно на ее окопе Гитлер и споткнулся.
Дядя Володя! Она мне очень нравится, да и тебе, должно быть, тоже, а не пишет! А мне ей писать хочется.
И вообще я теперь люблю писать письма.
Ученье кончилось. Бабушка занята. Судачить не с кем. Я читаю интересные книжки и пишу всем родственникам письма. Особенно тебе. С тобой буду болтать больше всего, чтоб тебе не было скучно.
Приедет ли к тебе Анечка? Вот бы ты обрадовался! Хотя теперь трудно. Бабушка сама хотела, да уж очень трудно. Ну, я совсем разъехалась. Больше писать не о чем.
Крепко, крепко тебя целую.
Твоя Катя».
«Здравствуй, милый дядя Володя!
Как ты поживаешь? Как твое здоровье?
Дядя Володя! Ты уж что-то мне очень какое-то даже совсем почти сердитое письмо написал.








