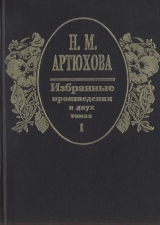
Текст книги "Избранные произведения в двух томах: том I"
Автор книги: Нина Артюхова
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Вы уж лучше мимо бейте, девчонки, – злился Федя. – Опять «кашу» сделаете.
На «колбасе» застряли. Федя заходил то справа, то слева, брал и любимые битки, и нелюбимые – колбаса лежала как заколдованная.
Владимир выбил уже и «пушку», и «бабушку в окошке», и «дедушку на крыше» – ребята еле успевали собирать городки.
– Да-с, – сказал он наконец, – плохо ваше дело! Вам необходимо подкрепление.
Он огляделся и на ветке тополя, около забора, увидел Сережу.
– А ты, синеглазый, играть умеешь?
Сережа вспыхнул.
– Умею.
– Иди сюда, бей по колбасе.
Сережа спрыгнул на траву, выбрал себе две битки потяжелее, сдвинул брови и старательно прицелился. Но он слишком волновался. Первая битка только царапнула колбасу, не сдвинув ее с места. Федя презрительно фыркнул. Сережа прикусил губу.
Свист. Удар. Катя даже не успела провизжать как следует. Колбаса целиком выехала из города. Сережа сложил руки на груди и гордо сказал:
– Ставьте пушку.
– Вот это удар! – воскликнул Владимир. – Замечательно! Не знали мы, кого позвать с самого начала. Это ты сейчас около моста купался?
– Я.
– Молодец, хорошо плаваешь. Вот тебе пушка.
Любочка вдруг пискнула:
– Ой, стадо идет! – и спряталась за калиткой.
По широкой улице с важной неторопливостью шли коровы, белые, рыжие, пестрые.
– Разве можно коров бояться? – сказал Владимир. – Самые добродушные домашние животные.
– Тут одна есть очень бодучая, – сказала Катя, усаживаясь на загородку, чтобы можно было в случае неожиданного нападения бодучей коровы сразу очутиться в саду.
Нюрка, желая показать свою храбрость, махала веткой перед мордой быка, развалившего городки.
– Быка бояться тоже, конечно, не нужно, но так бесцеремонно обращаться с ним я бы не посоветовал.
– А быка этого мы как раз и не боимся, – Катя спрыгнула на землю, – он большой, а совсем нестрашный и очень добрый. Его зовут Васькой.
Все подошли к быку и стали его гладить, только Любочка не решилась.
Бык стоял, наклонив широкую голову, обмахивался хвостом и действительно был какой-то нестрашный.
– Дядя Володя, – вдруг воскликнула Катя, – до чего же он на тебя похож, а ты на него! Просто удивительно!
– С ума сошла! – с негодованием проговорил Федя.
Владимир расхохотался.
– Замечательно! Утром я был похож на кита, а теперь…
– Да нет, вы посмотрите, посмотрите! – волновалась Катя. – Такой большой, широкий, сильный и масть такая же: золотисто-каштановая… У тебя посветлее немножко…
– А ведь правда похож, – согласилась вдруг Нюрка. – И шерсть завитушкой вот здесь на лбу…
– И выражение лица! – продолжала Катя. – Иногда, когда ты вот так голову наклонишь… ну, точь-в-точь!
– Масть! Шерсть! – Владимир смеялся так, что даже не мог гладить быка.
– Да ты не смейся… Ну вот спроси хоть Любочку… Любочка, правда похож?
– Правда, – Любочка вышла из-за калитки: быка, похожего на Владимира Николаевича, она уже не боялась.
Сережа и Федя не знали, что сказать от негодования, видя такое нахальство девочек.
Впрочем, все отлично понимали, что ничего обидного, в сущности, сказано не было: бык был красив, а главное, необыкновенно симпатичен.
В это время пастух щелкнул кнутом, а бабушка крикнула из окошка, что пироги очень хорошо подрумянились и что нужно обедать.
И когда огромный бык неожиданным упругим галопом помчался догонять стало, а Владимир, взяв Катю за руку, легко взбежал на ступеньки крыльца, сходство стало настолько очевидным, что даже мальчики расхохотались.
VII
За обедом папа спросил дядю Володю, как это Анечка отпустила его.
Катя удивилась, что какая-то Анечка может пустить или не пустить такого взрослого мужчину, да еще командира.
Однако Владимир, по-видимому, не нашел в этом ничего странного и даже самодовольно улыбнулся.
– Какая Анечка? – спросила Катя.
Папа ответил:
– Твоя будущая тетушка. Разве ты не знаешь, что дядя Володя женится?
После обеда всем захотелось земляники.
Федя и Нюрка стояли наготове около калитки.
– Пойдем за линию, – сказал Федя.
Нюрка заспорила:
– Нет, на Ивановскую порубку.
– Позовите мне этого синеглазого, чемпиона вашего по городкам, – сказал дядя Володя. – Мне кажется, он поведет именно туда, куда нужно.
Сережа стоял, наклонившись за низеньким забором, и смотрел в щелку. Катя подбежала к нему.
– Сережа, дядя Володя зовет тебя в лес.
Сережа помчался за корзинкой.
– Дядя Володя, – спросила Катя, – какую фотографию ты бабушке показывал? Покажи нам.
Он раскрыл свою записную книжку и подал ей карточку. Он был снят рядом с черненькой девушкой, голова которой не доходила даже до его плеча.
– Это Анечка?
Владимир кивнул утвердительно и сделал какое-то странное движение губами, по-видимому, желая удержать улыбку, но не удержался и все-таки улыбнулся.
– Хорошенькая! – сказала Катя. – Сережа, смотри, это его невеста.
Фотография обошла всех, причем девочки ахали: «Хорошенькая», а мальчики восхищались молча.
– Бровки тоненькие-тоненькие… Смотри, Нюрка!
– У Томки Зазулиной, – сказала Нюрка, – точь-в-точь такие, только она их подбривает, а потом опять отрастают, и некрасиво.
– Дядя Володя, у Анечки брови сами такие или она их подбривает? – спросила Катя.
– Никогда! – с негодованием ответил Владимир. Он поспешно спрятал фотографию и сказал: – Пошли. Веди нас, Сережа, а то мы договоримся до того, что я начну бодаться!
– Замечай дорогу, – шептала Нюра Феде, когда они вошли в лес. – Теперь будем знать, куда он ходит.
Сережа раздвигал руками траву около пней и взволнованно говорил:
– Я вам еще одно место покажу. Вот здесь тоже очень спелая!
Было воскресенье, Сережина мама была дома и доила козу сама. Сережа мог идти куда хотел и не спешил возвращаться. Вечером купались все вместе и опять играли в городки.
Никто за весь день ни разу не назвал Сережу ни дояркой, ни козодоем.
VIII
А в понедельник Владимир уезжал в Москву с поездом двенадцать пятьдесят.
После завтрака он вышел совсем одетым, в гимнастерке, с орденами, и сел на скамейке в саду.
Ребята окружили его. Катя и Нюра сели рядом с ним, а Сережа и Федя на траве.
Катя поправила перевернувшуюся медаль, чтобы всем была видна надпись «За отвагу», потому что с другой стороны было неинтересно. Сережа смотрел на Владимира влюбленными глазами.
– Владимир Николаевич, расскажите, за что вы получили это.
Владимир подумал и стал рассказывать.
А день был такой жаркий и спокойный. Странно было слушать рассказ о походе в морозную ночь, о холоде, смерти, подвигах и страданиях.
И вдруг со стороны Сережиного дома послышался голос Любочки, пронзительный, как свисток:
– Се-ре-жа! Две-над-цать ча-сов!
Сережа вскочил, будто его ударили.
– Знаю! – крикнул он и покраснел так, что Катя подумала: заплачет. Но он не заплакал.
Катя догнала его около забора и схватила за руку.
– Сережа, – зашептала она, – дядя Володя уедет через полчаса… Не уходи. Ведь ты потом можешь.
Сережа отдернул руку.
– Не твое дело!
Катя медленно вернулась на свое место.
– Куда Сережа побежал? – удивился Владимир. – Вы почему смеетесь?
Федя и Нюрка ничего не ответили.
– С этим мальчиком, – сказала Катя, – с Сережей, никто здесь не водится, и все его дразнят. Это уж ради твоего приезда с ним играли.
– Отчего же никто не водится? По-моему, хороший парень.
– Его мать уезжает на целый день, а у них, ты видел, белая коза, Альба. Так он эту козу доит.
– Козу доит? Это любопытно. Ну и что?
– Ну и дразнят его дояркой и козодоем.
– Козодой – это она придумала, – Нюра показала на Катю, – а мы – доярку.
– Идет, – сказала Катя. – И как ему не стыдно, правда, дядя Володя! Мужчина все-таки. Смотри, фартуком подвязался, будто какая-нибудь тетка-молочница.
Катя знала, что Сережа мог обойти кругом дома и войти в сарай незаметно, но он прошел прямо, своей обычной дорогой, вдоль забора, совсем близко от них. А лицо у него было как тогда, с крапивой, когда он сказал: «Мне не больно».
Владимир взглянул на часы и встал.
– Вот что, ребята, у меня есть еще полчаса до поезда. Пойдемте в сарай, посмотрим, как он козу доит.
Катя испуганно побежала за ним.
– Дядя Володя! Не ходи, не надо! Его уж и так все изводят, прохода не дают!
Но дядя Володя, не слушая ее, уже перешагивал через забор и открывал дверь сарая.
Сережа услышал шаги и закричал отчаянным тонким голосом:
– Уйдите!
Он обернулся.
– Владимир Николаевич, я не вам! Я не знал, что это вы, я думал, что это они!..
Владимир ответил очень спокойно:
– Они тоже здесь. Можно нам войти?.. Замечательная коза, породистая, – он погладил Альбу. – Вот что, Сережа, у меня к тебе просьба. Кашу варить я умею и стирать умею. Даже пуговицы пришивать давно научился. А вот козу доить ни разу не пробовал. Поучи меня, хорошо?
Сережа смотрел на него, пораженный, не зная, серьезно он говорит или это какое-нибудь новое издевательство.
– Так как же? Я тебя вчера кролем плавать учил, а ты меня доить научи.
– Владимир Николаевич, я боюсь, Альба вас не послушается.
Меня не послушается? Что ты, что ты, милый друг! Меня целая рота слушается, а ты говоришь – коза!
Сережа сказал уже деловым тоном:
– Если хотите доить, вам нужно будет вымыть руки.
– Есть вымыть руки! Катюша, неси полотенце.
– Возьмите мое.
Владимир старательно вытирал пальцы.
– Дядя Володя, – откашлявшись, проговорила Катя, – ты так и будешь в этой гимнастерке? – Она посмотрела на ордена. – Ведь ты запачкаешься!
– Ничего, теперь уже некогда переодеваться. Мне Сережа фартук даст.
– Меня Альба сначала не слушалась, – сказал Сережа. – Она привыкла, что ее доили женщины. Пришлось надевать мамин фартук и косынку. Теперь она не капризничает.
– Молодец. Маскировка. Военная хитрость.
Тесемки фартука завязались только на талии, а верхние на спине не сошлись. Пришлось верхнюю часть подоткнуть за пояс.
Владимир нагнул голову, Сережа затянул на затылке узел платка.
Владимир повернулся к ребятам.
– А вы, – сказал он строго, – стойте как вкопанные и не дышите, а то мы с Альбой будем нервничать.
Он присел на корточки с легкостью, неожиданной для такого большого человека.
Альба покосилась на него выпуклым глазом, но протестовать не стала. Сережа тоже присел.
– Не так. Вы руку вот сюда, вам будет удобнее. Правильно… Правильно…
Тонкая прямая белая струйка звонко ударилась в ведро.
Взинь!.. Взинь!..
Ребята стояли потрясенные, почти испуганные.
Владимир Николаевич, сморщив лоб и напряженно сдвинув брови, доил козу. А на груди у него раскачивалась круглая серебряная медаль «За отвагу» и позвякивала, ударяясь об орден Трудового Красного Знамени.
IX
«Здравствуй, милый дядя Володя! Как ты поживаешь? Как поживает Анечка? Как твое здоровье? Как здоровье Анечки?
Бабушка здорова. Я здорова. И все здесь тоже здоровы. Даже Альба здорова, если ты ее помнишь. Мы все время ходим за земляникой и нашли 1 гриб. А Нюркина мама сказала, что грибы – к войне. А я спросила, имеет ли значение 1 гриб. А Нюркина мама сказала, что 1 гриб не имеет значения, что война бывает, когда их много. А Сережа сказал, что это чепуха, и я сама уверена, что это чепуха.
Мы с Сережей теперь играем, и никто его не дразнит. А войну я даже в газетах не люблю и про нее никогда не читаю. Мальчики читают. Они любят политику. Даже Нюрка и та любит, хотя ничего в ней не разбирается. А Федя сказал, что если Сережу дразнить дояркой, то и тебя. А уж ни один мальчишка тебя не станет, все ахали, как ты плаваешь, да и девчонки тоже.
А бабушка сказала, что ничего обидного в доярке нет, что они даже знатные люди. Мне и раньше Сережу было жалко, да уж так получилось, что пришлось дразнить. Я придумала смешное слово „козодой“, оно всем понравилось, так и вышло, что я по дразнению главная.
А Сережа – хороший мальчик. Я вчера пошла к колодцу с чайником, а он мне два ведра принес и в наши вылил. Только это не из-за меня, а из-за тебя.
Когда он про тебя говорит, у него в глазах восхищение. Он все время про тебя расспрашивает, а я даже не знала, какую машину ты изобрел. Бабушка тоже подробно не могла, а папа сказал: „Замечательную!“
Ну, пора кончать. Писать больше не о чем. Крепко-крепко тебя целую. Поцелуй от меня Анечку, если ты еще в Москве.
Сережа просит тебе кланяться, но думает, что ты его уже не помнишь. А по-моему, ты его должен помнить, его легко запомнить, потому что у него Альба. Бабушка тебя целует.
Твоя Катя».
X
«Здравствуй, милый дядя Володя! Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Помнишь, что я тебе писала, как я не люблю про войну? А теперь у нас война настоящая, не только в газетах!
Очень страшно за папу, за тебя и за дядю Митю он тоже на фронте.
У нас теперь самый любимый человек – почтальонша тетя Маша. Как увидят ее все, так и накидываются.
Дядя Володя! У нас были четыре учебные тревоги. Сначала все боялись, а теперь нет. У сельсовета большая щель с тремя поворотами. А у нас маленькая. У Любочки тоже маленькая, совсем близко. Можно будет ходить друг к другу в гости.
Вчера мы играли там в дочки-матери. Там довольно уютно, только таинственно и песок за шиворот сыплется. А вечером ахнули: забыли куклу. Сережа за ней бегал. Хорошо, что вспомнили, – отсырела, бедная. А если бы на ночь ей там одной! Я понимаю, что кукла, а все-таки.
Говорят, что фронт к нам приближается. Над заводом вчера самолет гудел по-немецки. Сбрасывать не стал и улетел. Сережа боится за свою маму, она там на заводе работает.
Нам сказали убрать с чердака старый хлам и насыпать туда песок. А ведра и кадки чтоб полные.
Дядя Володя, я тебе буду писать почаще, папа пишет, что письма на фронте – это все.
Хотя мои, может быть, и не все.
Может быть, придет ваш почтальон и скажет: „Вам письмо“, а ты подумаешь, что это от бабушки или от Анечки, увидишь мое и разочаруешься. Но я не знаю, что тогда делать, потому что писать мне все-таки хочется.
Мальчики зовут меня насыпать песок на чердак.
Крепко, крепко тебя целую.
Твоя Катя».
XI
Катя сложила письмо треугольником, написала адрес и побежала в сени.
Сережа и Федя влезли на чердак, спускали ведра на веревке, девочки наполняли их песком. Ведра, покачиваясь, взлетали кверху и рассыпали свое содержимое по деревянному потолку добротным толстым слоем.
Трудились до пота, к вечеру устали руки и ноги, ломило спину.
Иван Кузьмич, Нюркин отец, посмеивался, сидя у окошка… Он воевал с немцами еще в пятнадцатом году и говорил, что никакой песок ни от какой бомбы спасти не может.
– Да ведь это же зажигательные! – волновались ребята.
Но упрямый старик раздражающе смеялся, тряс лохматой головой, и втолковать в эту голову, что бомбы бывают трех сортов: фугасные, осколочные и зажигательные, – было невозможно.
Школьники, да и взрослые тоже, изучали санитарное дело и, улыбаясь, переносили друг друга на больших, расхлябанных учебных носилках.
Однажды в сумерках завыли над городом далекие гудки сирен, репродукторы вторили им из домов каким-то кошачьим стоном. И когда, через полчаса, прямо над головой услышали тяжело, с передыхом, звучащее: «У-у! У-у! У-у!» – все сразу почувствовали, что это летят не наши, что это уже настоящее. Матери стали загонять в щели ребят.
Вдалеке над горизонтом вспыхивали розовые молнии и взлетали в небо яркие звезды зениток.
Сережа выбежал на холм за огородом, оттуда было видно полнеба, несколько человек уже стояло там.
Нюркин отец прислушивался к далеким звукам.
– Это зенитки, – говорил он, и все успокаивались. Потом крякал сердито: – А вот это бомба!
Разгорелось зарево – одно поменьше, другое большое, ближе.
Иван Кузьмич говорил, что это завод горит; Федюшка – что завод левее.
Сережина мама работала всю эту неделю в ночную смену. Не было терпения дождаться до утра. Ночи были уже длинные, лето приходило к концу.
Утром Сережа побежал на станцию к поезду. Мама обняла его ласково и строго сказала:
– Сережа, ты больше не выходи меня встречать, не оставляй Любочку одну. Когда я уезжаю, мне спокойнее знать, что ты с ней.
Через несколько дней упала фугаска на линию – сгорел сарай. Потом над станцией зажглась осветительная ракета и, медленно опускаясь, как огромная лампа, освещала неестественным светом верхушки елок.
Сигналы воздушной тревоги звучали все чаще и чаще. Люди стали привыкать и говорили: поужинать или сбегать куда-нибудь «до тревоги».
Слух обострился, любой резкий металлический звук – на станции или на шоссе, иногда просто бой часов или скрип какого-нибудь домашнего инструмента – казался началом, первой нотой тревожного сигнала.
Утром Сережа выходил к воротам и смотрел на то место дороги, где обычно появлялась мамина фигура.
Ему казалось, что если он напряжет всю свою волю, если будет думать только об этом и желать только этого и, главное, смотреть не отрываясь, то чудо свершится – и мама появится вон там, у поворота, между березкой и елочкой.
Через десять минут… через пять… через одну… и чудо совершалось. И, несмотря на все ожидание, всегда это случалось вдруг, мамино темное пальто мелькало между березой и елочкой, на сердце становилось тепло и уютно.
Он ждал, не выходя за калитку, – он дал слово не встречать ее. Когда мама входила в сад, они смотрели друг на друга одинаковыми синими глазами, и оба спрашивали:
– Ну как?
Потом Сережа бежал доставать чугун из печки.
Один раз налет был так продолжителен, так страшно пылало зарево на ночном небе, что Сережа решил: «Сегодня завод… Горит именно завод».
Утром все валилось у него из рук, не колотились дрова, не растапливалась печка, Любочка ныла, что ей хочется есть. К маминому приходу даже кровати были еще не постелены.
Мама делала замечания очень редко. Она сняла пальто и шляпку, устало опустилась на стул и сказала своим строгим и в то же время ласковым голосом:
– У нас была беспокойная ночь. А все-таки завод работал. Мы даже перевыполнили норму.
Сережа метался от печки к постелям, от постели к столу, дрожащими руками хватал веник и чувствовал себя преступником.
XII
Эта ночь была черная и молчаливая, без луны, без звезд, без тревожных сигналов.
Сережа проснулся от гула мотора. Летел самолет… совсем близко… прямо над деревней.
Будить Любочку или не нужно?
Сережа накинул пальто (спали не раздеваясь) и вышел на террасу. Темная, душная, сырая ночь. Низкие облака.
И вдруг Сереже показалось, что гигантский невидимый поезд, пыхтя и ломая деревья, несется к ним из леса. Откуда поезд? Или, может быть, это шум внезапного дождя?
Дома, деревья, дорога – все осветилось ярким электрическим светом. Белые огневые костры запылали всюду.
Сразу стало сухо во рту… Зажигательные бомбы!
Следующая мысль была гордая и даже радостная:
«Я не боюсь».
Захотелось не растеряться и сейчас же сделать все самое нужное.
Под окном плевался и разбрызгивался нестерпимо белый фонтан. Сережа схватил лопату и закидал его песком. Потом вбежал в дом и разбудил Любочку.
– Скорее в щель!
Она никак не могла попасть на бегу в рукава пальтишка.
Подталкивая ее к двери, он накинул одеяло ей на плечи и крикнул:
– Завернись, там сыро!
Мамин приказ был короток и строг:
– Бросать все, думать только о Любочке!
Но Любочка уже прыгала в темную дыру щели. Значит, можно еще что-то сделать.
На их участке горели еще три бомбы: одна у плетня – он закидал ее и помчался с лопатой в руке к той, которая лежала в саду на дорожке. Стал сыпать на нее землю с грядки и вдруг подумал:
«Глупости делаю! Эти ничего поделать не могут. Пусть горят». Он обежал кругом дома. И, только завернув за угол, увидел, что дом наискосок от них пылает не белым уже, а настоящим, красным, пожарным огнем.
Рядом, с чердака Катиного дома, в щели между бревнами и в слуховое окно пробивался неистово яркий белый свет.
XIII
В эту ночь Елена Александровна, Катина бабушка, доказала, что недаром она мать трех командиров. Разбуженная шумом падения бомб и ярким светом, она сгребла Катю с постели и вытолкнула ее на террасу вместе с одеялом, пальто и подушкой.
– В щель беги! – крикнула она и, увидев свет, на чердаке, бросилась в сени.
Катя, не успев ничего еще понять спросонок, покорно побежала, путаясь ногами в одеяле, обеими руками прижимая к себе подушку. В щели было одиноко, темно, страшно и сыро.
Из соседней щели она услышала плач Любочки.
– Не плачь, Любочка, я к тебе иду! – закричала она и, низко согнувшись, вполне сознавая, что рискует жизнью, стала перебегать из щели в щель.
Самолет опять гудел над Дубровкой, как будто немецкий летчик хотел полюбоваться делом своих рук.
«Сейчас фугаску сбросит!» – думала Катя, перелезая через низенькую загородку и всей спиной ощущая опасность.
Девочки прижались друг к другу, закутались в одеяла и дрожали вместе.
– Открой рот, – сказала Катя. – Он может фугаску сбросить… в пожар… Они всегда так делают. А если с закрытым ртом взорвется – оглохнуть можно!
Любочка не поняла, кто, собственно, может взорваться с закрытым ртом, но на всякий случай покорно открыла свой рот.
Вдвоем стало тепло, они перестали дрожать, а когда человек не дрожит, ему уже не так страшно.
Елена Александровна, вытолкнув Катю, с легкостью молодой девушки поднялась по приставной лестнице на чердак.
Она вышибла слуховое окно и, подхватив бомбу лопатой, выбросила ее в сад.
Потом, плача от дыма, стала лить воду на тлеющие уже бревна. Выброшенная бомба шипела и плевалась у крыльца среди георгин и настурций.
К ней бежали трое: Сережа и Федюшка с отцом.
– Моя бомбочка! – кричал Федюшка, готовый, кажется, животом лечь на бомбу в своем усердии.
Из окна бабушкиной комнаты вдруг полетели в сад подушки и перины. Это орудовала Нюрка.
– Что ты делаешь, скаженная! – крикнул ей отец. – Оставь, не бросай, никакого пожара нет!
– Как нет? – отвечала Нюрка. – У Петровых горит!
– Далеко, и ветер в другую сторону. Бери ведро, натаскайте воды, полейте Сережину крышу, чтобы искра не попала!
Иван Кузьмич побежал в сторону горящего дома.
На Сережиной крыше сделали настоящее болото, потом на всякий случай полили у Кати. Скрипел колодец, хлюпали и били по ногам мокрые подолы.
В Дубровке сгорело четыре дома, остальные удалось отстоять. Начинало светать. Маленькие сонные ребятишки выползали из щелей по сырым, обсыпающимся ступенькам и рысцой бежали к дому, в теплые постели.
Ребята постарше стали выкапывать из-под песчаных холмиков горячие остатки бомб. Куски серого шлака, мутно-серые металлические хвосты… Все это почему-то пахло чесноком и было необычайно интересно.
Катя помогла Сереже отнести домой крепко спавшую Любочку. Когда они стояли на террасе, к ним подошли трое мальчишек с лопатами в руках и спросили уныло:
– У вас есть бомбы?
– Мы свои уже собрали, – ответил Сережа.
– Много было?
– У меня четыре и у нее три.
Мальчишки завистливо вздохнули:
– Счастливые! А на нашем конце ничего не было!
Сережа сжалился над ними и посоветовал поискать на улице, где в канаве горели две бомбы и потухли сами.
Мальчишки оживились и, обгоняя друг друга, бросились к калитке.
Утром пришла маленькая лохматая Маруся и попросила своим басистым голоском:
– Сережа! Дай мне одну бомбочку!
Да ведь у Феди есть, и Нюрка полный подол набрала!
– Они мне не дают!
– Жадина твоя Нюрка! На, возьми.
Сережа выбрал ей бомбин хвост, правда, самый искореженный и никчемный, но Маруся не разбиралась в качестве. Она широко улыбнулась, прогудела:
– Спасибо! – и убежала, прижимая к груди свое сокровище.
Взошло солнце, начинался день, никто, кроме маленьких ребят, не ложился спать.
Приходили соседки, смотрели на дыру в Катиной крыше, восхищались бабушкиной храбростью, осуждали Петровых, которые, вместо того чтобы затушить пожар вначале, стали таскать вещи, ничего не спасли и лишились дома.
Нюркин отец был посрамлен и должен был признать, что песок на бабушкином чердаке пригодился. Елена Александровна каждому новому человеку должна была рассказывать (и рассказывала очень охотно, в лицах) все с самого начала: как она схватила Катю, потом лопату, потом бомбу.
Катя, в десятый раз подхватываемая поперек туловища маленькими ловкими бабушкиными руками, сконфуженно улыбалась и чувствовала, что ее роль во всей этой истории была самой жалкой.
Даже Нюрка что-то тушила, таскала воду, поливала какие-то крыши. Кате хотелось, чтобы еще раз случилось что-нибудь страшное, уж теперь она не растеряется, не продрожит в щели до утра вместе с маленькой девочкой, а тоже совершит какой-нибудь подвиг.
Она утешилась, только написав три письма (папе и двум дядям), в которых рассказывала о мужестве бабушки и, юмористически, о своей жалкой трусости.
XIV
Через месяц почти одновременно пришли на имя бабушки три денежных перевода и три письма: от папы с северного, от дяди Володи с западного и от дяди Мити с южного фронта. Письма были восторженные в начале, деловые в середине и умоляющие в конце.
Сыновья восторгались подвигом Елены Александровны, сообщали о том, что высылают деньги на переезд, и умоляли уезжать скорей, эвакуироваться вместе с Катей.
Письмо, написанное твердым, размашистым почерком дяди Володи, кончалось так:
«Мамочка, умоляю тебя, на коленях прошу – уезжайте!»
Слова «умоляю», «на коленях» и «уезжайте» были подчеркнуты по три раза.
Кате он писал:
«Катюшка, милая трусиха, воздействуй на свою героическую бабушку. Напиши Ане, может быть, уговорите ее ехать вместе. Она еще в Москве и меня не слушается. А ведь я теперь уже целым батальоном командую. Сразу вижу, как у тебя при этом известии ко мне уважения прибавилось.
А твоя будущая тетушка – ноль внимания и мне, командиру батальона, не подчиняется. Обидно даже.
Я ее прошу эвакуироваться скорее, а она на две недели в Серпухов уезжала и там окопы рыла. Катюша! Я ее, конечно, еще больше люблю за это. Но ведь она еще совсем маленькое дите. Ну что она может нарыть?!»
Когда Елена Александровна получала эти письма, она видела за рекой, на сжатом поле, криво торчащие столбы (чтобы аэропланы не могли садиться). Грузовики защитного цвета ехали по дороге, небольшие группы красноармейцев проходили куда-то.
Как-то вдруг и в Дубровке, и в соседних с нею деревнях, и в городе стало очень много военных.
Между Семеновом и Городищами рыли окопы.
Бабушка собралась в несколько дней и уехала вместе с Катей к своей дочери, работавшей на одном из уральских заводов.
На следующий день после их отъезда немецкий самолет, пролетая над Дубровкой, сбросил три фугасные бомбы. Одна упала в лес, другая попала в колхозное стадо, идущее к реке по оврагу, третья в огород за Нюркиным домом.
Сережа прибежал, когда там уже собралась толпа.
Он услышал громкий плач Нюрки. Маленькая Маруся лежала ничком около сломанного плетня, зажав в руке надкусанную морковку.
Ветер шевелил светлые растрепанные волосенки и делал еще более страшной неподвижность маленького тела.
Сереже казалось, что он опять слышит просительный, гудящий голосок:
– Сережа, дай мне одну бомбочку!
Он пошел, сам не зная куда, шагая по грядкам, к оврагу. Пастухи собирали испуганных коров.
На склоне оврага как-то неестественно, боком, огромной золотисто-коричневой массой лежал бык Васька.
Он приподнял свою добрую, страдающую морду.
Сережа обнял его крепкую шею, гладил завиток на широком лбу. И вдруг подумал о Владимире Николаевиче: «Где-то он теперь?»
XV
Через Дубровку, с запада на восток, проходили красноармейцы.
Они шли молча, без песен и без разговоров, хмуро поглядывая на окна домов, заколоченные досками.
Деревня была почти пустой, не успевшие уехать жители выходили к воротам, спрашивали что-то у солдат, потом спешили к дому – вязать узлы, готовить санки.
Сережа стоял на скамейке около калитки и смотрел через забор на улицу.
По краю дороги, по рыхлому, не притоптанному еще снегу ехали розвальни.
В них сидели ребята, закутанные в платки до самых носов. Правила учительница Ольга Петровна, тоже в платке и в больших белых пуховых варежках. Около Сережиного дома она придержала лошадь.
– Ну как, Сережа? – спросила она. – Может быть, все-таки поедешь с нами? Одевай Любочку, место есть.
– Поедем, Сережка, ну что ты тут один останешься! – кричали ребята.
– Нет, – сказал Сережа, – я подожду до завтра.
– Ну, как хочешь. До свиданья, мальчик!
– Ольга Петровна, вы зайдете на завод?
– Обязательно зайду.
Ребята замахали Сереже. Розвальни скрылись на повороте между березкой и елочкой.
Сережа долго смотрел на это место дороги.
Два глухих взрыва прозвучали с запада. Сережа почувствовал их ногами.
Несколько командиров ехали верхом, но не вдоль шоссе, как шли красноармейцы, а по дороге, проходящей поперек деревни. Они остановились, прислушиваясь, около сельсовета.
– Это мост железнодорожный, – сказал лейтенант.
К ним подъехал майор, в полушубке и серой барашковой шапке. И сразу все окружавшие его люди стали как будто меньше. И лошадь у него была как конь богатырский. Немножко даже похожа на коня Добрыни Никитича, только не белая, а серая в яблоках.
Из приоткрытого сарая вышла Альба, протопала узкими копытцами к развалившемуся в этом месте забору и хотела посмотреть на улицу, но отпрянула, увидев столько людей и лошадей.
– А! Здравствуй, Альба! – сказал майор.
Что вы сказали, товарищ майор? – почтительно переспросил лейтенант.
– Козу знакомую встретил и с ней поздоровался. А она, невежливое животное, делает вид, что меня не узнала. Видите, хвостом повернулась и домой ушла, – с невозмутимой серьезностью ответил майор.
– Владимир Николаевич! – окликнул Сережа.
Майор подъехал к забору.
– Ага! Вот еще один знакомый. Здравствуй, синеглазый. Но зачем же ты еще здесь? Забирай свою Альбу и отправляйся.
– Мама должна была увезти нас еще вчера, но поезда не ходили… – голос Сережи дрогнул. – Были попорчены пути, она не приехала.
Он прибавил, как будто желая успокоить самого себя:
– Так уже было один раз, а потом дочинили, и мама приехала через два дня.
– Что ты, мальчик! Разве сейчас будут чинить пути? Мы разрушаем их, а не чиним. Сестренка с тобой? Вам нужно уезжать отсюда.
– Мама может прийти пешком, – сказал Сережа. – Я подожду до завтра. Мы поедем вместе с Федей и Нюркой. Их отец болен, они решили ехать не сегодня, а завтра.
– Катюшка пишет? Давно от них не получал.
– Писала Нюрке два раза. Они здоровы.
Владимир посмотрел на дом Елены Александровны, потом на идущих красноармейцев. На его лице появилось упрямое и даже как будто сердитое выражение.
– Ничего, Сергей, – сказал он, – мы еще вернемся!
Он снял рукавицу, положил ее перед собой на шею лошади и посмотрел на часы.
Лошадь шевельнула головой, рукавица упала и повисла на нижней перекладине загородки. Сережа спрыгнул на землю и уже протягивал руку, чтобы поднять, но Владимир опередил его. Не слезая с лошади, нагнулся легко, самодовольно сказал Сереже:
– Ага! А ты так не умеешь!
И стал отряхивать рукавицу от снега, как бы извиняясь перед ней за такое неаккуратное обращение. Рукавица была сшита из мягкой серой замши, с курчавым белым, тоже очень мягким мехом внутри.








