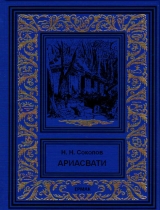
Текст книги "Ариасвати"
Автор книги: Николай Соколов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. Под Костромским небомЯркое весеннее солнышко, поднявшись над вершинами дальних сосен, прямо ударило в окно уютной спальни Грачевского дома. Пробравшись сквозь оконные занавески и кисейный полог кровати, веселый луч упал на лицо заспавшейся против обыкновения Арины Семеновны и шаловливо защекотал у нее в носу. Старушка сморщилась, чихнула и открыла глаза.
Белый день стоял уже на дворе. Со стороны кухни давно уже слышалось кряканье уток и кудахтанье кур, прерываемое порою звонким голосом Анисьи, которая, беспрестанно меняя интонацию, выкрикивала, без всякого перехода, то ласковое "цып-цып", то грозное "кши!" Случись это в другое время, Арина Семеновна не преминула бы побранить себя за такой долгий сон, но сегодня ей было совсем но до того: Арине Семеновне приснился знаменательный сон, и старушка, прежде чем одеться, с полчаса просидела в постели, раздумывая, чтобы он мог значить.
Занятая этим сном, и одевалась она, против обыкновения, настолько медленно, что когда, наконец, собралась отправиться на кухню, к Анисье за советом, пернатое царство было уже водворено на птичьем дворе, а сама Анисья во второй раз разжигала самовар, недоумевая, что сделалось с ее барыней, просыпающейся обыкновенно чуть не с петухами.
– Здравствуй, Анисья! – заговорила Арина Семеновна, торопливо входя в просторную, чистую кухню, в которой покойный Иван Спиридоныч по будням любил иногда обедать. – Гляди-ко, как я сегодня заспалась! С ума сошла!
– Я уж и то думаю, – отозвалась Анисья, складывая руки на переднике, – что это, мол, барыня-то…
– Вот поди же ты! Никогда этого со мной не бывало…
– Ну, как-так не бывало! При покойнике-то Иване Спиридоныче частонько до полуден просыпали.
– Ах, греховодница! Нашла, что вспомнить… Чай, я в ту пору была молоденькая… А ты вот что скажи: к чему кровь во сне видеть?
– Известно к чему, к родне. Али сон видели?
– Видела я, видела сон, Анисья, и такой сон, что никак его разобрать не могу. Ты, вот, на это мастерица.
– Какой же это сон?
– А вот, видишь, приснилось мне, будто у меня изо рта кровь идет…
– Зуб что ли выпал? – с тревогой спросила Анисья.
– Нет, не зуб, а так-будто, кровь.
– Ну, слава Богу, коли так.
– А что, разве не хорошо зуб-то видеть?
– Не хорошо, матушка-барыня. Коли зуб выпал да с кровью, значит, из родных кто-нибудь умрет.
– Помилуй Господи! Нет, так будто кровь идет, – а Илья увидал это, да полотенце мне в руки-то сует: на-те, говорит, барыня, утритесь.
– Полотенце? – переспросила вдумчиво Анисья.
– Да, полотенце… такое чистое да тонкое, да длинное-длинное такое… А концы – не то из кружев, но то разноцветным узором вышиты, вот, уж не припомню теперь. И чтобы это значило? Думаю, думаю – придумать не могу!
– Да и думать-то нечего, барыня: смотри, – Андрей Иваныч скоро вернутся.
– Андрюша? Дай-то Бог!
– Это уж как Бог свят. Полотенце-то означает, что он уж на пути.
– Что ты? А Илья-то тут причем? Ведь он мне полотенце-то подавал.
– А Илью Захарыча вы, может, на станцию пошлете, – ну, значит, он вам их и привезет: – вот вам и полотенце.
– И то правда. А где Илья?
– Надо быть, на мельницу поехал… Ай, батюшки! Гляди-ка, самовар-то ушел! Заболталась я, грешница, не доглядела…
– Ну, не беда. Неси в столовую. Да если Илья воротится, сейчас же ко мне пошли.
Но Илья Захарович легок на помине. Не успела Арина Семеновна приняться за вторую чашку чаю, как он уже вошел в столовую, приглаживая свою вспотевшую лысину.
– А! Воротился уж? Ну, здравствуй, Илья! – приветствовала его Арина Семеновна. – Или тепло стало?
– Тепло Бог посылает, сударыня… – Только уж и дороги – ни проезду, ни проходу!
– Благо?
– Уж так-то благо, что не приведи Господи! До мельницы рукой подать, а лошадь совсем почти из сил выбилась.
– Вот что! Как же быть, Илья? Ведь я хотела тебя в лес послать.
– Как будет угодно, сударыня…
– Нет, уж ты, Илья, поезжай.
– Да я не к тому… Мне что же? Только, вот, лошадь…
– Что же такое лошадь? Ну, Бог милостив. Надо же справиться, не воротился ли Андрюша.
– Так это вы насчет Андрея Ивановича? Ну, это дело иное. Или ожидаете?
– Да уж пора бы ему, зима кончилась… да и сон я такой видела…
– Что же, коли прикажете, я хоть сейчас.
– Да, уж поезжай, голубчик.
– Только, ведь, вот какое дело, матушка Арина Семеновна, как ехать то? Ведь ни на санях, ни на телеге не проедешь.
– Поезжай верхом.
– И то разве так. А Андрей-то Иваныч как же?
– А для Андрюши другую лошадь возьми в поводу.
– Слушаю, матушка Арина Семеновна. Так и сделаю: сам на Кауром поеду, а Ваську для барина оседлаю.
– Ну, вот и хорошо.
– Так я уже поеду.
– Поезжай с Богом, голубчик! Счастливо!
Через полчаса, стоя у окна залы, Арина Семеновна видела, как Илья Захарыч, верхом на Кауром, выезжал из ворот, ведя в поводу оседланного Ваську. За ним с громким, веселым лаем следовал неутомимый Брутка, которого года могли бы уже избавить от подобной экспедиции.
В воздухе сильно пахло весной. На косогоре, против Грачевской усадьбы, уже несколько дней как показались проталины, а мельник Ферапонт даже божился, что уж и жаворонки прилетели. Рыхлый, ноздреватый снег точно курился под лучами яркого солнышка, только утреннички его еще несколько поддерживали. Дальний лес, окутанный туманом испарений, ярко синел за потемневшим прудом, точно кобальтовая даль на картине Айвазовского. Грачевка вздулась, почернела, покрылась полыньями и "поледью", и Грачевские мужики уже бойко постукивали топорами, разбирая мост перед самой усадьбой: теперь уж на "ту" сторону можно было пробраться только по длинной, извилистой плотине Грачевской мельницы.
Впрочем, отсутствие моста в настоящее время не имело особенных неудобств, так как дорога была настолько дурна, что никто из грачевцев не рискнул бы поехать даже в соседнюю Боровиковку из боязни загнать лошадей. Трехфутовый рыхлый пласт снега, составлявший полотно дороги, на каждом шагу прерывался глубокими, наполненными грязной водой ямами, доходившими до самого грунта. Местами, в ложбинах, эти зажоры были так опасны, что в них легко было утопить и лошадей и экипаж. Там, где обыватели пытались домашними средствами исправить дорогу, перепутанный и поломанный фашинник представлял что-то вроде обширной сети капканов, как будто с умыслом расставленных затем, чтобы ломать ноги лошадям.
По такой дороге Илье Захаровичу пришлось тащиться до лесу более десяти верст, совершая на каждом шагу чудеса эквилибристики, чтобы не искупаться самому и не утопить лошадей. Несчастный Брут, сначала осторожно выбиравший дорогу, вымок с ног до головы, уже не обходил встречных луж, а прямо пускался вплавь и потом бежал несколько времени, фыркая и отряхиваясь – до новой лужи. Но старый пес стоически переносил все дорожные неприятности и порой даже опережал своих измученных товарищей, Каурого и Ваську, его поддерживала надежда скорее увидеть своего любимого господина, так как цель экспедиции, очевидно, не была для него тайной.
Солнце уже давно перешло за полдень, когда Илья Захарович добрался до того места лесной опушки, откуда был ближайший путь к лесному дому, в котором Андрей Иванович устроил пристань для своего Гиппогрифа. Начиная с этого пункта путешествие приняло другой характер. Благодаря весеннему солнцу и утренним морозцам, в лесу образовался такой отличный наст, что Илья Захарыч, забыв про своих лошадей, пожалел было, что не захватил с собою лыжи. Но на опушке этот наст был настолько хрупок, что старику приходилось прокладывать дорогу почти по пояс в снегу, таща за собою упиравшихся лошадей.
В лесу наст был тверже, но дело от этого ничего не выиграло: лошади все равно проваливались. Захарыч до того измучился с ними, что несколько раз ложился прямо на снег, чтобы отдохнуть хоть сколько нибудь. Но несмотря на все эти мучения, ему ни разу не пришло на ум роптать против Арины Семеновны, пославшей его в такую трудную экспедицию, быть может, совершенно напрасно, ради одного только пустого сна. Илья Захарович слишком любил своего молодого барина, чтобы роптать из-за таких пустяков. Он с радостью согласился бы принести для него и не такую жертву.
Между тем солнце закатилось. В лесу быстро начало темнеть. Но Захарыч так хорошо знал дорогу, что не боялся заблудиться. Легкий морозец стал слегка пощипывать ему щеки и уши и сковал намокшее платье. Озябший Брут дрожал всем телом и порою слегка повизгивал. Вдруг он весело залаял и вскачь пустился в глубину леса. Изумленный Захарыч несколько мгновений смотрел ему вслед и радостная улыбка оживила его измученное лицо: вдали, между деревьями, мерцал огонек… Он истово перекрестился и промолвил: "ну, слава Богу, хоть недаром! Барин воротился…"
Через полчаса он уже входил во двор лесного домика. На крыльце с зажженной лампой стоял Андрей Иванович и около него с визгом и лаем неуклюже прыгал сошедший с ума от радости Брут.
– Это ты, Илья Захарыч? – окликнул Грачев. – Здорова ли матушка? Как это тебя Бог занес?
– Я, я, сударь! Кому же еще? Матушка, слава Богу, здоровы. С благополучным возвращением, сударь!
Андрей Иванович обнял и несколько раз поцеловал старика.
– Да ты весь мокрый! Иди скорее в комнату, у меня там печь топится. Как это ты сюда попал? Да ты и лошадей привел! Кто же вам дал знать, что я воротился?
– Сейчас, сейчас, сударь, только лошадей поставлю.
Захарыч отвел лошадей в конюшню, старательно вытер их сеном, покрыл рогожей и тогда уже вошел в комнату, неся с собою пещер, набитый провизией.
– А попал я сюда, сударь, – начал он, развязывая пещер и вынимая оттуда домашние булки, свежие яйца, бутылки сливок, мясо, – попал я сюда не сам собою: матушка ваша, Арина Семеновна, меня послали.
– Да как же матушка могла узнать, что я воротился?
– А вот видите, сударь, что материнское-то сердце значит, – чует оно… Воистину, сердце сердцу весть подаст. Сон она, сударь, видела.
– Сон? Вот чудеса!
– Да, сударь. А говорят еще, что ныне чудес не бывает… Только вот что, батюшка Андрей Иванович, как мы с вами до Грачевки-то доберемся?
– А ведь ты же добрался сюда, Илья Захарыч?
– Так ведь я как есть целый день маялся…
– Как же ты, я думаю, устал, бедняга! Да брось ты это все, – я сам и мясо обжарю и яйца сварю. Садись сюда, отдыхай и грейся.
– Да я вовсе не к тому, сударь… Что вы? Помилуйте! Мне что делается!.. А вот вам-то целый день маяться…
– Ну, это пустяки. Мы, вот, с тобой поужинаем: ты спать ложись, а я тебя около полуночи разбужу. По морозцу-то мы отлично доберемся. Ночи теперь светлые, лунные, и мороз отлично скует, – вот увидишь.
– Разве что так. А все-таки трудненько будет… Как это вы, сударь, на шаре-то своем летаете? Чать, поди как маятно!
– Вот нашел – маятно! Да я там сижу, как в комнате, на меня ветерком не пахнет, – лежу себе на диванчике с книжкой да поглядываю по сторонам, точно в панораме… Да сиди же ты, Захарыч! Что ты опять тормошишься? Ведь и без того устал. Разве я этого сам не сделаю? У себя, на острове, я все время сам и пек, и варил.
– Как прикажете, сударь, только…
– Ну, вот, я тебе приказываю, чтобы ты сидел и отдыхал.
– Слушаю, сударь.
– Где же твоя носогрейка? А то на – вот тебе сигару – кури.
– Покорнейше благодарю. Это что же, сударь: я, значит, буду барином, а вы мне служить будете?
– Пора и мне послужить. Ты уж довольно послужил на своем веку, – вон какого вынянчил…
– А не зазорно это будет, сударь?
– Чего там зазорно! Ну, вот и все готово. Садись сюда к столу и давай ужинать.
II. Дома
На этот раз Арине Семеновне плохо спалось. Всю ночь она что-то грезила, но что именно, – Бог весть. Проснулась она до петухов, тихонько оделась и вышла в залу посмотреть, не видать ли Захарыча. С вечера она приказала разбудить себя тотчас, как Захарыч приедет. Значит, не приехал, коли не разбудили. И чего он там застрял? Уж не случилось ли чего с ним? Человек он не молодой, долго ли до греха. Бродит старушка от окна к окну, – нет, ничего не видать.
Начало светать. Встала Арина Семеновна на молитву, а сама все в окошко посматривает. Вот покраснели лесные верхушки, вот из-за синего бора выглянул красный пылающий глаз и послал прямо в окна залы целый сноп ярких, ослепительных лучей. На кухне зашевелилась Анисья. Из рабочей избы прошли бабы с подойниками на скотный двор. Конюх Яким вышел с ведром к колодцу, умылся прямо из под желоба, ежась от студеной воды и утреннего холода, и понес воду на конюшню. Пристально смотрит Анисья Семеновна на дорогу и не раз какая-нибудь шальная ворона издали казалась ей всадником и заставляла по-прежнему биться ее старое сердце.
Вот Анисья покормила птиц и внесла в столовую кипящий самовар. Заварила Арина Семеновна чай, а сама опять у окна… Что это – как будто там мельтешит? Опять не ворона ли?
– Анисья! Анисья, поди-ка сюда! Да иди скорее! Чего ты там копаешься? Посмотри-ка в окно, не лучше ли у тебя глаза то будут, не посвежее ли… Гляди-ко: что это там чернеется? Видишь, вон, как будто движется даже… Видишь? Ворона, что-ли?
Анисья, вытирая руки фартуком, несколько времени стойко, пристально глядела в окно.
– Зачем ворона? – говорит, наконец, она: – это как будто кто-то едет… Да как будто не один… Не разберешь издали-то…
Наступает молчание. Обе старушки напряженно смотрят в окно, изредка меняясь короткими замечаниями.
В комнату стремительно влетает хорошенькая черноглазая Сонька, племянница Анисьи и любимица Арины Семеновны.
– Андрей Иваныч едут! Андрей Иваныч едут! – кричит она, хлопая в ладоши и припрыгивая.
– Андрюша? Андрюша! Где он? Где? – всполошилась Арнна Семеновна.
– Да вон они, – говорит Сонька, указывая на черную точку, которая давно уже привлекала внимание обеих женщин.
– Что ты врешь, оглашенная? – сердится Анисья: – Это-то мы и без тебя видим. Где же барин?
– Да это барин и есть. Вон они впереди на Ваське едут, а за ними на Кауром Захарыч тащится… а вон перед ними Брутка скачет!
– Да где ты все это видишь? – волнуется Арина Семеновна, тщетно стараясь разглядеть черную движущуюся точку. – Уже не врешь ли ты, девка?
– Что это вы, барыня! Разве я стану врать, да еще в этаком-то деле? Как это вы не видите? Вон, барин едут, а за седлом у них что-то привязано – не то корзинка, не то чемодан.
– Ну, и глаза же у тебя, Сонька, – говорит одобрительно Анисья. – Вот, барыня, вчерашний-то сон в руку…
Но Арина Семеновна ничего уже не слушает, бегает от окна к окну, крестится и шепчет: "Андрюшенька едет. Андрюшенька! Слава, тебе, Господи, дождалась, привел Господь…"
Вот уже и она, своими старческими глазами, может различить, что едут два всадника, и в переднем ее материнское сердце отгадывает ненаглядного Андрюшеньку. Жаль только, что досадные слезы, застилающие глаза, все мешают рассмотреть в подробности, каков то он стал за эту зиму, не похудел ли, ведь чужая сторона – не родная матушка… Несколько раз старушка порывалась выбежать на крыльцо, но ее удерживали то Анисья, то Соня.
– Да что это вы, барыня! Куда вы? Ведь они еще далеко, – говорила Соня, отводя Арину Семеновну от двери: – Вот, глядите-ка, они и до поворота еще не доехали.
– Помилосердуйте, барыня! Чего вы тревожитесь? – поддерживала ворчливо Анисья. – Успеете наглядеться-то… да право! Еще простудитесь…
Но когда, наконец, всадники въехали в ворота и легкой рысцой затрусили по двору, тут уже никакие силы не могли удержать Арину Семеновну в комнате. Не успел еще Андрей Иванович слезть с коня и подняться на лестницу, как старушка уже с радостным причитаньем повисла у него на шее. Привыкший к такого рода встречам, Андрей Иванович не растерялся: он не стал убеждать распустившуюся Арину Семеновну идти скорее в комнату, чтобы не простудиться, – он просто принял ее в свои сильные объятия и осторожно, как ребенка, внес в столовую. Арина Семеновна тоже привыкла к таким пассажам. Успокоившись несколько от волнения, она с довольной и в то же время гордой улыбкой взглянула на своего широкоплечего сына.
– Какой ты сильный, Андрюша, – заговорила она, качая головой и утирая слезы: – Смотри-ка, меня, как перышко, донес.
– Вас-то, маменька, не мудрено донести, – шутил Андрей Иванович, нежно целуя руки старушки: – вы, ведь, у меня совсем маленькая.
– Маленькая! – весело смеялась Арина Степановна, то трепля по щекам, то разглаживая волосы своего ненаглядного Андрюши. – А помнишь, как я тебя на руках носила?
– Как же не помнить, маменька? Ведь это совсем недавно было, – всего каких-нибудь лет двадцать шесть или семь тому назад.
– Уж и двадцать семь! А впрочем… Как время-то бежит! Кажется, ведь, совсем недавно… Однако, что же это я? Ты чать голоден, голубчик? Чего тебе, Андрюшенька – чаю или кофею? Или, может быть, котлеточку сначала скушаешь?
– Чаю, маменька, чаю да со сливочками! И от котлеты не откажусь. Только погодите, – умоюсь, а то, видите, весь я в грязи.
– Ну-ну, иди, голубчик, умойся, переоденься, а я тебе все приготовлю.
Через несколько минут Андрей Иванович явился к чайному столу умытый, причесанный, в чистом белье – совсем франтом. Новые объятия, новые поцелуи.
– Да как же ты загорел, Андрюша! – воскликнула Арина Семеновна, вглядевшись в сына: – Давича я думала, что это от грязи, а ты совсем как есть арап.
Старушка всплеснула руками и расхохоталась.
– Арап, арап, маменька, – согласился Андрей Иванович, принимаясь за чай со сливками и горячими сдобными булочками домашнего печенья. – У меня там солнышко греет не по вашему… Вот бы вам туда, маменька!
– И не говори, Андрюшенька!
– Да ведь вы здесь зябнете… Право, я там все о вас думал: вот, думаю, мама там мерзнет, бедная, и погулять выйти ей нельзя, кругом эти противные снега сугробами… Тоска! Сидит она, думаю, в четырех стенах да жмется около печки, – а у меня то здесь – рай… Право, мамочка, а следующий раз поедем со мной! Полюбуетесь вы там на роскошные цветы, на невиданные деревья… А небо там какое, море!.. Ах, мамочка милая! Ну, чего вы боитесь?
– Нет, нет! И не говори Андрюша. Я точно курица, которая утенка вывела: утенок плавает себе по пруду, на вольной волюшке, радуется, а курица-то бегает по берегу да кричит: "Ах, утонет! Ах, утонет! Помогите"! И боюсь я, Андрюшенька, так боюсь за тебя, что и сказать не могу.
– Да чего вы боитесь, мамочка?
– Да все этого, твоего Гиппогрифа. Ну, вдруг его разорвет, или бурей о что ударит, или так упадет он прямо в море… Да мало ли чего!.. Вон ты там под облаками все витаешь, – ну, вдруг налетишь на молнию – и конец!
– Полноте, мамочка! Ведь этак придется всего бояться, ни сидеть, ни ходить, ни ездить нельзя будет.
– Ну уж ты скажешь!
– А как же, мамочка? Вот я сижу себе за чаем, – вдруг падает с потолка штукатурка, ну, и капут!
Арина Семеновна с трепетом посмотрела на потолок.
– Да с чего ей упасть то? – сказала она недовольным тоном. – Потолки крепкие, даже трещины не видать…
– А разве этого не бывает, мамочка? Все крепкий да крепкий потолок, а вдруг и обвалится…. Правду я говорю? Ведь так случается?
– Ну, что же?.. Точно, что случается…
– Или иду я по улице. Вдруг обвалилась труба на крыше, да кирпичом меня по голове – вот и готово!
– Что это ты, Андрюшенька! У нас, слава Богу, каждую осень трубы обмазывают…
– А то вдруг собака бешеная укусит… Или бык забодает…
– Ну, уж пошел перебирать!
– Или еду я на лошадях, вдруг лошади понесут, экипаж опрокинут…
– Что ты пристал, Андрюша, – ну, скажи на милость?
– Или на железной дороге – поезд с рельсов сойдет или с другим поездом столкнется, локомотив разорвет, мост провалится…
– Да что ты, Андрюшка, в самом деле взбесился, что-ли? Совсем меня запугал!
Андрей Иванович расхохотался.
– Мамочка милая, не сердитесь! – успокаивал он взволнованную старушку, целуя ее руки. – Я ведь только к тому говорю, что если всего этого бояться, то и на свете жить нельзя будет. Беда, как видите, может случиться везде, только на моем Гиппогрифе меньше, чем где-нибудь.
– Да, да, уверяй! А вот по газетам только и слышно: там шар разорвало, там воздухоплаватель в море упал…
– Ах, мамочка! Да ведь это что за шары? Я понять не могу, как решаются на них летать! Это просто отчаянный какой-то народ, – ведь они прямо на смерть идут… Теми шарами, маменька, ни управлять нельзя, ни пользоваться так, как нужно, Там воздухоплаватель зависит от тысячи роковых случайностей, которые от него совершенно не зависят. А я своим Гиппогрифом так могу распоряжаться, как ни один наездник не может управлять самой послушной, дрессированной лошадью. Лучший наездник всякий раз не может быть уверен, что его лошадь не бросится вдруг в сторону, не взовьется на дыбы и не сбросит его на мостовую, тогда как я наперед предвижу всякое движение моего Гиппогрифа и заранее уверен в каждом его шаге. Нет, маменька, я вполне могу положиться на свою воздушную лошадку – она уж не изменит, не обманет!
– Ах, Андрюша! Как можно все предвидеть. Vous savez bien, qne l'homme propose, Dieu dispose[10]10
Vous savez bien, qne l'homme propose, Dieu dispose (фр.) – Ты прекрасно знаешь, что человек предполагает, а Бог располагает.
[Закрыть].
– А все-таки, мама, я своему Гиппогрифу больше доверяю, чем какой бы то ни было лошади, железнодорожному поезду, или пароходу. Да уж и пора мне его знать: который год я на нем странствую, – кажется, весь шар земной облетал, испытав все дорожные случаи и приключения, и уже из долгого опыта мог убедиться в том, какой это надежный и верный друг.
– Ну-да, я уже знаю, что тебя, не переговоришь.
Андрей Иванович засмеялся.
– Так же, как и вас не убедишь, мамочка… А напрасно вы отказываетесь побывать на острове Опасном.
– Вот видишь – и название-то какое страшное!
– Название это, мамочка, не я ему дал, а те несчастные, которые носятся на своих ореховых скорлупках по воле ветра и волн и которым опасны каждый подводный камень на пути, каждый риф. Я назвал бы его Волшебным, Очаровательным островом, Эдемом.
– Ну, уж и Эдемом! Не слишком ли много чести?
– А вот посмотрите, мамочка, полюбуйтесь.
Андрей Иванович вносит в столовую корзину, довольно искусно для помещичьих рук сплетенную из банановых листьев, и, сняв крышку, вынимает из нее большой, надутый и крепко завязанный мешок из растительного пергамента. Он осторожно развязывает этот мешок и раскрывает, – и воздух столовой наполняется сразу пряным благоуханием тропических лесов, из мешка появляется роскошный букет невиданных, ярких и сильно пахнущих цветов… Правда, они немного завяли, но все еще настолько хороши, что в состоянии хоть кого привести в восторг.
– Ах, какая прелесть! – восклицает пораженная старушка, поднося к лицу чудесный букет. – Это что же такое? Как называется? А это? Это? – спрашивает она, указывая то на тот, то на другой цветок.
Андрей Иванович говорит мудреные латинские названия, переводя их иногда на русский язык, и достает из корзины другие, подобные этому мешки, из которых по-являются на свет божий разнообразные, тропические плоды в сыром и частью в приготовленном виде.
Новый восторг, новые восклицания.
Андрей Иванович начинает затем описывать роскошную природу своей очаровательной пустыни, рассказывает о растениях и животных, описывает леса, горы, водопады, озеро, небо, море, рифы, скалы: потом переходит к своим открытиям, рассказывает об очарованном городе и его горожанах, об архаическом храме на озере, о башнях, о лесном храме и наконец о нагорном храме и его таинственной богине. Старушка слушает рассказ сына точно какой-то волшебный сон и, качая головой, говорит:
– Как это ты там не боишься, среди всех этих идолов?
Андрей Иванович продолжает свой рассказ, описывает статуи, барельефы, картины, подземные ходы, чудесное электрическое освещение храма и наконец переходит к своему последнему открытию. Когда он сообщает об электрическом ударе и падении статуи жреца, старушка вскрикивает и обхватывает руками шею Андрея Ивановича, как будто ее страстно любимому "мальчику" все еще грозит опасность. Наконец, Андрей Иванович показывает привезенные им таблицы и разъясняет важность сделанного им открытия для истории всего человечества.
– Что же ты думаешь с ними делать, Андрюша? – спрашивает заинтересованная старушка.
– Поеду в Петербург, а если нужно будет – за границу.
Арина Семеновна грустно потупилась.
– Ты уж меня опять покидать собираешься, – промолвила она после непродолжительного молчания. – И поглядеть-то на тебя не успеешь…
– Что же делать, мамочка? Я просто не могу быть покоен, пока не разъясню этой тайны. С того самого дня, когда я нашел эти таблицы, меня все как будто подталкивает, точно что-то все шепчет мне в уши: "скорее! скорее!"
– Это наваждение, Андрюша. Зачем ты впутался в эту историю?
– Полноте, маменька! Какое наваждение? Меня просто мучит любопытство и кроме того, – что уже таить от вас, – желание славы, желание стать на ряду с Шампольоном, Раулинсоном и другими счастливцами, открывшими для науки целую, неведомую до того область истории…
– Может быть, ты и прав… А все-таки мне страшно. Эти чудеса, эти языческие идолы… Что, если это наваждение? Ох, боюсь за тебя, Андрюша… Оставался бы лучше в Грачевке!
Но Андрей Иванович был непоколебим и две недели спустя после этого разговора, не успели еще дороги исправиться как следует, как уже Арина Семеновна снова стояла на крылечке своего дома, утирая платком крупные слезы, катившиеся по ее побледневшим щекам, и крестя дрожащей рукой отъезжающую кибитку, в которой ее Андрюшенька отправился на Сколино – ближайшую железнодорожную станцию для всего Пошехонского царства.








