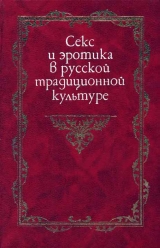
Текст книги "Секс и эротика в русской традиционной культуре"
Автор книги: Наталья Пушкарева
Соавторы: Елена Левкиевская,Владимир Петрухин,Игорь Кон,Иван Морозов,Т. Листова,К. Логинов,Петр Богатырев,A. Плотникова,Ольга Белова,C. Толстая
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
«…Я знаю, что я легко увлекаюсь и к мужчинам, а ведь к девушкам или вообще к женщинам мне не случалось никогда увлекаться (я говорю это в хорошем смысле, потому что если от физического настроения чувствую себя неспокойно, это не от лица, а от пола, и этого я стыжусь)…». [22]22
Чернышевский Н. Г.Дневники // Полн. собр. соч. М.: ГИХЛ. 1939. Т. 1. С. 35–36.
[Закрыть]
«…Сколько за мною тайных мерзостей, которых никто не предполагает, например, разглядывание [?] во время сна у детей [?] и сестры и проч.». [23]23
Там же. С. 38.
[Закрыть]
11 августа 1848 г. Чернышевский и его ближайший друг Василий Лободовский оба «сказали, поправляя у себя в штанах: Скверно, что нам дана эта вещь». [24]24
Там же. С. 82.
[Закрыть]
«Ночью… я проснулся; по-прежнему хотелось подойти и приложить… к женщине, как это бывало раньше…». [25]25
Там же. С. 83.
[Закрыть]«Ночью снова чорт дернул подходить к Марье и Анне и ощупывать их и на голые части ног класть свой… Когда подходил, сильно билось сердце, но, когда приложил, ничего не стало». [26]26
Там же. С. 91.
[Закрыть]
Очень похожи на это и юношеские переживания Николая Добролюбова. [27]27
См.: Пещерская Т. И.Русский демократ на rendez-vous // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 40–43.
[Закрыть]16-летний Добролюбов страстно привязан к своему семинарскому преподавателю И. М. Сладкопевцеву: «Я никогда не поверял ему сердечных тайн, не имел даже надлежащей свободы в разговоре с ним, но при всем том одна мысль – быть с ним, говорить с ним – делала меня счастливым, и после свидания с ним, и особенно после вечера, проведенного с ним наедине, я долго-долго наслаждался воспоминанием и долго был под влиянием обаятельного голоса и обращения… Для него я готов был сделать все, не рассуждая о последствиях». [28]28
Добролюбов Н. А.Дневники // Собрание сочинений в 9 томах. М.: Гослитиздат. 1964. Т. 8. С. 441.
[Закрыть]Эта привязанность сохранилась даже после отъезда Сладкопевцева из Нижнего Новгорода.
Как и Чернышевский, Добролюбов очень озабочен тем, чтобы его собственные «пороки» были свойственны кому-нибудь из великих людей. Слава Богу, он не один такой: «Рассказывают, наверное, что Фонвизин и Гоголь были преданы онанизму, и этому обстоятельству приписывают даже душевное расстройство Гоголя». [29]29
Там же. С. 466.
[Закрыть]
Добролюбов мечтает о большой возвышенной любви, о женщине, с которой он мог бы делить свои чувства до такой степени, чтобы она читала вместе с ним его произведения, тогда он «был бы счастлив и ничего не хотел бы более». Увы, такой женщины нет, и «сознание полной бесплодности и вечной неосуществимости этого желания гнетет, мучит меня, наполняет тоской, злостью, завистью…». [30]30
Там же. Т. 9. С. 340.
[Закрыть]Сестры его учеников, к которым юноша вожделеет, смотрят на него свысока, а спит он с проституткой, которую не может полюбить, «потому что нельзя любить женщину, над которой сознаешь свое превосходство». [31]31
Там же. Т. 8. С. 517.
[Закрыть]Высокие мечты и притязания не позволяют «ни малейшему чувству вкрасться в животные отношения. Ведь все это грязно, жалко, меркантильно, недостойно человека». [32]32
Там же. С. 553.
[Закрыть]
Ни в онанизме, ни в гомоэротизме, ни в раздвоенности чувственного и нежного влечения не было, разумеется, ничего исключительного. [33]33
Надо сказать, что онанизм, а точнее – отношение к нему, традиционно составляет один из болевых комплексов российского менталитета. По словам Дмитрия Галковского, «это вообще «русская болезнь»: «Существует полушутливая классификация европейских народов: немцы склонны к садомазохистскому комплексу, французы к эротомании и т. д. Русские явно склонны к онанизму. Какой-то европеец сказал, что любовь – это преступление, совершаемое вдвоем. Русские предпочитают совершать преступление в одиночку. Мечты сбываются очень быстро и в максимально грубой форме. В форме топора… Прямая связь между прекраснодушными фантазиями и грубейшей физиологической реальностью. Реальностью, никогда до конца не реализующейся и не приносящей подлинного наслаждения». Галковский Дмитрий.Бесконечный тупик (Фрагменты из книги) // Волшебная гора, № 1. М., 1993. С. 67. Вслед за Розановым Галковский связывает онанизм с ирреальностью российской политической жизни, когда политически бессильные люди тем не менее живут почти исключительно общественно-политическими вопросами. Эта интеллектуальная конструкция остроумна и по-своему убедительна. Но если спуститься от философских метафор к сексологическим реалиям, то окажется, что в России больше не столько онанизма, сколько мастурбационной тревожности, то есть связанных с онанизмом иррациональных тревог и страхов, что объясняется низким уровнем сексуальной культуры. Эта проблема очень остра для нас и сегодня часто используется для реакционных политических спекуляций.
[Закрыть]Подобные переживания были свойственны бесчисленным юношам XIX в., да и не только его, и на Западе. Однако в своих одиноких мечтах молодые и честолюбивые русские радикалы видели себя совсем другими – красивыми, ловкими, благородными, спасающими падших женщин и показывающими всем остальным людям примеры нравственности. И в своих сочинениях и критических оценках они, естественно, исходили не из своего реального жизненного опыта, который сами же осуждали, а из воображаемых образов Я.
Вместо того чтобы способствовать развитию терпимости, безуспешная внутренняя борьба превращается в принципиальное – нравственное и эстетическое – осуждение и отрицание всякой чувственности как пошлой и недостойной.
Не в силах ни обуздать, ни принять собственную чувственность, Белинский крайне неодобрительно относится к проявлениям ее в поэзии, например, Александра Полежаева. Рассуждая с точки зрения воображаемого невинного «молодого мальчика», которого надо всячески оберегать от соблазнов, «неистовый Виссарион» походя бранит Боккаччо, а роман Поль де Кока называет «гадким и подлым» произведением. Писарев осуждал Гейне за «легкое воззрение на женщин» и т. д.
Следует подчеркнуть, что подозрительно-настороженное отношение к сексуальности, унаследованное от шестидесятников и народовольцами, – не просто проявление личных психосексуальных трудностей, но и определенная идеология. Если консервативно-религиозная критика осуждала эротизм за то, что он противоречит догматам веры, внемирскому аскетизму православия, то у революционных демократов эротика никак не вписывается в нормативный канон человека, призванного отдать все свои силы борьбе за освобождение трудового народа. В сравнении с этой великой общественной целью все индивидуальное, личное выглядело ничтожным. Даже тончайшая интимная лирика Афанасия Фета, Якова Полонского или Константина Случевского казалась пошлой радикальным народническим критикам 2-й половины XIX в., а уж между эротикой, «клубничкой» и порнографией они разницы и вовсе не видели.
Короче говоря, социально-политический и нравственный максимализм русской демократической мысли оборачивается воинствующим неприятием тех самых эмоциональных, бытовых и психофизиологических реалий, из которых, в сущности, складывается нормальная человеческая жизнь. Художник или писатель, бравшийся за «скользкую» тему, подвергался одинаково яростным атакам и справа и слева. Это серьезно затормозило развитие в России высокого, рафинированного эротического искусства и соответствующей лексики, без которых секс и разговоры о нем неминуемо выглядят низменными и грязными.
Конечно, не следует упрощать картину. Хотя представители русской академической живописи 1-й половины XIX в. не писали явных эротических сцен, без Карла Брюллова, Александра Иванова, Федора Бруни история изображения нагого человеческого тела была бы неполной. Замечательные образы купальщиц, балерин, вакханок создал Александр Венецианов.
Как и их западноевропейские коллеги, русские художники были вынуждены многие годы использовать стратегию, которую Питер Гэй назвал «доктриной расстояния»: «Эта доктрина, впечатляющий пример того, как работают защитные механизмы культуры, полагает, что чем более обобщенным и идеализированным является представление человеческого тела в искусстве, чем больше оно задрапировано в возвышенные ассоциации, тем менее вероятно, что оно будет шокировать своих зрителей. На практике это означало изъятие наготы из современного и интимного опыта, путем придания ей величия, которое могут дать сюжеты и позы, заимствованные из истории, мифологии, религии или экзотики». [34]34
Gay Peter.The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Vol 1. Education of the senses. N. Y.: Oxford University Press. 1984. P. 391.
[Закрыть]
До 1890-х годов сексуальность и эротика были в основном частным делом. На рубеже столетия положение радикально изменилось. Ослабление государственного и цензурного контроля вывело на поверхность многие скрытые тенденции, тайное стало явным. Новая чувственность как естественная реакция против долгого господства морализаторства и аскетического пуританства была направлена не только против официальной церковной морали, но и против ханжеских установок демократов-шестидесятников. Вместе с тем это был закономерный этап развития самой русской романтической культуры, которая уже не вмещалась в прежние нормативные этические и эстетические рамки. Сенсуализм был естественным аспектом новой философии индивидуализма, властно пробивавшей себе дорогу.
Толчком к осознанию общего кризиса брака и сексуальности послужила толстовская «Крейцерова соната», в которой писатель публицистически заостренно выступил практически против всех общепринятых воззрений на брак, семью и любовь. [35]35
В дальнейшем изложении этого вопроса я опираюсь на монографию датского филолога Peter Ulf Möller. Postlude to the Kreutzer Sonata. Tolstoj and the Debate on Sexual Morality in Russian Literature in the 1890s. Leiden; N. Y. E. J. Brill. 1988.
[Закрыть]
В противоположность либералам и народникам, видевшим корень зла в частной собственности и неравенстве полов, Толстой усматривал его в принципе удовольствия. Герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев панически боялся как своей собственной, так и всякой иной сексуальности, какой бы она ни казалась облагороженной: «…Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно». [36]36
Толстой Л. H.Крейцерова соната // Собрание сочинений в 22 томах. М.: Художественная литература. 1982. Т. 12. С. 151.
[Закрыть]Этот ригоризм, в сочетании с патологической ревностью, делал Позднышева неспособным к взаимопониманию с женой и в конечном счете побуждал убить ее. Но трагедия эта, по мнению Толстого, коренилась не в личных качествах Позднышева, а в самой природе брака, основанного на «животных» чувствах.
После выхода книги некоторые ее демократические критики, в частности Н. К. Михайловский, пытались отделить Толстого от его героя. Однако в послесловии к «Крейцеровой сонате» Толстой открыто идентифицировался с Позднышевым и уже от своего собственного имени решительно осудил плотскую любовь, даже освященную церковным браком:
«…Достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было опоэтизировано, есть цель, недостойная человека, так же как недостойна человека… цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи». [37]37
Толстой Л. Н.Послесловие к «Крейцеровой сонате» // Собрание сочинений в 22 томах. М., 1982. Т. 12. С. 201.
[Закрыть]
Более нетерпимый, чем апостол Павел, Толстой отрицал самую возможность «христианского брака»: «Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему; плотская же любовь, брак есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению Богу и людям, а потому с христианской точки зрения – падение, грех». [38]38
Там же. С. 206.
[Закрыть]
Поскольку произведение такого рода было слишком откровенным и взрывчатым – о физической стороне брака упоминать было вообще не принято, царская цензура запретила его публикацию в журнале или отдельным изданием. Но цензурный запрет только увеличил притягательность произведения, которое задолго до публикации стало распространяться в списках и читаться в частных домах, вызывая горячие споры.
То же самое происходило и за рубежом. Американская переводчица Толстого Исабель Хэпгуд, прочитав книгу, отказалась переводить ее, публично объяснив свои мотивы (апрель 1890 г.): «Даже с учетом того, что нормальная свобода слова в России, как и всюду в Европе, больше, чем это принято в Америке [а мы-то думали, что Америка всегда была свободнее. России! – И. К.], янахожу язык «Крейцеровой сонаты» чрезмерно откровенным… Описание медового месяца и их семейной жизни почти до самого момента финальной катастрофы, как и то, что этому предшествует, является нецензурным». [39]39
Cit. by Möller, Postlude… P. 103.
[Закрыть]
«Крейцерова соната» послужила толчком к широкому обсуждению всех вопросов брака, семьи и половой морали. Непосредственно на ее тему были написаны рассказы известных писателей А. К. Шеллера-Михайлова, П. Д. Боборыкина, Н. С. Лескова. Все участники споров соглашались с тем, что общество и институт брака переживают острый моральный кризис, но причины этого кризиса и способы выхода из него назывались разные. И если в 1890-х годах на первом плане стояли вопросы половой морали, то в начале XX в. проблема сексуального освобождения стала обсуждаться уже вне религиозного контекста.
Вслед за Толстым в полемику о природе пола и любви включились философы. Началом нового витка дискуссии явилась большая статья выдающегося религиозного философа Владимира Соловьева «Смысл любви» (1892). Против его идеалистической позиции, близкой к взглядам Толстого, выступил писатель и публицист Василий Розанов. В книгах «Семейный вопрос в России» (1903) и «В мире неясного и нерешенного» (1904) Розанов поэтизировал и защищал именно плотскую любовь: «Мы рождаемся для любви. И насколько мы не исполнили любви, мы томимся на свете. И насколько мы не исполнили любви, мы будем наказаны на том свете». [40]40
Розанов В.Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. В.Том 2. Уединенное. М.: Правда. 1990. С. 289.
[Закрыть]
Русская философия любви и пола была больше метафизической, чем феноменологической. Метафизика пола и сексуальности реабилитировала абстрактный Эрос, но как только речь заходила о реальном телесном наслаждении, она тут же говорила «нет!».
Неприятие и нереализованность собственных сексуально-эротических влечений, характерные для этого круга мыслителей, породили интеллектуальную непоследовательность и туманность формулировок. Метафизика пола и любви позволяла русским мыслителям стать в чем-то выше ограниченных биологических и социологических теорий сексуальности. Но при этом многие конкретные вопросы остались принципиально неясными.
В художественной литературе и живописи было больше непосредственности, чем в философии, но обсуждались, в сущности, те же вопросы. По выражению Константина Бальмонта, «у Любви нет человеческого лица. У нее только есть лик Бога и лик Дьявола». [41]41
Бальмонт К.О Любви. Русский Эрос, или Философия любви в России. М.: Прогресс. 1991. С. 99.
[Закрыть]Хотя во всем этом было много риторики, эротика и чувственность получили права гражданства в русской поэзии (Алексей Апухтин, Константин Бальмонт, Николай Минский, Мирра Лохвицкая и многие другие).
В начале XX в. появилась и русская эротическая проза: рассказы «В тумане» и «Бездна» Леонида Андреева (1902), «Санин» Михаила Арцыбашева (1907), «Мелкий бес» Федора Сологуба (1905), «Дачный уголок» и «В часы отдыха» Николая Олигера (1907), «Гнев Диониса» Евдокии Нагродской (1910), «Ключи счастья» Анастасии Вербицкой (1910–1913) и т. д.
Настоящий взрыв эротизма и чувственности произошел в живописи. Достаточно вспомнить полотна Михаила Врубеля, «Иду Рубинштейн» Валентина Серова, остроумные откровенно сексуальные шаржи Михаила Зичи, пышных красавиц Зинаиды Серебряковой и Натальи Гончаровой, элегантных маркиз и любовные сцены Константина Сомова, смелые рисунки на фольклорные темы Льва Бакста, обнаженных мальчиков Кузьмы Петрова-Водкина, вызывающих «Проституток» Михаила Ларионова. Русская живопись убедительно доказывала правоту Александра Головина, что ни один костюм не может сравниться с красотой человеческого тела.
Многие представители художественной элиты начала XX в. открыто признавали и демонстративно выставляли напоказ свою не совсем обычную сексуальность. Новая русская эротика не была ни благонравной, ни единообразной. В искусстве авангарда изображалось и поэтизировалось сексуальное насилие, смерти и самоубийства, трупы, скелеты и т. п. Очень моден был демонизм. Наряду со сложным авангардным искусством, которое шокировало публику главным образом необычностью своего содержания, в начале XX в. в России появилась коммерческая массовая культура, в которой эротика заняла видное место. Рекламировались фотографии голых красавиц. Все это, естественно, казалось непристойным.
Русское общество начала XX в. было не готово к дифференцированному восприятию разнородных явлений. В сознании многих интеллигентов они сливались в общую картину ужасающей «половой вакханалии», как назвал одну из своих статей 1908 г. Д. Н. Жбанков. Секс и эротика приобрели значение обобщенного политического символа, через отношение к которому люди выражали свои общие морально-политические взгляды. Но этот символ сам по себе был противоречив и многозначен.
Авторы консервативно-охранительного направления утверждали, что «одержимость сексом», подрывающая устои семьи и нравственности, порождена революционным движением и безбожием. Социал-демократы, наоборот, доказывали, что это – следствие наступившей вслед за поражением революции 1905 г. реакции, результат разочарования интеллигенции в общественной жизни и ухода в личную жизнь.
Самое интересное, что и те и другие были правы. Демократизация общества была невозможна без критического пересмотра патриархальной морали, включая методы социального контроля за сексуальностью; «сексуальное освобождение» было составной частью программы обновления общества, предшествовавшей революции 1905 г. Вместе с тем поражение революции, подорвав интерес к политике, побуждало людей искать компенсации в сфере личного бытия и прежде всего – в сексе.
Логика правых и левых была одна и та же: секс – опасное оружие классового (национального) врага, с помощью которого он подрывает, и не без успеха, духовное и физическое здоровье «наших».
Многие популярные произведения эротической литературы начала XX в. были художественно средними, а то и вовсе примитивными (например, романы Нагродской или Вербицкой). Критиковать их было очень легко, причем бездарная форма дискредитировала и поставленные авторами проблемы. «Все это не литература, а какой-то словоблудный онанизм», – писал А. Ф. Кони. [42]42
Кони А. Ф.Письмо Н. В. Султанову, 18 апреля 1908 г. // Собрание сочинений в 8 томах. М.: Юридическая литература. 1969. Т. 8. С. 259.
[Закрыть]
Но не все подобные оценки были справедливы. Любая книга, так или иначе затрагивавшая «половой вопрос», кого-то оскорбляла и потому сразу же оказывалась в атмосфере скандала. Примитивное понимание литературы как учительницы жизни приводило к тому, что книги оценивались не по художественным, а по социально-педагогическим критериям, – годятся ли они как примеры для подражания всем и каждому. А поскольку сексуальность, даже самая обычная, казалась грязной, критика была особенно придирчивой, обвиняя авторов во всех смертных грехах.
Прочитав первые страницы романа Александра Куприна «Яма», Толстой сказал пианисту А. Б. Гольденвейзеру: «Я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая это, наслаждается. И этого от человека с художественным чутьем нельзя скрыть». [43]43
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 303, 304.
[Закрыть]Отрицательной была и реакция Корнея Чуковского: «Если бы Куприну и вправду был отвратителен этот «древний уклад», он сумел бы и на читателя навеять свое отвращение. Но… он так все это смакует, так упивается мелочами… что и вы заражаетесь его аппетитом». [44]44
Цит. по: Куприн А. И.Собрание сочинений в 6 томах. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 5. Примечание. С. 749–750.
[Закрыть]Еще примитивнее рассуждали о вредном воздействии эротической литературы на молодежь педагоги и врачи.
Новая русская эротика, и в этом было ее освободительное значение, реабилитировала тело и чувственность, но это часто выглядело примитивным. В арцыбашевском «Санине» сексуальность все время переплетается с насилием и смертью. В небольшой по объему книге происходят три самоубийства и одна неудачная попытка убийства. Самый секс кажется грубым и безрадостным: мужчина берет женщину силой, унижает ее, она счастлива пережить это, а потом оба испытывают чувство вины и стыда.
Эти упрощенные схемы легко поддавались дальнейшему упрощению и пародированию. «Русская порнография, – писал в 1908 г. Корней Чуковский, – не просто порнография, как французская или немецкая, а порнография с идеей. Арцыбашев не просто описывает сладострастные деяния Санина, а и всех призывает к таким сладострастным деяниям».
«Люди должны наслаждаться любовью без страха и запрета. И это слово должны– остаток прежних интеллигентских привычек, пережиток прежнего морального кодекса, который на наших глазах исчезает». [45]45
Чуковский Корней.Нат Пинкертон (1908) // Собрание сочинений в 6 томах. М.: Художественная литература. 1969. Т. 6. С. 147.
[Закрыть]
Однако это была не порнография! Арцыбашев утверждал не столько гедонизм, сколько право индивида всегда оставаться самим собой и не ставить предела своим желаниям. В душном провинциальном городишке, где развертывалось действие «Санина», кроме секса, нечем было заняться. В последней сцене романа Санин покидал город и шел навстречу подымающемуся солнцу, как бы намекая читателю, что его настоящая жизнь – впереди. Этот «новый человек», идивидуалист и циник, был не особенно симпатичен, но зато силен, и в условиях столыпинской реформы будущее, возможно, оказалось бы за ним.
Искусство Серебряного века доказало, что русская культура шла по пути создания высокой эротики и делала это достаточно успешно и оригинально. Издержки и перехлесты этого процесса были неизбежны и закономерны. Россия в этом отношении мало чем отличалась от Запада. Однако русское эротическое искусство в гораздо большей мере, чем западное, было элитарным, верхушечным. В отличие от привычной, «истинно-народной», матерщины оно воспринималось и правыми, и левыми как нечто болезненное, декадентское, чуждое классическим традициям, аморальное и эстетически отталкивающее. Метафизический русский Эрос не совмещался с Логосом, индивидуализм приходил в непримиримое противоречие с коллективистической тоской по соборности.
Вячеслав Иванов недаром называл свой идеал «Эросом невозможного», признавая, что «Дионис в России опасен», [46]46
Цит. по кн.: Эткинд Александр. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза. 1993. С. 61.
[Закрыть]а Бердяев позже увидел в большевистской революции «дионисические оргии темного мужицкого царства», грозящие «превратить Россию со всеми ее ценностями и благами в небытие». [47]47
Бердяев Н. А.Гибель русских иллюзий // Собрание сочинений. Париж, IMCA-Press. 1990. Т. 4. С. 119. Цит. там же.
[Закрыть]На самом деле это было, конечно, совершенно разное «дионисийство». Первые слабые ростки русского эротического искусства не успели укорениться в общественной жизни и были сметены революционной бурей 1917 г.
В. Я. Петрухин
ВАРЯЖСКАЯ ЖЕНЩИНА НА ВОСТОКЕ: ЖЕНА, РАБЫНЯ ИЛИ «ВАЛЬКИРИЯ»?

Специальный интерес к судьбам женщин, оказавшихся на «Востоке», в том числе на Руси, в эпоху викингов, в IX–XI вв., проявившийся в специальных работах ряда исследователей (Пушкина, 1972; Стальсберг, 1987; Янссон, 1987; Жарнов, 1991), не связан с узко «феминистическими» проблемами. Женские украшения – общепризнанный этнический показатель, наличие скандинавских овальных фибул считается надежным признаком скандинавского погребения. Открытие все большего числа скандинавских женских могил на Руси, согласно А. Стальсберг, свидетельствует о том, что норманны брали с собой свои семьи (ср. легенду о призвании варягов, собравшихся «со своим родом») и чувствовали себя на Руси в безопасности (Стальсберг, 1987).
Противоположной точки зрения придерживается Ю. Э. Жарнов, который считает, что варяги, в частности в Гнездове, были лишь «временным» военным и торговым контингентом на Руси, и обилие их могил свидетельствует о том, что немногие счастливчики добирались на родину, в Скандинавию (Жарнов, 1991, с. 219–220). Последняя точка зрения выглядит по меньшей мере парадоксом у автора статьи о женских скандинавских погребениях (которые составляли, по его подсчетам, едва ли не половину всех женских погребений в Гнездове), ибо трудно предположить, что «временный контингент» брал с собой женщин на Русь для того, чтобы они разделили его несчастливую судьбу. Конечно, русские норманны, судя по данным погребального обряда, не выглядят «несчастными» – скандинавские комплексы принадлежат к самым богатым и пышным в некрополях древнерусских городов (Киев, Чернигов) и погостов (Гнездово под Смоленском, Шестовица под Черниговом, Тимерево в Верхнем Поволжье и др.) X в. Норманны формировали высший слой русского общества – ту самую «изначальную» Русь, которая составляла дружины первых русских князей (Мельникова, Петрухин, 1989).
К богатым комплексам относятся и киевские гробницы с женскими погребениями, имеющие комплекты овальных фибул, крестовидные привески и т. п. (Каргер, 1958, с. 208–212); сходные гробницы известны в Гнездове (12 камер, Жарнов, 1991, с. 208), Тимереве (№ 297 – камера, где, видимо, погребена знатная женщина со служанкой – Дубов, Седых, 1992); среди «богатых» женских сожжений, в том числе в ладье, – раннее (IX в.) погребение в урочище Плакун под Ладогой (Корзухина, 1971, с. 59–64), может быть, большой гнездовский курган №65 (ср. Авдусин, 1974, с. 81).
Но судьба женщины была все же далека от идиллии, во всяком случае в языческую эпоху, что очевидно для А. Стальсберг: исследовательница отмечает значительное количество парных погребений, где женщина со скандинавскими украшениями оказывалась насильственно умерщвленной на похоронах знатного дружинника. А. Стальсберг отрицает обычай «сати» – добровольной смерти вдовы на похоронах мужа (ср. Шетелиг, 1908/1909) и видит в погребенных с мужчинами-воинами наложниц, возможно, нескандинавского происхождения, но облаченных в скандинавский традиционный костюм (ср. также Жарнов, 1991, с. 215). Действительно, судя по материалам того же Гнездова, где дружинник по крайней мере в двух случаях был погребен не с одной, а с двумя женщинами, в них трудно признать «жен» (Жарнов, 1991, с. 205, «большой» курган № 74: Авдусин, 1974, с. 80). Кроме того, и в Скандинавии, и на Руси знатные женщины имели высокий социальный статус – ср. статус послов русских дам, перечисленных в договорах с греками наряду с княжескими послами, и т. д.
Что касается «неместного» происхождения женщин, одетых в скандинавский костюм для убийства на похоронах, то это сугубо умозрительное предположение оказывается в противоречии с новым и весьма интересным подходом к оценке количества скандинавских погребений, предложенным недавно И. Янссоном (Янссон, 1987). Дело в том, что в некрополях, где есть скандинавские погребения, будь то Приладожье, Верхнее Поволжье, Гнездово или Киев, вполне определенно выделяются именно скандинавские комплексы: предполагаемые финские, славянские и даже балтские комплексы не находят детальных соответствий в синхронных древностях.
Обряд трупосожжения под полусферическим курганом, как верно указывает Янссон, – в равной степени характерен для Руси и для Скандинавии: в Гнездове, например, среди нескольких таких насыпей, расположенных рядом, может оказаться курган с железной гривной на славянском горшке-урне, но это не значит, что он один оставлен скандинавами, а прочие – славянами. Между тем, исходя из презумпции «местного» большинства, исследователи (А. Стальсберг и др.) вычисляли «процент» скандинавских комплексов, опираясь на выделенные скандинавские комплексы, и он оказывался очень низким (от 0 до 8 процентов у А. Стальсберг); другие авторы требовали учета только определимых скандинавских и «местных» погребений, а не всех комплексов некрополя, – тогда «процент» возрастал до 13 (Л. С. Клейн и др.). Ю. Э. Жарнов подсчитал, что скандинавские женские погребения составляют 40 % от ингумаций и 50 % от кремаций среди выделенных одиночных женских погребений в Гнездове (Жарнов, 1991, с. 215). Наконец, И. Янссон предложил способ подсчета, наиболее независимый от гипотетических «местных» признаков: он сравнил некрополь Бирки и целиком раскопанную курганную группу у Тимерева по числу овальных фибул, найденных в кремациях, – соответственно в Бирке на 570 кремаций приходится 26 комплексов с фибулами, в Тимереве на 329–25, пропорция в Тимереве оказалась большей. Гнездово с 44 комплексами, имеющими остатки овальных фибул и приходящимся приблизительно на 1000 исследованных кремаций, приближается к показателю Бирки. О Тимереве И. Янссон (1987, с. 750) осторожно замечает: «Не следует полагать, что количество фибул было бы большим, если бы Большое Тимерево было чисто скандинавским поселением». Эти подсчеты позволили И. Янссону сделать заключение о том, что «в эпоху викингов шведская иммиграция на Русь была значительной» (там же).
Конечно, подсчеты И. Янссона не отменяют поиска «славянских» могил в Гнездове и Тимереве, но они делают малоперспективными предположения о том, что среди женщин, одетых по-скандинавски, могли оказаться местные жительницы. Напротив, число скандинавок в пунктах, связанных с деятельностью русской дружины, в Тимереве и Гнездове, судя по фибулам, могло быть более значительным, чем на родине, в Бирке. Что заставляло этих женщин сопровождать русских дружинников в Восточной Европе и даже в их загробной жизни?
Хрестоматийные известия арабских авторов о том, что в могилу, устроенную в виде большого дома, русы кладут живьем любимую жену покойника (Ибн Русте, начало X в.: Новосельцев, 1965, с. 398), о том, что жена сжигается живой с мужем, что «если кто-нибудь умирает холостым, его женят посмертно, и женщины горячо желают быть сожженными, чтобы с душами мужей войти в рай» (Масуди, середина X в., см.: Минорский, 1963, с. 192 и сл.), дают мало для понимания реального статуса русских женщин. «Любимая жена» – это явное отражение исламских представлений. Кроме того, сведения о самоубийстве вдов входят в стереотип описания варварских (языческих) народов, в том числе славян, у раннесредневековых авторов. Так, византийский автор VI в. Маврикий писал о славянах: «Жены же их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существование во вдовстве» (Свод, с. 369). Такой же обычай приписывался фракийцам и герулам (там же, с. 383–384). Обычай сати известен и исландским сагам (см. Эллис-Дэвидсон, 1976, с. 309 и сл.), но это либо так называемые саги о древних временах, где уже нет традиционной для прочих саг установки на достоверность, либо, как в «Книге Плоского острова», героиня отвергает древний обычай, не желая расставаться с жизнью.
Любопытно, что Ибн Русте достаточно точно описывает обряд ингумации в могиле – «большом доме» у русов, трупоположение в камерной гробнице, в начале X в., когда этот обряд еще не распространился собственно на Руси: одна камерная гробница рубежа IX и X вв. известна в Плакуне под Ладогой, но она содержала одиночное погребение мужчины (Назаренко, 1985, с. 168). Видимо, русские информаторы арабских авторов описывали обычай, распространенный в Скандинавии: там, в некрополе Бирки, камерные гробницы известны с IX в. Соответственно, информация об «острове русов», окруженном озером, могла относиться к острову Бьёрко (Бирка) на озере Меларен. В одной из камерных гробниц Бирки (погребение 644 – Арбман, 1943, с. 221–226) женщина располагалась на коленях у погребенного воина.
Очевидцем смерти женщины на похоронах знатного руса был Ибн Фадлан в 921/922 гг. – его «рисале» позволяет прояснить статус сопровождавших русов женщин. Русы прибыли на Волгу в Болгар с торговыми целями. Согласно описанию Ибн Фадлана с ними были жены с монистами, свидетельствующими о богатстве мужей, и девушки, предназначенные для продажи. В построенных русами больших домах собирается десять или двадцать русов, «и у каждого [из них] скамья, на которой он сидит, и с ними [сидят] девушки-красавицы для купцов. И вот один [из них] сочетается со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. А иногда собирается [целая] группа из них в таком положении один против другого и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней. Он же [рус] не оставляет ее, пока не удовлетворит своей потребности» (Ковалевский, 1956, с. 142).
Термином «джария» – «девушка» – у арабов именовались наложницы, прислуга, невольницы. Но тем же термином обозначена и «девушка», согласившаяся добровольно следовать на тот свет «в рай» вслед за своим господином, и старуха – «ангел смерти», – осуществлявшая жертвоприношение этой «девушки», что больше соответствует статусу «свободной» женщины (ср. Ковалевский, 1956, с. 246; Калинина, 1995, с. 136–137). Однако «свобода» в данном случае не может считаться полной: согласившаяся на смерть девушка (или юноша – «гулям», но чаще, по Ибн Фадлану, это были девушки) уже не может переменить решение (Ковалевский 1956, с. 143). Отнесение к одному статусу «джарии» девушки и старухи, совершающей ритуал, а также ее дочерей – «ассистенток», может свидетельствовать как об их социальном, так и ритуальном равенстве: в ритуалах «девушки» приравнивались к «старухам» по признаку «чистоты». Вместе с тем предполагать особо низкий статус «джарий» (и «гулямов») нет оснований: всматриваясь в иной мир через ритуальные ворота, поставленные на месте сожжения, готовая к смерти девушка видит своих отца и мать, родственников и, наконец, господина с мужами и отроками («гулямами») в том же «раю». Вероятно, в собственно древнерусском обществе такой «джарией» была и ключница княгини Ольги Малуша, полюбившаяся Святославу: она занимала достаточно важный пост при дворе княгини, но сын ее Владимир именовался «робичичем» – сыном рабыни (ПВЛ, ч. 1, с. 94; ср. скандинавские параллели – Каррас, 1990).








