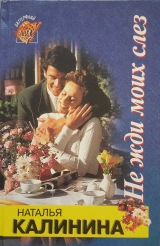
Текст книги "Не жди моих слез"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Послушай, может, нам пригласить твою Викторию? Я с ней, правда, незнаком, но ведь ты говорила, что она вроде бы критик?
– Пригласи. Я дам тебе ее телефон.
– Да нет, это, пожалуй, не совсем удобно. Хотя, впрочем, давай…
Знаю, ты не умеешь устраивать свои дела. Но иной раз так суетишься, словно вопрос идет о жизни или смерти. Я тебя могу понять – тоже когда-то суетилась. Пока не поняла, что на самом деле мне не жарко и не холодно от моих успехов и неудач. Но одно дело я, у которой всегда на первом месте были какие-то глупости, а другое…
Теперь я молчу очень долго – испытываю тебя, себя, телефонное время. Наконец не выдерживаю.
– Ты из дома?
– Нет, из театра.
– И вокруг тебя люди?
Это не без малюсенькой подковырки – на людях ты всегда был со мной сух и официален.
– Нет, я в комнате один.
Единственное слово – и Нева обратится вспять. Тем более что я, во имя собственного спасения, не помню зла. Мое прошлое должно иметь привкус сладкой грусти, а не змеиной горечи. Это – закон моего существования в окружающей среде. Но если я скажу это слово, а оно повиснет в воздухе? Догадываюсь, то же самое прокручиваешь в голове и ты. «Смиряй свою гордыню. От гордости все беды. Гордость и любовь – несовместимы»… Увы, не все прописные истины истинны. Что было плохо вчера, оказывается, хорошо сегодня. Так смирить или не смирить?..
Сейчас молчание между нами совсем такое, как два года назад, когда мы прислушивались к дыханию друг друга.
– …Скажи что-нибудь хорошее.
– Я хорошая. И ты хороший. И вдвоем нам – хорошо.
– И только? А разве ты меня?..
– Представь себе – нет. Всю душу обшарила, но не нашла в ней ничего похожего на… сам понимаешь, что. Там сидишь ты на большом, с кованой крышкой, сундуке, стучишь по нему копытами, которые безуспешно пытаешься обуть в белые туфли с…
– На самом деле я их давно снял, сейчас расстегиваю рубашку и здесь, прямо на сундуке, тебя… У меня кончаются монеты. Ты на самом деле по мне скучаешь?..
– Что? Ничего не слышно! Але! Але!!!
Господи, неужели я все-таки запуталась в правилах согласования времен?
– Я сказала, что скучаю по хорошей погоде. У нас тут дождик. Мокрый серый дождик…
Два года назад лило как из преисподней. Ты промокал в своих летних башмаках, я согревала ладонями твои ступни. Осень стояла такая желтая, что больно было смотреть по сторонам. И дождик был желтый. Совсем не мокрый желтый дождик…
– Расскажу тебе, как пройдет премьера.
– Расскажешь.
– Пока, да?
– Пока, пока. Желаю удачи. С Богом.
Вешаю трубку вперед тебя, чтобы не испортить свое впечатление от собственной независимости. Не больно. Не грустно. Хуже – пусто…
– У меня слов нет. Ну ты и шизуля, – говорит вечером младшая подруга, которой я бесстрастно и без утайки (чего раньше никогда не было, раньше – клещами тащи) пересказываю разговор. – Потрясающий мужик. Приучен к легким победам. Бабы землю под ним лижут. А тут как будто ролями поменялись.
– Ошибаешься, никто ролями не менялся, – слабо возражаю я.
– Молчи. Сама все видела.
– И что же ты видела?
– То, что ты не умеешь пользоваться преимуществом своих чар.
Подруга энергично ввинчивает в горшок с плющом сигарету и тут же зажигает новую. Она нервничает больше чем я, настоящая психопатка.
– А для чего мне?
– Как для чего? Да хотя бы для самоуспокоения. Зачем разбрасываться такими мужиками? Вдруг пригодится?
– Но я ведь ничем его не обидела. Думаешь, он мне на самом деле может пригодиться?
– Ну, знаешь… Сказала бы я, да слов не хватает. А если больше не позвонит и вообще…
– Что вообще?
– Вычеркнет из жизни.
Пожимаю плечами. Хотя знаю – не вычеркнет. Не вычеркнет.
– А если вдруг столкнешься с ним где-нибудь нос к носу? Ну, в Большом театре, Большом зале?..
– Я там давным-давно не была. Он, надеюсь, тоже.
– Боитесь друг друга?
Может, и боимся. Чего? Неужели того, что все может начаться сначала?
– Я не боюсь. А ему некогда. Дела сердечные не должны мешать казенным.
– Так я и поверила, что он променяет тебя…
Я поворачиваюсь к плите и зажигаю газ под чайником. Я тоже отказываюсь в это верить. Согласно логике наших взаимоотношений… Какая к черту логика? К тому же сколько людей, столько и логик.
– И тебе не хочется на премьеру?
– Там будет много народу и… неискренних восторгов.
– Ага, вот и выдала себя с головой: хочешь наедине и с самыми искренними чувствами.
– Представь себе – расхотела. Слишком долго хотела. Это какой-то физиологический феномен.
Подруга внезапно мрачнеет. Знаю, ей хочется, искренне хочется, чтобы наши отношения длились бесконечно – ей легче дышится под сенью романтического, слегка авантюристического и вообще того, что не похоже на происходящее вокруг. Тогда и она выдумает себе что-нибудь в том же духе – все в этом мире заразно.
– Помнишь, как ты рыдала, просила, чтоб я ему позвонила, – пытается вразумить меня подруга.
– Ты сама предлагала свои услуги.
– Потому что это нужно было тебе. К тому же он выдерживал характер – это я тебе точно говорю.
– Вероятно, он не учел, что в искусстве одни законы, а в жизни несколько иные. Чем больше женщину мы любим…
– Ты права, тысячу раз права, но он тоже не виноват.
– Какая разница, кто прав, кто виноват. Суть теперь не в этом.
– А в чем же?
– Ты видела когда-нибудь, как провизор отвешивает на своих точных – до доли миллиграмма – весах всякие порошки? Карьера, общественное мнение, устроенность, покой и прочее, прочее, проверенное, безопасное, бессюрпризное на одной чашечке, а на другой – сплошная неизвестность. Обе чашечки балансируют в воздухе, и наш провизор относительно спокоен. Но вот одна камнем падает вниз, грозя сломать весы. Ну да, он переложил в нее каких-то лекарств, которые в таком количестве превращаются в яды. И наш провизор, не долго думая, выкидывает их на помойку и тщательно моет руки.
– Ты напоминаешь мне сборник библейских притч. Их весьма поучительно читать, но, полагаю, их писали не забавы ради, а чтобы унять скрежет зубов.
Я стою возле окна и смотрю на черный, весь в пунктирах красных автомобильных огней переулок, стрелой впивающийся в наш дом где-то прямо подо мной. Я считаю огоньки. Если, пока закипит чайник, насчитаю двадцать семь, произойдет то, чего я хочу, но в чем даже себе самой боюсь признаться по секрету. Вместо того, чтобы выразить это в виде какой-то житейской формулы, я представляю себя в большом пустом доме под могучими деревьями, выбегающую в холодные сени на твой, безошибочно твой стук…
– Задумала сжечь чайник? – слышу издалека голос. – Где у тебя заварка? Сошлось?
– Их было двадцать шесть. Тринадцать машин. Двадцать семь быть никак не могло – к нам нельзя подъехать на мотоцикле. Но это все правильно – мы бы все равно не ужились под одной крышей.
– Прекрасно бы ужились. Я видела вас вместе.
– Понимаешь, у нас всегда одни и те же желания. Представь себе, это очень плохо – иметь одни и те же желания. Потому что всегда нужен кто-то третий, чтоб их выполнять.
Дождь, дождь за окном. Мрак. Неизвестность. Потусторонность. А здесь тепло. Ноги мои обуты в мягкие тапочки. И мне не нужно идти куда-то по лужам.
По ту сторону, по эту… По эту сторону никогда не приземлятся летающие тарелки, мечты не материализуются даже в колючий кустик шиповника под окном, любовь обрастет панцирем из прозы быта и бремени мифического долга перед обществом, близкими, собственным будущим и чем-то еще, трепыхнется от удушья и вовсе протянет ножки.
Что это я так непочтительно о вечном чувстве?
… Звонок в дверь, холодок в прихожей, шаги осторожные, как у юноши, который вот уже несколько веков неизменно крадется к балкону возлюбленной. Или нет: походка уверенная, как и должна быть у того, кто достиг в этой жизни чего-то ощутимого.
Мокрая шляпа на вешалке – бисеринки дождя чуть-чуть напоминают утреннюю росу. Тому, кто не боится о ней вспоминать. А я?.. От меня что-то отделяется – больно, неохотно, вопреки воле, – садится в кресло напротив. Ты тоже пришел не один: с каких-то лет, сытых, очевидно, любой здравомыслящий человек предпочитает ходить, сидеть, лежать и так далее – не один.
Мы все между собой знакомы. А если и нет, что толку знакомить заведомо чужих людей? Стол накрыт на двоих: кофе, крошечные рюмки чего-то крепкого, муляжные кружочки тонко нарезанного лимона, похожий на глиняный слепок швейцарский шоколад.
«Хочу жареной рыбы, деревенского хлеба, миску помидоров и много-много самодельного виноградного вина. Хочу! Хочу!» – отчаянно требует существо в кресле напротив. И тот, вошедший с тобой, хочет того же самого, только не смеет сказать об этом вслух.
Хотят – и расхотят. Чужие желания исполняются теми, кто уже растерял свои.
Ты и я – мы оба чего-то достигли в этой жизни. Это значит лишь одно – мы довольно часто сворачивали с нехоженых тропок на шоссе. Сперва, быть может, с неохотой, а потом оказалось, что идти по шоссе даже приятно.
Слышишь, кто-то прорубается нехожеными дебрями. «Бедняга, – подумаем в унисон. – Дай Бог ему скорее образумиться».
Пьем кофе, потягиваем ликер, спокойно и рассудительно, сперва серьезно, потом не без скепсиса, толкуем о наших преуспеяниях в этом мире. В определенные моменты скепсис к лицу преуспевающим – как кружевное жабо Мефистофелю.
Но вдруг мне становится скучно. А тебе, тебе? Ты видишь, как дрожит, припав к оконному стеклу, умирающий кленовый лист?
– Кленовые похожи на виноградные, но ничем не пахнут, – слышится из заторшерного полумрака.
– Ошибаешься – они пахнут увяданием. Но это не про нас с тобой, правда?
С заученной грациозностью наполняю фарфоровые чашечки цивильно пахнущим кофе. Ты глядишь на мою руку, не видя ее. Ты что-то рассказываешь. Я, не слыша, киваю головой…
– У тебя все такое же прозрачное запястье. И голубые жилки-ручейки.
– Ты все так же замечаешь…
Наша с тобой жизнь стабильна и без особенных неожиданностей. Нам и в голову не придет променять ее на что-то иное. Наш мир состоит если не из железобетона, то из какой-то нами же сотворенной миростойкой, по прочности железобетону не уступающей конструкции. Разумом (теперь разумом, а не наоборот, как было раньше) мы понимаем губительность этой стабильности. Душа же ее приветствует, душа тянется к ней – теплому уютному камину вволю накуролесивших душ.
– Мне всегда казалось: наш мир хрупок…
– Да. И оттого в нем так тревожно и радостно жить…
У тебя в чертах появилась спокойная уверенность. Немного отвисли щеки, поблекли глаза. Но ты красив, красив. Вот седина тебе явно не к лицу – смоляной цвет придавал твоему облику таинство страсти. Не нравится моя прическа? Что ж, не могу себе больше позволить расхристанности внешнего вида (духа, кстати, тоже, хоть и воображаю его себе настоящим Геркулесом) – большая часть моей теперешней жизни протекает там, где принято сглаживать шероховатости природы. Твоей жизни, – кажется, тоже.
– …Больше всего на свете люблю твои волосы. Ты с них начинаешься. Волосы, волосы, спрячьте меня, укройте меня…
– А ты посмотри на меня так, как в первый раз…
Потом мы хвалимся успехами наших детей, нас не больно волнующими. Но это принято в нашем возрасте и положении. Нет-нет да прикладываем к губам рюмки – у тебя был инфаркт, у меня сосуды ни к черту.
Бросаю взгляд на тень, пронзительно контрастирующую со спокойным желтым пространством под нашим абажуром. Зябко кутаюсь в шаль. Кажется, радуюсь, что там, в тени, меня нет. Перехватив мой взгляд, ты опускаешь глаза в чашку с кофе.
Они целуются, эти два беспечных существа. На мне венок из виноградных листьев, ты с огромным бокалом недобродившего виноградного вина.
Ощущаю вкус твоего поцелуя и спешу перебить его безвольно мягким и сладким квадратиком бурого заморского шоколада.
Ты поглядываешь на свои часы, я умышленно зеваю, но тут же спохватываюсь. Мы смотрим в разные стороны, но только не туда, не туда…
– Неплохой сюжет, правда, уже обыгранный веками, – говоришь ты с имитацией усмешки на губах. – Попытаюсь осветить его по-новому. Не возражаешь?
– Даже настаиваю. Великих слабости лишь возвышают.
Мы оба смеемся, и оба разом замолкаем.
…Бокал уже наполовину пуст, венок лежит у тебя на груди. Моя голова – тоже. Мы оба молчим – молчание лучший проводник чувств…
Ты просишь у меня позволения позвонить по телефону. Я подаю тебе аппарат и приличия ради удаляюсь в соседнюю комнату. Задерживаюсь возле зеркала: довольно интересна, хорошо ухожена, стройна в длинном платье, спокойно подчеркивающем ненавязчивый уют интеллигентного, даже скорей интеллектуального, дома. Освежаю за мочками ушей «Иссимиаки», поправляю тонкую витую цепочку, провалившуюся в выемку между грудей. Твой голос звучит уверенно и чуть-чуть устало. Вижу в зеркало, как красиво ты откинулся в кресле (раньше закружилась бы голова от этой твоей позы – беззащитной? доверчивой? – теперь голова лишь слегка шумит от ликера)… Вхожу бесшумно, внося с собой устойчивую волну культивированных веками ароматов, ты незряче скашиваешь глаза на меня. Потом… Успокойся, я ничего не замечаю. Потом роняешь в трубку: «Всего вам доброго». Оба изо всех сил стараемся не смотреть в ту сторону, где эти два существа бездумно следуют каждому душевному порыву. Как будто не было двух тысячелетий христианства, как будто падающие с неба звезды можно собирать в ладони, как будто человек во всех его проявлениях – венец природы, как будто… Мы оба близки к тому, чтобы развенчать и осудить страсть. В ближайшем будущем, вероятно, мы так и сделаем. И это прекрасно впишется еще одной иллюстрацией к закону о диалектике бытия. Се ля ви, дамы и господа.
Слегка пригубив рюмку «за все хорошее у тебя и у меня» (мы оба не удивляемся этому «у тебя и у меня», так естественно заменившему «у нас с тобой»), ты бросаешь:
– Пора. Спасибо за все. – И бодро встаешь с кресла.
– Тебе спасибо. За вечер.
Я позволяю себе усмехнуться одними глазами.
Твой взгляд становится внимательным, но лишь на долю секунды. Ты берешь мою протянутую руку и легко подносишь к своим сухим губам.
Накинув шаль, иду провожать тебя к лифту, распахнув на лестницу дверь.
– Еще раз спасибо, – говоришь ты, нажимая на кнопку. – Доброй ночи.
Я громко хлопаю дверью, включаю везде свет. Хватаю едва начатую бутылку ликера, делаю огромный глоток прямо из горлышка. Еще, еще один. К черту сосуды. К черту эту жизнь. К черту, к черту, к черту…
Курим, сидя друг против друга на подоконнике. На ней все тот же венок из виноградных листьев, от нее пахнет вином, беспечностью, вседозволенностью. Она показывает мне язык, открывает легко и без усилий законопаченную на зиму раму и, крикнув: «Погоди, я с тобой!» – сигает в тревожно фиолетовую сырость ночи.
Я долго смотрю вниз, аккуратно прикрываю раму, закрепляю ее задвижкой. Я долго и тщательно мою на кухне две чашки, два блюдца, две ложки, две рюмки. Я очень устала за сегодняшний день. Я сейчас прилягу, выпью снотворное, а там видно будет.
Там видно будет?..
Ну ради чего, спрашивается, сигать очертя голову в осенний мрак?
Совет № 6
ЭТИХ СЛЕДУЕТ БОЯТЬСЯ, КАК ОГНЯ
Ты сделал так, что началась гроза с ливнем – внезапно, что называется, гром среди ясного неба грянул, ветер подхватил мои волосы, впихнул в какие-то узкие решетчатые воротца. А там водили хоровод свечи, там пели что-то, отчего моя душа захотела взлететь. Знал бы кто – куда. Я не сразу догадалась, что я в церкви. Раньше, когда я водила туда иностранцев, она казалась мне таким же казенным учреждением, как музей или выставка. Теперь, когда я очутилась здесь по твоей воле, мне было так, как никогда в жизни не было.
Я вслушалась в слова: любовь вознесет твою душу на неведомые высоты, любовь очистит твою душу от скверны, любовь сделает так, что мир покажется тебе раем. Что-то в этом роде.
Ну, а потом ты сделал так, что я купила букетик фиалок у какой-то полунищенки-полупьяницы, шла, не заходя ни в один магазин, начисто забыв про то, что оставляю всех без обеда и ужина. Я вообще ни о чем на свете не думала – даже о тебе.
К кузине я захожу редко – в год раз и то по какому-либо делу, а тут ты сделал так, что я зашла к ней без дела, мы проболтали до самого вечера, и в основном о тебе. Кузина говорила, я слушала. Она даже не знала, что мы с тобой наконец познакомились, но она говорила и говорила о тебе:
– Он такой бестолковый в быту. У него дома сам черт ногу сломит. Не умеет даже сосисок себе сварить. Пьет по утрам растворимый кофе из глиняной кружки, куда засовывает кипятильник, – когда-нибудь весь дом спалит; поджаривает в тостере хлеб, вернее, делает из него угли – на весь подъезд паленым пахнет. То же самое на обед и на ужин. А грязное белье по всей квартире раскидано: приходится перешагивать через трусы и майки. На шкафу такая пыль, что хоть стихи пиши. Телевизор стоит на пустом ящике чуть ли не из-под туалетной бумаги. В горшке с кактусом окурки и скорлупа от яиц. И кругом – бутылки, бутылки, бутылки. А рояль, представляешь, как со свалки: половина клавиш проваливается в никуда. Дверь ни днем, ни ночью не запирается, – словом, настоящая богема…
Телевизор я почти никогда не смотрю, а тут вдруг прохожу мимо, а парень на экране похож на тебя так, что в первый миг мне показалось… Ну нет, тебя я ни с кем не спутаю, но случается в мире такая похожесть, что диву даешься.
– Гляди, а этот Невзоров чем-то на Валерку нашего похож, – обратил мое внимание муж. – Не то глазами, не то манерой говорить. А, может, расхристанным воротом рубашки. Ну да, им обоим, кажется, все на свете по фигу.
«Или слишком важно», – подумала я, но промолчала. Я поняла, что и это сделал ты, потому что зачем-то задался целью напоминать мне о своем существовании беспрестанно.
Я не принадлежу к женщинам, которые могут составить эпоху в жизни мужчины. Видимо, не дотягиваю – ни красотой, ни интеллектом, ни экстравагантностью запросов и желаний. Не роковая женщина, это точно. На улицах ко мне никто никогда не пристанет, даже в молодости это случалось крайне редко. Почему-то если заплетаешь волосы в косу, если не красишь ногтей и ресниц, если таскаешь хозяйственную сумку, из которой выглядывают куриные лапки и пакет молока, интерес к тебе ровным счетом такой же, как к пустой витрине гастронома. Я рано вышла замуж, поэтому у меня не было нужды в ком-то возбуждать интерес к своей особе. Я углубилась в работу, семью, в книги. Читая, я самым искренним образом переживала все, что выпадало на долю героев, а в особенности героинь, но всегда выходила сухой из воды. Меня это устраивало и даже очень – я по натуре созерцатель жизни.
…Кстати, и этот ложный пожар в кинотеатре тоже ты подстроил. «Горит, горит!» – завопили во всю глотку мальчишки, все ринулись к выходу, меня чуть не раздавили, прижав к колонне. Выбравшись, я села на скамеечку в сквере перевести дух и поправить волосы – заколка, кажется, осталась лежать возле той самой колонны. И тут идешь ты, улыбаешься, изображаешь на лице удивление и следом – восхищение. Ну да, ты живешь совсем рядом, только теперь дом моей кузины кажется мне не обычным кооперативом, а замком, бунгало, отелем в центре Нью-Йорка. У тебя включено радио, и как раз передают романс Хозе из «Кармен». У тебя есть бутылка красного вина. А у меня, оказывается, не растрепанные, а очень красивые волосы, и я еще совсем молодая, неискушенная и, похоже, даже никогда не любившая.
«К чему делать из жизни драму? – думаю я, строгая на кухне морковку для супа. – В моем возрасте у всех женщин должны быть любовники. Никто из подруг не верит, когда я говорю, что не изменяла мужу. Я даже не могу ответить на вопрос: хороший или плохой мужчина мой Саша, – не с кем было его сравнивать. Теперь-то наконец могу сказать, что бывают и получше. Ведь я же у Саши не первая. Правда, у мужчин все иначе. Хотя какая разница?..»
Что-то в моей жизни изменилось – пока не могу понять, что именно. Ну, конечно же, изменилась я: мое плечо ты только что целовал, восхищаясь запахом кожи, на моей шее ты отыскал детское родимое пятнышко, про которое я забыла, совсем забыла.
И все-таки какому стереотипу поведения следовать дальше? Стихийному? Но, позвольте, я живу не в цыганской кибитке, я хожу на работу, я, в конце концов, сплю с мужем в одной, хоть и широкой, но одной кровати. Потом – как странно – за все время нашего свидания ни ты, ни я не заикнулись о любви.
Я яростно строгаю морковку. Тупое и бессмысленное занятие, но, черт побери, у меня, оказывается, очень сильные, очень ловкие, очень красивые пальцы, о чем я раньше и не подозревала. Я вспоминаю пальцы «Дамы с горностаем» и думаю о том, что у нее наверняка тоже был любовник.
Ну, а потом ты звонишь мне на работу чуть ли не каждый час, ты подкарауливаешь меня на остановке – в тот самый момент, когда я уже перестаю надеяться на встречу, больно сжимаешь мое плечо. Ты умоляешь хоть на десять минут зайти к тебе – я знаю зачем. Самого этого процесса мне, если честно, не нужно – мне нужно то, что происходит до него. Но у нас так мало времени, поэтому до не происходит ничего, если не считать случайного касания твоей головой моей груди. Правда, прекрасен долгий прощальный поцелуй на остановке, бледный и чахлый городской полумесяц над нашими головами. Даже мое усталое возвращение домой прекрасно – что-то появилось в моей походке таинственное, что-то такое теперь знаю я, о чем положено знать лишь избранницам. Мечты о будущем свидании превращают стояние в очереди за яйцами и творогом в восхождение по мраморной лестнице античного храма к статуе длинноногой, сладкотелой Артемиды.
Потом ты неожиданно скрываешься куда-то на две недели. Я звоню и звоню в пустую квартиру, наконец, стучу в никогда не запирающуюся дверь, а там какая-то толстая тетка говорит, что она твоя младшая сестра, зовет меня пить с ней чай со слипшейся, но очень вкусной помадкой. Она восторгается моей юбкой с разрезом, моей перламутровой помадой блекло-карминного цвета, моей непохожестью на все то, что эта тетка (младшая сестра! твоя!) видит вокруг.
– Я вам позвоню, позвоню! – обещаю я через час. – Я буду звонить вам… тебе каждый день. Вы так с ним похожи…
Я выскакиваю на лестницу и, стуча каблуками, несусь вниз. Я представляю с умилением, как эта толстуха («Я была кудрявым мальчишкой-амурчиком. На меня все оборачивались», – успела сообщить мне она. И еще много чего из вашей семейной хроники) ездила на тебе в детстве верхом, а ты изображал из себя австралийского пони. «Почему это была не я? Ну почему?» – задаюсь я вопросом. Мне кажется, что я, если бы даже и была твоей сестрой, все равно бы возбудила в тебе то, что возбудила. От этой крамольной мысли у меня сладко ноет в груди, а дядька, наступивший мне на ногу и в знак оправдания мне улыбнувшийся, кажется чуть ли не испанским идальго. «Познакомьтесь с моей младшей сестренкой. Мы росли неразлучно… Вы не знаете моего Лидка? Она сама прелесть. Я в детстве сажал ее на шею и ходил так по улицам. Все на нее любовались. А как-то она взяла и напысала мне за воротник: чувствую, теплое что-то побежало, а она себе заливается смехом…»
…Мы идем с твоей сестрой в театр – я покупаю самые дорогие билеты, я слушаю с наслаждением «Евгения Онегина», в ее присутствии так остро и даже болезненно переживая судьбу Татьяны. Потом твоя сестра заходит ко мне на работу, чтобы я в перерыве свезла ее к своему травнику. Она цепляет крутыми, обтянутыми цветастой юбкой боками папки с бумагами, подшивки газет, даже пальму в бочке за шкафом.
– Откуда ты выкопала этот экспонат? Роскошный экземпляр, ничего не скажешь – голубая кость из неандертальской пещеры, – острит мой коллега.
Дома я все так же строгаю на суп морковку, раздевшись до трусов, мою на кухне пол, завожу стиральную машину. Однажды, правда, позвонив откуда-то из своего загородного убежища, ты нарушил этот мой привычный ритуал.
– Я тебя хочу, – сказал ты. – Со страшной силой хочу. Что мне прикажешь делать? Может, приедешь ко мне? Это недалеко…
Я улыбнулась, представив, как ты начинаешь раздевать меня прямо с порога. Я подумала: зачем мне это? Но почему-то ответила:
– Может быть.
– Тогда я расскажу тебе, как добираться. Садишься в последний вагон поезда…
И я поехала. Всем, даже твоей сестре, сказала, что еду в командировку.
– Слушай, а вы с Валеркой не того? – спросила у меня по телефону твоя сестра. – Вы давно с ним знакомы? Вы очень даже друг другу подходите… Ну, это я так, на всякий случай. Если что, можешь рассчитывать на мою поддержку. Ха-ха…
Всю дорогу в электричке у меня в ушах звучало это «ха-ха». Ха-ха, знала бы ты, куда я еду. К кому еду. И зачем. Зачем, кстати? Я добросовестно ворошу свою память в поисках двух-трех нежностей типа: «У тебя красивое плечо» или «От твоей кожи пахнет чем-то свежим». Обо всем остальном я стыдливо умалчиваю даже наедине с собой, меня передергивает, когда я представляю в деталях анатомию собственного тела. Но я ни на миг не усомнюсь в своем решении и даже не подумаю о том, чтобы пересесть на обратную электричку.
Потом… Ну да, там не было воды, и я дважды в день протиралась лосьоном, рисуя в воображении горячую ванну с душистой пеной. В воображении я несколько раз на день растирала свое тело махровым полотенцем. Потом я отдавалась тебе лишь потому, что ты этого хотел, и потому, что после этого ты так нежно касался губами моей шеи. Еще я тысячный раз повторяла в уме: «У меня есть любовник. У меня есть любовник…»
И снова ждала твоего звонка, но ты почему-то не звонил. Тогда я однажды толкнула без стука ту никогда не запирающуюся дверь, сняла платье и туфли, залезла под одеяло. Теперь все это я сама подстроила, потому что ты, похоже, либо истощил свой мефистофельский талант, либо… Только я уже привыкла к той жизни, когда у меня есть любовник, когда мне нужно что-то от всех на свете скрывать, когда мои длинные темно-пепельного цвета волосы лежат на подушке рядом с твоей коротко остриженной головой. Я не собиралась так просто взять и поменять ее на прежнюю или даже на другую.
Потом стемнело, и я, кажется, задремала. Потом я услышала голоса на кухне – твой и еще чей-то, к счастью, мужской. Потом я прислушалась, принюхалась и поняла, что вы с Сашкой, моим Сашкой, пьете коньяк и рассуждаете обо мне.
– Она у тебя роскошная женщина, – узнала я твой голое. – Ты ее явно не распробовал. Или она тебе приелась. Ее на такое можно завести…
– Она в постели как вареная макаронина. – Это сказал мой муж. – С самого первого раза. Я по-всякому пытался – все напрасно. Хотел бы я взглянуть, как тебе удалось от нее добиться…
– Очень просто. С женщиной нужно еще уметь и разговаривать. И уметь ее хотеть. Она ездила ко мне в Бобылевку – сорвалась по первому зову. Ты наверняка про это не знал.
– Мне было не до того. Эта Дашка – дьяволица настоящая.
– Ну да! Познакомишь?
– Чуть позже. Идет? Так ты говоришь, от Лидки можно многого добиться? Вот не думал! Конечно, были приятные моменты, а в общем обычные супружеские отношения.
– Выпьем за то, чтобы женщины, с которыми мы… ну, спим, одним словом, были в полной уверенности, что мы в них влюблены. Они тогда становятся такими интересными и готовыми буквально на все.
– Если они вобьют себе в голову подобное, от них будет трудно отцепиться. Кстати, Лидка настойчиво тебя преследует?
– Меня фиг попреследуешь. В любой момент могу смыться в неизвестном направлении, не пересекая Садового кольца. Она мне как-то звонила – я сослался на срочную работу. Думаешь, она будет меня преследовать?
– Не знаю. Она стала какая-то рассеянная и вздрагивает от телефонных звонков. Небось, напридумывала себе такого…
– Выходит, с тебя бутылка. Помнишь, я сказал тебе: любая женщина рано или поздно сдастся. Твоя, несмотря на свой синечулочный вид, даже не пыталась строить из себя недотрогу. Крепость пала, считай, без единого выстрела.
– Да, они все про нас фантазируют! Дашка уверяет меня, что мы виделись когда-то на институтской вечеринке. И даже целовались…
Мое брошенное на стул платье поблескивало серебряными нитками. Я протянула руку, тихонько подтянула его к себе, бесшумно вползла в его спасительно мягкую шкуру. На улице было прохладно и все еще пахло весной, хотя на каждом углу торговали зрелым виноградом. Возле «Националя» я замедлила шаги. Как я позавидовала тамошним проституткам: они хотя бы деньги получают за их искусственную любовь.
В голове у меня было пусто – ни мыслей, ни планов, ни решении, ни даже обид. Я простояла минут пятнадцать за индийской пастой, купила в «Подарках» черные австрийские колготки и блеск для губ.
И снова очутилась возле этой никогда не запирающейся двери.
За ней горел свет и шумела вода. Я разулась по обыкновению справа от порога и, чтобы не шуметь, на цыпочках подошла к плохо прикрытой двери в ванную. Вот он, твой стриженый затылок, в брызгах горячей воды и дымке пахнущего хлоркой пара. Я его целовала не раз, я клала под него свою ладонь, я, помню, причесывала тебя своей расческой с железными зубьями, а ты кричал: «Больно! Больно! Кровожадина! Там же у меня темечко!»
– Кто, кто там?
Ты повернулся очень резко – я слышала, как на пол плеснуло водой. Но я уже бежала вниз по лестнице. Сердце колотилось где-то в ушах, заглушая своим стуком все остальные звуки: мимо бесшумно проплыл трамвай, так же бесшумно свистел милиционер – я видела, как раздуваются его румяные щеки. И почему-то у меня в крови нога, – ах да, я же забыла в твоей прихожей туфли…
Подозреваю, Сашку пустили ко мне не сразу. Были какие-то прогалины в моей собственной ночи, много прогалин, когда я видела себя на кровати с прибинтованными к каким-то крюкам запястьями. И мне было так хорошо оттого, что ночь была моя собственная и что запястья прибинтованы – тоже хорошо. Мне ни о чем не надо думать, и даже шевелиться не надо. Только последнее время прогалины стали очень большими, и свет бил в глаза, как на солнечной поляне, занесенной мягким, пушистым от мороза снегом. Тогда я начинала мотать головой, и наступала моя собственная ночь.
Во время одной из таких прогалин мне сказали: «Вас хочет видеть муж». Я же почему-то представила, что это ты идешь по длинному, узкому коридору с букетом цветов и коробкой с тортом, перевязанной бечевкой с длинным хвостом. Ты размахиваешь тортом. Он шлепается на пол с мерзким плеском пахнущей хлоркой воды. «Лучше не надо», – прошептала я. Но тут в дверь энергично и правильно вошел Саша.
– Лиденция, мне нужно поговорить с тобой самым серьезным образом, – сказал он, чмокнув меня в лоб. – Тебе уже разрешается думать. Завтра к тебе придет дядька с Петровки… Одним словом, ты была у Валерки в тот вечер, когда… Ну, перед тем, как сюда попала. Вспомни, пожалуйста, все самым подробным образом. Иначе меня заберут в тюрягу. Думаю, тебе не хочется, особенно теперь, чтобы меня посадили в тюрягу. Ну, ну, давай, вспоминай, пока сюда не пришли. Ты была у Валерки, вы с ним поругались, потому что он тебя разлюбил. Он вытолкал тебя за дверь, а сам влез в ванну – он всегда принимает перед сном горячую ванну. Потом ты вернулась – у него никогда не запиралась дверь, помнишь? Крикнула ему: «Сволочь! Гад! Я тебя ненавижу! Я спихну тебя под поезд метро!» Он выскочил из ванны, поскользнулся и ударился затылком об раковину.








