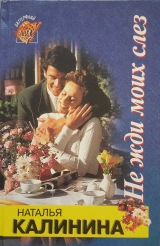
Текст книги "Не жди моих слез"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
И снова до поздней ночи ожидание-обмирание: мое – реальное и оттого очень болезненное, Стаськино – превращенное фантазией в волшебную сказку, а потому романтично-возвышенное. Соединить бы наше состояние в одно, получилась бы нечто по разрушительной силе равное смерчу. Им уже пахло в воздухе, когда без пяти двенадцать Стаська заявила:
– Пойду спать. Сегодня Митя уже не появится. До завтра, Милуша.
Дождь со злостью хлестал по лицу, выл ветер, жалобно скрипели деревья и дверь в сарайчик. Митя промок до майки, я включила электрический радиатор, и в комнате стало тепло и уютно. Кроме яблок и печенья у нас было белое вино и черный хлеб с маслом и помидорами.
В десять нас разбудил громкий стук в дверь. Стаська умоляла меня выйти к ней как можно скорей, потому что «очень, очень паскудно на душе и во всем теле». Я сказала неподдельно сонным голосом, что сейчас выйду.
– Ты запираешься, а я сплю нараспашку. Сегодня ночью кто-то бродил по дому – ты или…
– Я думала, это ты бродишь, – сказала я только для того, чтоб отвлечь Стаськино внимание от скрипа кровати и шороха Митиной одежды. – Я после Сочи стала такой трусихой: вечно мне что-то чудится, мерещится. Сейчас встану. Еще одно усилие…
Митя произнес одними губами:
– Двенадцать. Там же.
И растворился в мокром кусте сирени под окном.
Чтоб не пускать Стаську к себе – в комнате остались кое-какие следы нашей ночной жизни, – я обняла ее на пороге за плечи и повела на веранду.
– Это Митя ходил по дому, я точно это знаю, – прошептала она. – Если бы ходил кто-то чужой, мне бы стало страшно. А так нисколько. И вообще я всегда чувствую его присутствие. Да, ночью он был совсем рядом. Странный человек – почему не может появиться днем?
Мы пили кофе. Стаська бредила Митей вслух, я тоже, но только молча. Опять атмосфера была наэлектризована до предела. Не хватало искры, чтоб грянул гром, взрыв или еще что-то в этом духе. К вечеру на землю пал густой туман, и пронзительные гудки электричек как бы материализовали нашу со Стаськой тревогу в звуке.
– Я буду караулить его сегодня, – сказала Стаська. – Напьюсь кофе и буду ходить по саду со свечами. Такой туман – самая подходящая декорация для волшебных событий.
«Сегодня он не приедет, – с горечью думала я. – Могут отменить электрички. Что мне делать? Я рехнусь или умру от отчаяния. Природа будто настроена против нас…»
Я ошиблась: в двенадцать Митя был на месте. Ровно в двенадцать Стаська высунулась из своего окна, крикнула:
– Митя, Митя! Где же ты? – Через минуту она уже ломилась в мою запертую на крючок дверь. – Милуша, открой, Митя пришел. Ты все на свете проспишь! – кричала она на весь дом.
Мы дрожали, крепко прижавшись друг к другу в лапах голубой ели. Мимо проплывали обрывки тумана, все было нереально и потому совсем не страшно. Даже не было холодно, хоть у нас и стучали зубы. Потом мы влезли в окно, и едва я заперла его и задернула штору, как снаружи раздался голос Стаськи.
– Почему ты не открыла мне дверь? Я только что видела Митю, но его сожрал туман. Моего Митю сожрал туман. Что мне теперь делать?
Она сказала это так жалобно, что у меня дрогнуло сердце.
– Ложись спать. Он придет к тебе во сне.
– Ты так думаешь?
– Я в этом уверена.
Утром я проснулась в постели одна. Никаких Митиных следов в комнате не было. За окном вовсю светило солнце – далекое, чужое, по-осеннему холодное. Я быстро оделась. В коридоре нос к носу столкнулась со Стаськой.
– А я иду к тебе сказать, что Митя на самом деле ко мне приходил. Под утро. За окном только начало сереть, я открыла глаза, а он стоит надо мной и улыбается. Потом наклонился, погладил по голове. Ты знаешь, какая у него ладонь? Ах, Милуша, какая же у него ладонь…
– Как ты думаешь, Митя любит меня? – спросила за завтраком Стаська. – Нет, нет, я не про ту любовь, про какую ты подумала. Мне кажется, он любит меня совсем иначе. Как любят детей, которые, когда вырастут, станут надежной опорой. Да, знаешь, Митя сказал мне: «Спи спокойно, маленькая девочка с чутким сердечком. Все у тебя будет, будет, будет…»
Стаська весь день твердила эти слова, бродя по даче, по мокрому саду… Пока не заявились Нинель с Антоном. Она злая, как мегера, он – прилично навеселе. Лина накрыла на стол. Помню, Нинель хлестала Антона по щекам и топала ногами на Стаську. Наконец все уселись обедать. Посередине стола красовался букет чувственных белых орхидей. Нинель в длинном атласном халате в крупный горошек разливала суп из тяжелой белой супницы, когда на веранду вошла незнакомая тетка в ядовито-розовом плаще.
– Здрасьте. – Она обвела всех бесцеремонным взглядом, задержав его на Нинели, застывшей с половником в руке. – Вы знакомы с Дмитрием Степановичем Горбачевичем? Так вот, он попал в больницу с гнойным аппендицитом. Вы угостите меня супчиком? Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было.
Тетка сняла плащ, положила его по-хозяйски аккуратно на спинку тахты, где летом спал Митя, придвинула к столу стул и уселась рядом с Нинель.
– В чем дело? – растерянно спросила та, машинально подавая ей тарелку с супом. Нинель впала в нечто вроде шока. Никогда не забуду автоматизм ее движений, с каким она наливала суп и передавала тарелки нам.
Тетка припала к тарелке и несколько минут не поднимала от нее головы.
– Рюмочку налейте, – велела она Антону, перед которым стояла бутылка коньяка.
Наконец Нинель начала подавать признаки жизни.
– Станислава, Людмила, что тут без меня происходило? Отвечайте! – потребовала она хорошо поставленным сопрано, что определенно предвещало скандал.
– Врете вы все про нашего Митю, – сказала Стаська безостановочно жующей тетке. – Он был у нас утром. С ним ничего не могло случиться. И вообще: кто вы такая и что вам от нас нужно?
– Да я его жена, – сказала тетка, не спеша опорожняя вторую рюмку. – Я за ним следом приехала, он сперва и не догадывался про то. Нелады заподозрила, вот и приехала. Ну, ясное дело, завел парень в Москве подружку, как тут не понять: жить-то где-то надо, харчиться тоже. Он такой нервный приехал, истощавший. А эта штуковина у него совсем не стоит. Вот я и поняла…
Тетка говорила и говорила. Она была настолько нагла и вульгарна, что мы со Стаськой поначалу не восприняли ее всерьез. Первой опомнилась Нинель.
– Я попрошу вас немедленно уйти. Вон из моего дома! – завопила она уже дискантом. – Мои дочери – девушки, а вы говорите всякие мерзости. Вон отсюда, проститутка грязная, сейчас милицию позову!
– Тоже мне раскудахталась, старая курица, – сказала тетка тоном привычной к перепалкам базарной торговки. – Спросила бы лучше у своих девушек: к которой из них он ездил каждую ночь. Может, сразу к обоим? Та, сухонькая, – тетка ширнула пальцем в сторону Стаськи, – навряд ли в полюбовницы сгодится. Эта, – ощущение было такое, словно ее палец проткнул меня насквозь, – скорей подойдет. Так что, мать, гляди, как бы твои девушки не принесли в подоле.
Надо отдать должное Нинель – она грудью встала на нашу защиту. Она вцепилась тетке в плечо и заставила ее встать со стула. Та поначалу слегка опешила, но быстро пришла в себя.
– Да уйду – чего я у вас забыла? А моего Митьку ваши девушки ловко… – Последовал омерзительный мат. – Ну, авось выкарабкается. Сегодня ночью его не ждите – не придет.
Тетка вышла не спеша, с крыльца вернулась за своим плащом. Мы смотрели завороженно, как она идет к калитке между мокрых кустов жасмина и сирени.
– Он на самом деле попал в больницу! – Стаська вдруг вскочила и бросилась к двери. – Я спрошу у нее, где он… – Антон догнал ее уже на крыльце. – Папа, пусти! – Она колотила его кулаками. – Пусти же! Я должна знать, что с Митей! Милена, догони ее! Милена, прошу тебя!
Я не могла пошевелиться. Я словно окаменела. Наконец Стаська затихла. Антон уложил ее на тахту и сел рядом.
– Вы что, принимали в мое отсутствие этого оборванца? – напустилась на меня Нинель. – Мерзавки, шлюхи… – Ну, и весь соответствующий ее интеллекту набор эпитетов и метафор. – Это все ты – у тебя мать шлюха. Мне Петька рассказывал, она от своего любовника аборты делала, а ему не давала… Вон из моего дома! Вон!
– Если прогонишь Милену, я тоже с ней уйду! – крикнула Стаська. – Сама ты шлюха! Это только дурак Антон в упор ничего не видит. Ты сама двадцать два аборта сделала, а Антону пудришь мозги, будто у тебя всякие фибромы и миомы вырезали. А он верит. Хотя, мне кажется, только вид делает.
Что тут началось! Мы со Стаськой заперлись в ее комнате, успев получить по хорошей затрещине.
– Я лежала вот так, на левом боку, – упоенно рассказывала Стаська и демонстрировала мне, как она лежала. – Открываю глаза, а Митя надо мной стоит и палеи возле губ держит. Смотрит ласково, нежно, внимательно, будто хочет на всю жизнь запомнить. Неужели он на самом деле в больнице? Ты веришь тому, что несла эта тетка? Почему ты молчишь? Ты так сильно потрясена, да? Мы должны с тобой поехать в Москву и отыскать Митю. Если его жизнь в опасности, все остальное ерунда, правда? Милена, мы немедленно едем в Москву. – Она вскочила и стала натягивать брюки и свитер. – Одевайся скорей, слышишь? Эта жуткая тетка наверняка окрутила нашего Митю, чем-нибудь опоила. Мне рассказывала Валька Петухова, что бабы поят мужиков вином, в которое подмешивают немного своей мочи во время менструаций, и те становятся болванчиками в их руках. Вот гадость, правда? Бедный, бедный Митя…
Мы уехали в Москву, не сказав ни слова Нинель с Антоном. Впрочем, им явно было не до нас: с веранды раздавался свирепый рык Антона. Голоса Нинель, как ни странно, слышно не было.
Стаська в тот же вечер разыскала по телефону Митю – он лежал в Боткинской больнице. Мы едва дождались утра. Вдвоем нас к нему не пустили – прошла Стаська. Я целую вечность прождала ее в углу за раздевалкой. Я видела, как пришла эта ужасная тетка, которая и в больнице чувствовала себя так, будто все здесь принадлежит ей. Даже видавшая виды вахтерша стушевалась перед ее угрозой «написать министру, что родную жену к мужу не пускают, взятки вымогают». Тетка, разумеется, прошла. Через минуту появилась Стаська, правда, с другой стороны.
– Видела мегеру? Митя предупредил, чтобы мы ей не попадались, – может по морде врезать или плеснуть кислотой в глаза. Сволочь. Ах, Митя такой бледный, такой красивый, – рассказывала с придыханиями Стаська. – Температура почти нормальная. Просил передать тебе привет. Он очень похудел с лета. Я вчера утром не разглядела его как следует – еще темно было. Тетка через два дня уедет в загранку. Она на какой-то грузовой посудине буфетчицей работает. Вот хабалка, да? Представляешь, ее тоже зовут Станислава. У этой жуткой бабищи такое редкое и красивое имя! Для Мити, как видишь, оно оказалось чуть ли не роковым. Мадам Стерва умотает, и Митя снова станет нашим Митей, правда? Тогда и ты сможешь его навестить. Он по тебе соскучился.
– Я не хочу его видеть, – заявила я каким-то чужим голосом. – Все было так мерзко, грязно, отвратительно. Лучше бы мы с тобой еще неделю пожили в Сочи. Господи, как же я себя ненавижу…
– Пройдет, – заверила меня Стаська и сжала мою руку. – Мы должны помочь Мите выкарабкаться из той грязной дыры, куда его затащила эта буфетчица. Неужели он мог целовать ее в губы? Брр, помойка. Как-нибудь обязательно спрошу у него об этом.
– А что если ему нравится в этой грязной дыре и с этой буфетчицей с помойки? Каждому, как говорится, свое.
– Что ты, Милена. Этого быть не может. Митя просто запутался в ловко расставленных сетях. Ты как хочешь, Милена, а я его не брошу. Ни за что не брошу.
Начались занятия в моем институте. Нас чуть ли не в самый первый день погнали на картошку. Думаю, так распорядилась судьба: обычно на картошку ездил второй курс, нас же в прошлом году не тронули, зато теперь я на целых полтора месяца оказалась изолированной от жизни. Я не пыталась вырваться в Москву, напротив: я с ужасом ждала дня окончания работ, хотя, как и все, страдала от холода и неустроенности быта.
Сокурсники пытались меня растормошить – я ни на что не реагировала. Я зациклилась на жалости к себе.
Митя, я знаю, все это время думал обо мне. О нас. О том, что мы навсегда потеряли друг друга, что так, как было со мной, у него больше ни с кем не будет. Да и со мной уже так не будет, а по-другому ни мне, ни ему не нужно. Митя ни о чем не жалел – он был, как и я, фаталистом. Знаю, он боялся встречи со мной, боялся, что, если начнет что-то объяснять, может окончательно утопить все в грязи. Я потому знаю его мысли и чувства, что мы с Митей духовные близнецы – я имела возможность убедиться в этом.
Мы оба знали, что борьба не даст ничего, кроме горечи и боли. Что в этой борьбе мы растеряем остатки того чувства, которое испытывали друг к другу. Нам было слишком дорого наше общее прошлое.
Наконец я вернулась с картошки. Нинель с трудом сдерживалась, чтоб не вцепиться мне в волосы. Антон беспробудно пил и гулял, Стаська целыми днями где-то пропадала. Она расцвела и похорошела за то время, что мы с ней не виделись. Она избегала меня, хотя относилась ко мне доброжелательно. После занятий в институте, которые я отбывала как повинность, я болталась по улицам. Я страшно боялась встретить Митю и, заворачивая за угол, вся обмирала. Это случалось по нескольку раз в день. Кончилось все тем, что по настоянию одной моей сокурсницы я взяла академический отпуск и уехала на родину.
Перед самым отъездом я увидела Митю на встречном эскалаторе, – помню, я ехала вниз. Я чувствовала спиной, как он смотрит мне вслед: тяжело, с обидой, с горечью.
Итак, я уехала домой, хотя вовсе не считала своим домом город, в котором родилась и прожила первые пять лет жизни. Родители, как мне показалось, не очень обрадовались моему приезду, хотя на каждом шагу старались показать свою радость. У матери на лице застыло выражение покорности судьбе – теперь она уже ничем не напоминала мне женщину в зеркале с дубовыми листьями. Отец поседел, растолстел. Они жили в современной двухкомнатной квартире, у отца была постоянная работа, мать подрабатывала перепечаткой на машинке. После богатого – напоказ – московского дома родственников скромное жилье родителей показалось мне гнетуще убогим. Все понимаю: Нинель из кожи лезла, только бы пустить пыль в глаза, мои же родители жили тихо и по средствам скромно. Увы, я презирала эту честную бедность.
Мама не спрашивала меня ни о чем, кроме здоровья, мама пыталась отвлечь меня от горестных дум, но очень скоро поняла, что это пустой номер. Я ни в чем не видела смысла и на все ее приглашения сходить в кино или в гости отвечала тупым «Зачем?».
Как-то она упросила меня пойти помочь ей убрать квартиру, как она выразилась, дальнего родственника. Мы долго ехали в трамвае, шли переулками. Наконец мама отомкнула своим ключом ободранную закопченную снизу дверь, в нос ударил крепкий – настоявшийся – запах кошачьей мочи.
– Это я! – крикнула мама в глубину квартиры. – Со мною дочка Люда. Она тогда была совсем малюткой.
Квартира была обшарпана и загажена так, что не стоит описывать. Под ногами мяукали коты разных мастей и размеров. Откуда-то, едва волоча несгибающиеся или же просто обленившиеся ноги, появился мужчина в засаленном, некогда стеганом халате в сосульках свалявшегося ватина, худой, весь в морщинах, но с необыкновенно живыми колючими глазами. Это был он, Тигр Скорпионович – так про себя называла его я маленькая. Я мгновенно его узнала.
Они с матерью обменялись быстрыми взглядами. Мне показалось, между ними пролетела искра. Я мыла на кухне посуду, мать шаркала шваброй где-то в недрах квартиры, а мужчина сидел в кресле с подлокотниками из свернутых в трубочку газет и напевал знакомую мелодию. Ту самую, от которой мое сердце когда-то уносилось в заоблачные выси. Все со мной случившееся предстало вдруг в мрачном, безобразном свете, жизнь показалась зловонной ямой, а любовь с ее неизбежным физиологическим ритуалом – обыкновенной пошлостью. Меня вывернуло наизнанку, и это, очевидно, спасло от худшего. Помню, Тигр гадко хохотал – о, этот человек все про меня понял и ни капельки мне не сострадал. Мама молчала.
– Вот где и как все заканчивается, – сказал Тигр, ни к кому из нас не обращаясь, когда мы сидели за столом в более или менее прибранной комнате и пили чай. – Молодость, волнующие до дрожи во всех членах взгляды, магия музыки, очарование весны. Женщина всегда хочет, чтоб мужчина, с которым она предавалась утехам любви, стал в конце концов ее мужем. Представляю, сколько бы у меня было жен, если бы я женился на всех, с кем тешился любовью. – Тигр снова расхохотался, теперь уже над собой. – Как видишь, Таня, я оказался прав: муж из меня никудышный, и даже глупая толстая жена в конце концов меня не выдержала и сбежала. А вот любовником я был исключительным – все женщины были мной довольны и нередко после меня давали отставку мужьям. В постели, разумеется. Таким образом я оказался виновником многих семейных драм и даже трагедий. – Он вдруг остановил свой взгляд на мне, и я ощутила его физическое, больно проникающее вглубь действие. – Женщины часто путают похотливость со страстностью. А страстность, страсть, страдания так романтичны. Эту романтику хочется прибрать к рукам. Чтобы ее голова лежала рядом на подушке. Чтобы ее ноги шли с тобой вместе на рынок. Чтобы ее руки несли авоську с молочными пакетами. Чтобы… Ха-ха-ха. Это все блеф, блеф. Потому что с тем, с кем хорошо в постели, не может быть хорошо в жизни. – Он снова больно ранил меня своим взглядом. – Познакомься я с твоей матерью годика на два-три раньше, и ты бы могла быть моей дочерью: у тебя были бы жгучие глаза и повышенная сексуальная возбудимость, которая смолоду и до немощных лет руководит всеми нашими поступками.
Тигр запрокинул голову и долго хохотал, барабаня ногами снизу по крышке стола.
– Он ненормальный, – шепнула мне на кухне мать и вздохнула. – Он и раньше был слегка тронутым, с годами это усугубилось. Его все бросили. Даже родная сестра.
Уходя, мать поцеловала Тигра в лоб – нежно, ласково, едва касаясь губами. Нет, вовсе не брезгливо – это был, как говорится, поцелуй в самую душу. Тигр сидел как истукан, а меня точно разрядом тока хватило. Как же я позавидовала матери!..
– Отцу про Митю не говори – он и по сей день не успокоился, – сказала в трамвае мама. – Ты же видишь, я езжу к нему лишь из сострадания. – Я понимала, мать врет, но промолчала. – Он сломал мне всю жизнь.
То, что возлюбленного матери тоже звали Митей, не просто поразило меня – я ощутила себя в ловушке, из которой не видела выхода. Мне показалось, я обречена, как и мать, до конца дней своих… Словом, отныне, когда я смотрелась в зеркало, я видела в чертах собственного лица ту же – материну – смиренность, покорность судьбе и все больше и больше себя жалела.
В одну из таких ночей, когда я лежала в своей комнате и считала на потолке блики от проносившихся мимо машин, мне вдруг показалось, что, если я еще хотя бы на миллиметр продвинусь вперед по этому пути неутихающей скорби, у меня лопнет что-то внутри. Мне нужно было рассказать кому-то все то, что я пережила. Но кому?.. Отцу? Матери?.. Нет, нет, уж лучше себе самой. Я вдруг почувствовала потребность облечь в слова то, что до сих пор в них не облекалось, жило где-то вне их досягаемости, нарочно от них пряталось. Но только не теми фразами, которые звучат вокруг.
Я приподняла голову и услыхала голос внутри себя. Он был слаб, едва слышен, но этот голос словно говорил мне, что не все потеряно, что будет, будет что-то еще. Обязательно будет.
Отныне я сидела безвылазно дома и исписывала тетрадку за тетрадкой. Я бродила по квартире нечесаная, неумытая, но меня это не волновало – неожиданно для себя я переместилась в иную плоскость, где, как выяснилось, из отдельных деталей антимира можно соорудить вполне пригодный для собственного обитания мир. Где несбывшееся если и печалит, то красиво и как-то отчужденно, где слезы облегчают душу, исповедь разгоняет тоску, а боль болит терпимо и даже иногда сладко. И это случилось со мной благодаря Мите и нашей с ним несбывшейся любви.
Говорят, мужчина пишет, обращаясь к Богу, женщина – к мужчине, причем конкретному. Если это так, не вижу ничего плохого: любовь конкретная всегда импонировала мне больше любви абстрактной и всеобъемлющей. Я писала стихи, перемежая их абзацами прозы, в которых описывала природу: ветку в каплях дождя, грозовую тучу, лужу, в которой отражаются то голубое небо, то безрадостные лица прохожих. Мои же чувства, переживания, воспоминания могли уложиться лишь в стихи.
Летом из Москвы приехала мамина дальняя родственница, и мы неожиданно прониклись симпатией друг к другу. Галя училась на филфаке, и как-то я осмелилась прочитать ей вслух кое-что из своих записок. Она стала меня хвалить, и впервые почти за целый год мне вдруг осмысленно, а не по инерции, захотелось жить. Чтоб писать и писать новое.
– Ты настоящий самородок, потому что в результате личной драмы оказалась в полнейшей изоляции от внешнего мира. Что называется – родилась заново уже тем, кем захотела. И это тем более удивительно, что большинство женщин личная драма ломает и выбрасывает на свалку. Я знаю столько сломанных женских судеб. Поверь мне, это отталкивающее зрелище. Ты оказалась редчайшим исключением. Я бы даже сказала, ты нуждалась во встряске, в результате которой твои мозги встали на место. Но не думай, будто тебя ждет легкий путь. И прежде всего потому, что ты женщина на все сто процентов, что является для наших пишущих мужчин не последним оружием из ругательского арсенала. Я кое с кем познакомлю тебя в столице, правда, не знаю, что из этого выйдет. Хотя ты, я уверена, в любом случае будешь продолжать выражать себя на бумаге.
Я увозила в Москву целую сумку общих тетрадей и кое-что отпечатанное на машинке и подправленное Галиной рукой. Мне казалось, я повзрослела за прошедший год лет на десять – пятнадцать.
Галя пригласила меня пожить у нее – она жила в однокомнатной квартире, и я, конечно же, стеснила ее. Но Гале почему-то захотелось со мной понянчиться.
Человек, с которым Галя познакомила меня в Москве, тоже одобрил мои писания, правда, не столь горячо, как Галя.
– Он тебе попросту позавидовал, – комментировала она. – Мужчине обычно трудно пережить то обстоятельство, что женщина может оказаться талантливей его. Сверху вниз им на нас смотреть привычней.
Вскоре меня пригласили выступать на вечере, напечатали в журнале – крохотный рассказик, но я была счастлива. Я думала: «Быть может, прочтет Митя и…» Словом, ничего конкретного – одни воздушные замки. Когда я приехала в свой бывший дом за книжками и вещами, Стаська сообщила мне, что Митя уехал в киноэкспедицию в Среднюю Азию. Она встретила меня холодно и даже не поинтересовалась, как я живу и где. Связующая нас нить была кем-то либо чем-то разорвана.
Мой новый покровитель как-то пригласил меня в ресторан, подпоил, похвалил и признался, что я ему очень нравлюсь как женщина. Правда, он не собирается разводиться со своей женой, но готов обеспечить мне как творческую, так и материальную поддержку. Он не требовал от меня немедленного ответа – он дал мне время на размышления. А тут, как назло, очередное вмешательство судьбы: Галя влюбилась, и я в некотором роде стала для нее обузой, из-за троек меня лишили стипендии, не было зимнего пальто и сапог – ничего у меня не было, кроме перелицованных юбок и грубошерстных, ручной маминой вязки, кофт. А ведь меня всегда так угнетала бедность…
Я не возненавидела себя, когда стала любовницей того покровителя, наоборот, почувствовала себя гораздо лучше в беличьей шубе и английских шерстяных колготках. Вдобавок ко всему у меня появился свой уютный уголок: однокомнатная, отлично обставленная квартира с письменным столом и пишущей машинкой. Со временем я научилась отделять себя прежнюю от себя настоящей. Как ни странно, обе прекрасно между собой уживались, хоть и поклонялись, можно сказать, диаметрально противоположным идеалам.
Галя порадовалась за меня, но попросила звонить ей и чистосердечно обо всем рассказывать. Мудрая Галя! Скоро я забеременела, мой покровитель, узнав об этом, очень обрадовался и заявил: если я рожу ему нормального здорового ребенка, разведется с прежней женой и женится на мне. Галя забрала меня к себе под свое широкое крыло, потому что разъяренная жена жаждала мести. Я была уже с огромным пузом и вся в коричневых пятнах, когда Стаська разыскала меня в институте и попросила, очень настойчиво и ласково, быть свидетельницей при регистрации ее брака.
Я была уверена, что она выходит замуж за Митю, хоть мне никто не говорил об этом, она сама – тоже. Я изо всех сил гнала от себя эту уверенность. «Стаська наверняка бы похвалилась, будь женихом Митя», – приводила я себе один и тот же аргумент. Я пыталась представить себе Стаськиного будущего мужа солидным респектабельным дядей – ведь его, убеждала я себя, выбрала Нинель.
Я не стала что-либо подправлять в своей безнадежно испорченной внешности – заплела волосы в косу, надела широченный размахай, правда, французский. Со стороны вряд ли кто-то мог заподозрить, что мы с Митей когда-то были…
Нет, мы не отлюбили свое. Я поняла это, едва увидела Митю.
Галя снова пришла мне на помощь: всю ночь утешала, увещевала, бранила, ревела вместе со мной.
– Эка дура – родишь, еще красивей станешь. А для Мити твоего это замечательный урок. Теперь он еще сильней тебя захочет. У вас будет лучше, чем было раньше, поверь мне…
Галя оказалась не права – с Митей у нас больше никогда не было ни радости, ни счастья. Зато было много боли.
Совет № 5
С ЭТИМИ МОЖНО СОХРАНИТЬ ДРУЖБУ
Сперва долго не соединялось, вернее, ты слушал мои «але» с таким же трепетом (если это не так – позволь мне остаться в неведении), как два года назад. Только теперь тебе этот трепет нужно было во что бы то ни стало скрыть. Итак, после третьего моего «але» ты назвал меня по имени. Не своим голосом, хоть я и узнала тебя в самую первую долю мига. Быстрее, чем успел сработать разум.
– Ты знаешь, что у меня был инфаркт?
– ?
– Врачи уложили на две недели в больницу.
– А теперь как… с сердцем? – спрашиваю тихо, но почти не испуганно – то ли не поверила, то ли не успела испугаться.
– Ну, в общем-то, это был не инфаркт, а предынфарктное состояние.
Почувствовал, наверное, что палку можно перегнуть, а то и вовсе сломать.
– Я ничего не знала, – начинаю оправдываться я. – Торчала безвыездно на даче. Откуда я могла узнать?
– Я, между прочим, тебе звонил.
Пауза. Ты ждешь, что я дрогнувшим голосом начну расспрашивать тебя о здоровье. Я жду (конечно же, жду – что толку врать самой себе?), что ты скажешь хоть одно слово, напоминавшее о былом. Но так уж повелось, что ни ты, ни я не делаем того, чего ждем друг от друга.
– Как дела? – спрашиваю принужденно.
– Дела? – Последний твой слог звенит на той самой высокой ноте, на какой звучали два года назад все наши телефонные диалоги. – Дела идут неплохо. Слушай, приезжай на премьеру моей новой пьесы. Послезавтра. Если не сможешь, через неделю будет еще спектакль. Артисты великолепные – все звезды.
Подруга, которая старше меня, уверяет, что мужчины много толкуют о своих делах только потому, что считают недостойным говорить все время о любви. И еще – чтобы, не дай Бог, не избаловать женщину. Но ведь вначале они говорят о ней даже больше, чем мы. Правда, в основном в постели.
– Поздравляю. Наконец.
Говорю это без особой радости – и тут же понимаю почему: все радости позади.
– Приедешь? Я… – щелкает в трубке, – приглашаю всех друзей.
Если бы ты сказал: «Я тебя встречу», вероятно, я бы не смогла выговорить это «нет», похожее на монотонный скрип раскачиваемой непогодой одинокой форточки в сад.
– Почему?
С плохо скрытым разочарованием, а больше недоверчиво.
– Работаю. С трудом вошла в ритм. Прерваться – смерти подобно.
Звучит напыщенно, но суть верна. Потому если ты и обижаешься, то слегка. Для тебя работа – святое.
– Очень жаль.
Не искренне и не официально. Так – никак. Интересно, а если сказать тебе – о чем угодно, но с прежней интонацией? Сказать, что ли?
– Але, але, ты куда-то пропадаешь.
– Связь, как… в девятнадцатом веке. Послушай…
– Да?
С интересом, который не успел скрыть.
– А… как поживает Елена?
Моя знакомая, с которой я только вчера разговаривала по телефону.
– В порядке. Обещала прийти на премьеру.
Больше говорить не о чем – это чувствуем мы оба. Или же можно проговорить, как бывало, час и больше. Все-таки мне еще не хочется расставаться. Тебе – тоже.
– Ты, кажется, собирался изменить финал?
– Да. И написал еще одну картину – в середине. Лирическую. В ней будет две песни.
– На чьи слова?
– Одной нашей поэтессы.
– Кто такая? Талантливая?
Не без укола ревности: знаю твою слабость к талантам!
– Ну… это при встрече. – Обычная присказка говорящих по телефону, тем более междугородному. А может, в самом деле – надежда на встречу? – Понимаешь, нужно было усилить лирическое начало. Лирика – мое уязвимое место. Но теперь, кажется, все встало на свои места. Надо будет учесть это в будущем.
Взять и сказать: а у нас с тобой все в прошлом. Эх ты, потерять так быстро. А ведь хотел, чтобы длилось бесконечно.
– Снова ты пропадаешь. А как твои дела?
– Нормально.
Вот уж не скажу, что долго не могла прийти в себя после твоего… предательства? малодушия? мудрой жестокости? Нет у меня определения тому поступку, после которого все встало, как ты только что выразился, на свои места. Как нет и упреков. Нет и… Неужели в самом деле нет?
– Вышло что-нибудь новое?
– Да, совсем недавно. Но это уже в прошлом.
– Понятно. Все равно поздравляю. А сейчас над чем работаешь?
– Так, кое-что для собственного удовольствия. В ящик стола.
– Ты можешь себе это позволить.
То ли комплимент моему таланту, то ли упрек в обеспеченности. Думаю – фифти-фифти. Золотая середина. То, чего никогда не было в наших отношениях.
– Я все могу себе позволить. Все, что хочу.
«Тебе можно все, все», – слышу твой шепот. И делаю над собой усилие, чтобы вернуться к реальности. Путешествия во времени не для слабонервных.
Молчание. Чувствую, какое между нами огромное расстояние: на проводе далекий – космический – гул.
Во время той болезни, на пределе отчаяния, я спросила у той самой подруги: «Как ты думаешь, может, сделать над собой усилие и поставить точку? То есть позвонить и сказать: прощай, между нами все кончено, спасибо за прошлое. Или что-то в этом духе». – «Глупышка, – сказала она, – романы кончаются сами собой. Без всяких точек. Точки ставят на бумаге. Не будь старомодной. Тем более в жизни всякое случается». Я, кажется, начинаю понимать, что имела в виду Виктория, когда говорила, что «в жизни всякое случается».








