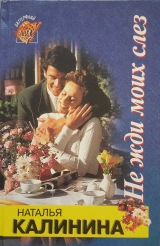
Текст книги "Не жди моих слез"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Когда я вошла с чашками в столовую, я почему-то обратила внимание на то, что у Сергея Васильевича очень красивые волосы цвета расплавленной смолы, что на нем сегодня ослепительно белая рубашка (хоть убей, не припомню, в каких он раньше ходил) и красные носки. А Ляльке очень идет высокая прическа – это она от жары волосы заколола, без зеркала и одной-единственной шпилькой.
Мы болтали за столом так, будто были вдвоем с ней, хотя Сергей Васильевич принимал самое живое участие в нашей болтовне. Нет, вру, было даже веселее обычного: Лялька была в ударе, Лялька восхищалась, глядя в окно, закатом, окутанным ядовито-жемчужной дымкой из заводской трубы, Лялька двумя руками в унисон сыграла его тему, – похоже, это было что-то из Рахманинова. Лялька задавала Сергею Васильевичу вопросы типа: «А не кажется ли вам, что у каждого человека есть музыкальная тема его судьбы, от которой ему не отвертеться?» или «Вы женились на той, кого любили первой любовью, или ваша первая любовь так и осталась недосягаемым идеалом?» И еще один вопрос она задала: «А вы могли бы бросить семью и уйти в неизвестное с любимой?» При этом ее щеки вспыхнули, а пальцы забегали по столу, словно по клавиатуре рояля. Сергей Васильевич смущался, но, мне казалось, старался отвечать честно.
Лялька не умеет кокетничать – дело в том, что это довольно сложная наука, и для того, чтоб ею овладеть, нужно приложить немало усилий. Лялька, я это знаю, палец о палец не ударила в этом направлении, хотя Сергей Васильевич вдруг бросил ей в разгар нашего вечера скорее похожий на восхищение упрек: «Кокетка. Законченная кокетка». Она не обиделась, она даже бровью не повела, я же подумала о том, как слепы и ограниченны мужчины: Лялька и кокетство вещи несовместимые, наверное, даже больше, чем цветы на подоконнике ее бывшей квартиры, сладкие грезы под музыку Шопена и Пола Маккартни и наша темная вонючая улица. Мне и в голову не могло прийти, что, сажая Ляльку и считающего само собой разумеющимся проводить ее до самого дома Сергея Васильевича в трамвай, я присутствовала при значительном, если не самом значительном, событии в жизни моей лучшей подруги и нашего старого, похожего на удобную и незаметную мебель друга дома.
Трамвай громыхал, светился изнутри, разбрасывал фейерверки электрических синих искр во все стороны улицы. Лялька махнула мне рукой и послала воздушный поцелуй. Впрочем, я не уверена, что этот широкий, залихватски безрассудный воздушный поцелуй был адресован мне.
На следующий день Лялька заявилась ко мне необычно рано. Помню ее непокорный профиль на фоне нашего грязного кухонного окна, дрожащую, исходящую дымом сигарету между третьим и четвертым пальцами ее по-девчоночьи тонкой руки, свернувшегося неудобным калачиком на ее шатких коленках моего черного кота Сеньку.
– Он мне идет, правда? Правда же он мне очень идет? К моим зеленым глазам и языческим желаниям. Как ты думаешь, Нелька, язычество – это плохо или хорошо? Человечество уверено, будто прошло путь от язычества до христианства. Пускай себе думает. На самом деле каждый из нас движется по замкнутому кругу. Ясно тебе? Ну и что из того? Какая мне разница, что до меня кто-то уже испытал всю глубину…
Лялька вдруг отвернулась к окну и замолчала. Вернее, заставила себя замолчать. Она у меня ничего не спрашивала, она даже имени Сергея Васильевича не упоминала, но я уже рассказала ей его биографию, причем с интересом для себя. Лялька гладила Сеньку, время от времени стряхивала на пол пепел тлеющей сама по себе сигареты и молчала.
– Никогда не имела чести лицезреть его жену. Серьезно тебе говорю. Кстати, и не жажду увидеть. Матушка сказала: «на три с минусом». Уж если моя матушка так сказала… Он всегда и везде ходит один – и в кино, и в театр. Мать была у них дома, но я не интересовалась подробностями. Мадам преподает английский не то в педе, не то в меде. Дочку, как и тебя, зовут Ляля. Нет, стой, вру – ее зовут Леля. Он почти три года был безработным – наказали за какой-то шибко критический материал. Рассказывал, будто кропает роман о местных нравах, хотя последнее время чуть ли не каждый вечер сидит у нас допоздна и играет с матерью в «шестьдесят шесть». Жена, я слышала, бегает по частным урокам… Ты права – ему что-то около сорока… – Лялька даже не раскрывала рта. – Кончил Ленинградский университет – не то филфак, не то журфак, к нам приехал по распределению. Да, в нем на самом деле есть что-то загадочное. – Лялька сидела неподвижно в позе роденовского Мыслителя. – Что-то невостребованное, не нашедшее применения в здешних условиях, – продолжала свои рассуждения я, – бескомпромиссность, честность… – При последних моих словах Лялька по-разбойничьи свистнула. Сенька в испуге скатился под стол, зашипел на нас оттуда, я уронила в свой недопитый чай сигарету. Лялька хохотала, вцепившись обеими руками в свою пепельно-медовую гриву. Меня вдруг осенило. – Послушай, а ты, кажется, того…
Лялька приложила к губам палец и выдохнула громкое «тсс», предназначая его и себе тоже. Думаю, в первую очередь себе.
Не знаю, когда и где между ними произошло то, что неминуемо должно было произойти. Дело в том, что Лялька каждый день приезжала ко мне купаться – у ее бабушки не было горячей воды. Однажды я поливала Ляльке на волосы теплую воду с лимонной кислотой из ковша и заметила кровоподтек на шее. Лялька, обмотав голову полотенцем и всунув свои длинные узкие ступни в мои комнатные туфли, скорчила смешную и одновременно виноватую рожицу и пригрозила мне пальцем. И я поняла, хоть мы с ней и подруги, хоть она и доверяет мне во всем, ни-ни коснуться этой темы. Мне оставалось лишь принять не совсем легкие для меня условия.
– Ты знакома с Сергеем Васильевичем? – как-то спросила Ляльку узнающая всегда и все последней мать.
– С Рахманиновым, что ли? – дерзко подняла свои и без того высокие брови Лялька. – Зачем мне это? И так почти каждую ночь снится.
– Нет, с нашим Сергеем Васильевичем, – сказала мать, даже не попытавшись вникнуть в тонкости Лялькиной речи. – Помнишь тот очерк? – Последовал довольно подробный пересказ старой истории с неопубликованным очерком, который Лялька, мне показалось, выслушала затаив дыхание. – Он обещал сегодня к нам зайти. Милый славный человечек.
Через каких-то две минуты Лялька уже лобызала мою мать в обе щеки, и это было так естественно, и так к месту и так не связано с тем, что мать только что сказала. Обе были на седьмом небе от блаженства.
А еще через пять минут Сергей Васильевич и Лариса Николаевна скрепили свое «знакомство» крепким и искренним рукопожатием и, точно заинтригованные друг другом мальчик и девочка, находящиеся под неусыпной опекой взрослых, то есть нас с матерью, изо всех сил старались смотреть в противоположную сторону от той, куда им больше всего на свете хотелось смотреть. А потом взрослые, теперь ими стали мать с Сергеем Васильевичем, уселись играть в «шестьдесят шесть», а мы с Лялькой бегали друг за другом по комнатам, галдели, шумели и веселились, как самые настоящие дети, ни словом, ни взглядом не намекая друг другу о том, что состоим в негласном сговоре.
– Настасья Петровна, ставлю бутылку кефира против аналогичной емкости нарзана за то, что вы выиграете! – кричала из кухни Лялька и появлялась в дверях столовой с двумя бутылками в руках.
– А я – булку хлеба против плюшки! – подыгрывала я, махая из-за ее спины коркой хлеба и огрызком кекса.
– Девочки, девочки, не мешайте нам с Сергеем Васильевичем думать. Не шалите, девочки, – серьезно увещевала мать, а Сергей Васильевич прятал улыбку в картах, позволяя себе всего лишь озорно поблескивать глазами в Лялькину сторону.
Разумеется, они с Лялькой вышли от нас вместе. Мать, закрыв за ними дверь, изрекла:
– Славная наша Лялька. Нисколько ее Москва не испортила. Гляжу на нее и так ярко ваше детство вспоминаю. Как вы прогуливали уроки, а мне в больницу звонила ваша директриса и требовала, чтобы я доставала ей всякие редкие лекарства. Как ты думаешь, Ляле понравился наш Сергей Васильевич? – Я пожала плечами и издала неопределенный звук. – К нему сегодня совсем не шла карта, – продолжала гнуть свое мать, облачаясь в халат. – Если бы я верила в приметы, я бы сказала, что в него кто-то здорово влюбился. А как ты думаешь, он не показался Ляльке провинциальным? – Я снова пожала плечами, но мать и не думала униматься. – А Лялька, мне кажется, ему понравилась. Хотя рядом с ним она еще такая девочка… Он и смотрел на нее как на дочку.
Тут я издала хрюкающе-трубный звук и выкатилась из комнаты. Мать вскоре улеглась спать, а я еще долго курила возле форточки и глядела на бывшее Лялькино окно, в котором теперь стояла глиняная ваза с какими-то сухими будыльями. Потом положила в рот таблетку димедрола, запила крепким чаем и попыталась уснуть. Мне хотелось завтрашнего дня, но чтобы в нем обязательно была Лялька со своими возвышенно отвлеченными разговорами и наивной беспечностью. Еще мне хотелось, чтобы Сергей Васильевич снова превратился в друга взрослых, в старую мебель, словом, перестал быть возмутителем спокойствия великовозрастных детей.
Наш город не так уж и мал, однако он достаточно мал для того, чтобы вся так называемая интеллигенция знала друг друга в лицо и даже по имени-отчеству. Лялька никогда всерьез не принадлежала нашему городу, хоть и выросла в нем, а потому не могла знать его неписаных законов. Но, думаю, если бы она их и знала, то наплевала бы на них с не меньшим безразличием, чем отпетый двоечник на свой дневник. Но она, бедная, не знала и того, что даже те, к кому она прикоснулась, на кого по-особенному взглянула и кому пошуршала своим платьем, вынуждены были хотя бы не попирать этих законов публично. Еще месяц назад мы с Лялькой, уверена, непременно бы оборжали подобную ситуацию, прокомментировав поведение имеющих к ней отношение лиц самым уничижительным образом, не будь ими сама Лялька (жертва) и Сергей Васильевич (палач). Короче, дело в том, что Лялька хлебнула шампанского и принародно, возле памятника, то есть в самом сердце – культурном, политическом и любом другом – нашего города, влезла на скамейку и стала громко признаваться в любви не на шутку струхнувшему Сергею Васильевичу. Прежде чем успели поползти сплетни, слухи и все прочее, Сергей Васильевич сделал решительный ход конем, а именно: затащил Ляльку к себе домой на чай с домашним пирогом и познакомил с собственной женой, которой представил ее как приятельницу Сафоновых, добавив при этом, что помнит ее с Лелькиного, дочкиного, возраста.
– Представляешь, Алина Викторовна смотрела на меня удавьими глазами, а я все говорила и говорила – застрели, не помню про что. Потом слово взяла она. О, ее речь я помню, как клятву юных пионеров, слово в слово, все интонации, паузы. Она сказала: «Муж – этим словом она орудует как кухонным ножом – у меня расчудесный, самый чуткий, самый умный, самый честный. Вот только не везет ему – и все тут. Из-за его честности. Все его обманывают, он всем продолжает верить. Он никогда не предаст близких». Никогда не предаст близких, – повторила Лялька на неестественно высокой для нее ноте и рассмеялась. – Я получила огромаднейшее удовольствие. Ты не представляешь себе, Нелька, какое крепкое, ни с чем не сравнимое удовольствие можно получить от унижения в собственных глазах. Теперь у меня легко и безгрешно на душе, как у небесного ангела. И ни крупинки гордости, хоть ты мети по всем сусекам. Представляешь? Нет, ты не представляешь – ни крупинки.
Самое интересное состоит в том, что я на самом деле не представляла себе, как теперь у Ляльки на душе. И что она задумала – она же явно что-то задумала. Даже моя сверхнаивнейшая в житейских перипетиях мать заметила в тот вечер, что у Ляльки появился «второй план». То есть она сидела с нами, говорила с нами, смотрела на нас, но была не с нами, и все остальное было с «не».
– Скучает по семье, – констатировала мать. – Господи, существуют же еще на свете благополучные семьи.
Я позволила себе ехидную ухмылочку – камешек-то целили в мой огород. Но я ехидничала не по поводу Ляльки: я знала ее слишком хорошо, для того чтоб верить в сказку о спящей царевне, навсегда влюбленной в своего избавителя, разбудившего ее. К тому же Лялька очень проигрывала в роли смиренной, покорной, послушной и в прочих бесхребетных амплуа. Кто-кто, а я имела честь наблюдать ее в иных ролях.
Сергея Васильевича словно подменили. Особенно это стало бросаться в глаза после Лялькиного отъезда: он печатался почти каждый день в газете, выступал по местному телевидению, пиджак сменил на замшевую куртку. Вездесущая по части городских новостей мать оповестила меня, что Сергей Васильевич за короткое время дважды съездил в командировку в Москву. Мы с Лялькой, перезваниваясь время от времени, избегали упоминать его имя и даже сам факт его существования. Однажды Лялька разрыдалась в трубку, но мгновенно взяла себя в руки.
– Прости меня, пьяную дубину. Взяла и напилась с тоски.
И тут же со мной распрощалась.
Я в тот же вечер последовала ее примеру. А набравшись, позвонила Сергею Васильевичу и высказала все, что думаю о нем, его жене, его отношении к Ляльке, которое, помню, обозвала любовью сатира к нимфе. Он выслушал все до последнего слова, громко и учащенно дыша в трубку.
– Привет вашей правильной половине, – изрекла я под занавес и бросила трубку на рычаг.
Через три дня Лялька заехала ко мне по пути из аэропорта. Она страшно похудела, она вся дергалась, она была похожа на висельника, вынутого из петли в самый последний момент, – так выразилась моя обладающая метафоричным мышлением мать. Когда через полчаса явился Сергей Васильевич с букетом роз для матери (?), вымученным «добрый день» для нас с Лялькой, когда они отбыли наконец, стойко выдержав невыносимый для обоих ритуал чаепития, у матери отвисла челюсть.
– Ну и дура твоя Лялька, – изрекла она. – А я-то считала ее не в пример тебе умничкой. Наш Сергей Васильевич там долго не удержится.
– Где это – там? – Я изобразила недоумение.
Мать указала пальцем в потолок и еще долго смотрела на него после того, как опустила палец. Потом вздохнула и отправилась к соседке перекинуться в «шестьдесят шесть».
Лялька позвонила мне в час ночи и попросила как можно скорей приехать. В первый момент я здорово перепугалась – у нее был однотонный и какой-то безжизненный голос. Поразмыслив, я решила, что наступил кризис, после которого болезнь либо отступит, либо…
«Отступит, отступит, – твердила я мысленно, трясясь в вонючем такси. – И снова мы с тобой, Лялька, будем вместе на не досягаемых для простых смертных высотах».
– Я предложила ему всю себя без остатка, а он сказал мне: «Не надо, это слишком много, мне этого не осилить. Ты меня загубишь. Ты ярче, ты сильней, ты талантливей меня. Пойми: я не смогу жить в твоей тени». Так и сказал. Этими самыми словами. – Лялька говорила все тем же безжизненным голосом, но я поняла – шок прошел. – Тогда я сказала, что попрошу прощения у Алины Викторовны, потому что не могу иначе. Я ведь думала, у нас серьезно, на всю оставшуюся жизнь. Он прочитал мне проповедь насчет моего эгоизма, сказал, что, если в городе узнают про нашу связь, – так и сказал: «связь», мерзость-то какая, а? – с него живьем сдерут шкуру. Кто – не уточнил. Еще он попросил, чтобы я не позже, чем завтра, нанесла официальный визит их дому, а он при этом изобразит приятное удивление по поводу моего приезда в ваш славный город. Потом они с женой, то бишь Алиной Викторовной, пойдут меня провожать – так уже было. На следующее утро – такое тоже уже было – он скажет мне по телефону, что все о’кей, назначит очередное свидание, во время которого будет поминутно смотреть на часы. Ну да, он положит их на стул в изголовье и будет ласкать меня одной рукой, а другой шарить в поисках часов; потом, надевая ботинки, назовет меня удивительной женщиной, потом позвонит вечером из дома и станет расспрашивать, что я делала днем, и повторять – для Алины Викторовны – мое вранье про посещение родственников и друзей, потом передаст трубку ей, потом затащит к себе домой на чай, потом… У попа была собака… Нелька, я хочу напиться. У бабуси имеется наливка и чекарик водки. «Нет, не люблю я вас да и любить не стану…»
Мы встретили утро на жестком клеенчатом диване в столовой бабушки Дуси, где незаметно заснули в обнимку. Мой сон был чутким и тревожным. Я слышала, как Лялька шептала: «любимый, мой любимый», раз выругалась матом, потом долго вздыхала и чмокала губами, как маленький ребенок, которого отняли от груди.
Вечером Лялька с невероятным трудом – билетов не было на неделю вперед – улетела домой, не попрощавшись со своим «любимым». Чего ей это стоило, знаю только я да, быть может, владыко небесный, если он еще не потерял интереса к нам, грешным.
– А Сергей Васильевич тяжело заболел, – через неделю после Лялькиного отъезда объявила с порога мать. – Его привезли сегодня к нам в больницу с запущенным воспалением легких. Жена говорит: был на рыбалке, перевернулся вместе с лодкой. Состояние критическое. Ты бы Ляле, что ли, позвонила…
«Вот еще, – подумала я. – Ни за что не позвоню. Так ему и надо. Бог наказал. За Ляльку. За мою Ляльку».
В ту ночь я не сомкнула глаз. Почему-то я представляла, как Сергей Васильевич видит в температурном бреду Ляльку, обращается с мольбой к Ляльке, тянется к ней руками. Она же в это время спит безмятежно в своей постели в нежно-розовый цветочек или слушает музыку, или ее целует Дима – нежно, едва касаясь губами кожи, а не до кровавых синяков, как этот, теперь поверженный во всех отношениях. Мне было невыразимо приятно представлять его бред на узкой больничной койке, физические и душевные муки и тут же – параллельно – Лялькину безмятежность, Лялькино парение над прозой быта и бытия во имя и ради поэзии.
– Сергею Васильевичу совсем худо, – доложила на следующий день мать. – Жена не отходит от него. Ты бы все-таки поставила в известность Лялю. Как-нибудь деликатно, исподволь…
Тут меня прорвало.
– Ты хочешь, чтоб я позвонила Ляльке и сказала: «Свершилось – ты отомщена»? Ты этого от меня хочешь? Да Ляльке на него наплевать, Ляльке насрать на этого козла. Ты думаешь, с ее стороны было серьезно? Серость. Неудачник. Подкаблучник. Тряпка. Провинциальный донжуан. Пускай себе окочурится на больничной койке – это будет только справедливо.
Я еще что-то орала – сейчас не помню что. Мать поспешила закрыться у себя. Я нашла бутылку с коньяком на донышке, закурила сигарету, потом тяпнула чашку домашней наливки и набрала телефон Ляльки.
У нее играла музыка. Я узнала «Реквием» Моцарта. Когда-то в юности мы играли под него в «подкидного».
– Заранее отпеваешь? – съехидничала я. – Может, оклемается еще. Небось, ослаб организм с непривычки. На почве полового истощения чего только не случается с мужиками. А как ты там? Все о’кей, надеюсь?
Я слушала себя со стороны и с ужасом. Со стороны потому, что алкоголь делает меня другим человеком, а с ужасом – перед гневом Ляльки, как я знала, презирающей во мне этого другого человека.
– Мне вчера звонила Алина. Я достала кифзол. Завтра утром передам с одним человеком – он летит к вам в командировку. Его зовут… Забыла. Это неважно – он позвонит из аэропорта Алине или тебе. Ты слышишь меня? Скажи Настасье Петровне: это чудесный антибиотик. В прошлом году он спас жизнь моей двоюродной сестре.
У Ляльки был спокойный и вроде бы даже безмятежный голос.
«Умница, – подумала я. – Все прошло, осталось лишь чувство дружбы. Нерушимое, как гранит. Мне бы так, мне бы так…»
Через три дня я зашла к матери в больницу, больше из любопытства, чем по делу, которое было не таким уж и срочным, прошла в палату к Сергею Васильевичу. И хорошо, что прошла: прибавилось пищи для размышлений, злорадства, фантазий. В самом деле нужно обладать недюжинной фантазией, чтобы представить себе, как можно совершать половой акт (в данной ситуации это всего лишь однозначное действие, поверьте мне) с этой женщиной – колодой, обрубком, коротышкой, очкариком (диоптрий десять, если не больше), картавой на все звуки, одетой в давно устаревший кримплен, благоухающей «Красной Москвой» и так далее. По дороге домой я тешила себя постельными сценами из жизни Сергея Васильевича и «подруги дней его суровых» – он именно так отрекомендовал мне Алину Викторовну полчаса назад. Некоторые позы пришлось повторить на «бис». Я торжествовала. Больше, чем если бы Сергей Васильевич вдруг взял и сыграл в ящик.
– Золото твоя Лялька, – услыхала я вечером восхищенное материно. – Настоящий дружок. Спасла ему жизнь. Алина Викторовна рыдала сегодня у меня в кабинете и говорила, что по гроб жизни будет благодарить Лялечку за то, что она сделала для ее супруга.
Я усмехнулась и подумала: «Интересно, а после Ляльки он сможет совершать половой акт с коротышкой, обрубком и так далее? Все-таки в интимных отношениях есть что-то мерзкое, гаденькое, если один из партнеров похож на Алину Викторовну. «Раздвинь, пожалуйста, ноги… Ты хочешь сверху? Но так мне будет неудобно…» Чего? Ах да, ну, конечно же, тискать отвисшую до пупка грудь Алины Викторовны. Люди во сто крат хуже животных. Да если бы я увидела… акт с этой, в кримплене, меня бы наверняка стошнило».
…В том, что в октябре Лялька была с Сергеем Васильевичем в Сухуми, я ни минуты не сомневалась. Существуют такие небольшие детальки, которые лишь нужно собрать воедино. Ну, например, самодовольный вид от загара похожего на настоящего цыгана Сергея Васильевича, умиротворенное, с воркующими переливами Лялькино сопрано в телефонной трубке, красный бантик на затылке Алины Викторовны, уныло опустивший свои когда-то лихо торчавшие концы. Помню, я встретила ее в универсаме с кругом от унитаза под мышкой и похожей на мешок клетчатой хозяйственной сумкой.
– Добром это не кончится, – изрекла как-то мать. – Дурочка твоя Лялька – он никогда не оставит Алину Викторовну.
Это теперь я знаю, что браки, созданные на основе пылкой любви, так же недолговечны, как замки из мокрого песка под полуденным солнцем. Основанные же на взаимном разуме и житейской выгоде, они могут быть крепче бетона. Ах, вам не нравится унылый и однообразный вид бетонных строений? Но мы все теперь с головой закованы в бетон: на улице, на работе, в постели. В прямом и в переносном смысле тоже. Мы, люди конца двадцатого столетия, ограниченные в своих фантазиях, больше всего на свете привержены стабильности. Что, как не бетон, импонирует этим нашим качествам? И уж, конечно, не замки из морского песка под полуденным зноем.
Зимой я съездила на недельку к Ляльке, заразилась от нее японским гриппом, русской хандрой и иронией по поводу всего на свете, кроме музыки. Высокая температура, что называется, дала осложнение на язык, но Ляльке болтливость очень шла. Она рассказывала мне подробности их с Сергеем Васильевичем интимных отношений, которые в устах любой другой женщины звучали бы пОшло.
Она сказала:
– Он замечательный мужик, но очень неопытен, почти примитивен. Когда я стала его учить кое-чему, он удивился и спросил: «Откуда ты все это знаешь? Сколько у тебя было до меня?» С супружницей предпочитает минет. Отвратительно, правда? Это, мне кажется, так мерзко, хотя, говорят, если любишь… Но тут во мне, по-видимому, завопило врожденное чувство брезгливости. Или же я его не люблю? Как ты думаешь?.. Потом у меня возникла фантазия родить ему сына. К счастью, у нас ничего не получилось, хотя мы, поверь, очень усердствовали… С ним я открыла прелесть физиологии, представляешь? Но только не подумай, будто она теперь у меня на первом месте – все началось вовсе не с нее, а с какой-то необычайной легкости взаимопонимания. Если бы не эта легкость, мне бы и в голову не пришло… Если это всего лишь спорт, тогда это жуткая гадость. Теперь я поняла – нам на самом деле нельзя пожениться. У нас у обоих жуткий норов. Я ни за что не стану мириться с издержками каждодневного совместного бытия, как это делает его жена. Понимаешь, это возможно только в том случае, когда тебе глубоко безразлично окружающее и ты над ним паришь. Но если оно тебе небезразлично, если оно тебя волнует, трогает, бесит, выводит из себя, умиляет… Нет, нет, это не для меня. Разумом я могу это постичь. Но только разумом… Представляешь, он никогда не целует жену в губы, потому что она… Ну да, наверное, потому, что она берет в рот его… член. Я научила его целоваться. Ему понравилось, еще как понравилось! Еще он рассказывал, что можно трахаться, не прикасаясь друг к другу. Зачем, спрашивается? Не могу понять. Вот тебе издержки тепличного существования. Зато благодаря этой самой теплице чувствуешь себя почти Девой Марией. И это придает остроту, нежность, сладкую боль…
Лялька, как я поняла, открыла для себя Америку любви. Или страсти? В ту пору я все еще не улавливала разницу между двумя этими понятиями.
– Твоя подружка сошла с ума, – сказала в один прекрасный день мать, вернувшись с рынка. – Она просила передать тебе привет. И вот это. – Мать протянула мне пестрое, скорее всего петушиное, перо, покрутила пальцем возле своего седого виска и стала доставать из сумки продукты. Потом, видимо, разжалобившись от моего идиотски недоуменного вида, сообщила: – Ляля ходит по базару в соломенной шляпе и экзотическом сарафане с павлинами и скупает охапками цветы. Красивая, как картинка, но совсем тронутая. А перо, она сказала, выдрала из хвоста жар-птицы, когда та спала. Как вещественное доказательство тому, чего на свете не бывает. Слушай, ты случайно не знаешь, она не болела в детстве менингитом либо энцефалитом?
Я поставила перо в стакан с карандашами и в оцепенении уселась на подоконник. Лялька была рядом. Лялька даже не позвонила мне. Такое случилось впервые. Такое может случиться всего раз в жизни. Как Апокалипсис.
Она позвонила мне на следующее утро. Сказала, что ждет, ждет немедленно. Я с трудом изловила «тачку», разбила в спешке индийские дымчатые очки с диоптриями, но, судя по всему, успела в самый раз За празднично накрытым столом сидела Лялька в своем павлиньем сарафане, бабушка Дуся в нарядной косынке и Сергей Васильевич в джинсах и майке. Я сроду не видела его выпившим – в нашем доме после смерти отца веселящие напитки подавались лишь в чрезвычайных ситуациях. Ему это состояние шло, как Аполлону – нагота.
Я сделала вид – с трудом, правда, – что ни капли не удивлена, хотя мне и было известно о том, что Сергей Васильевич всего неделю назад отбыл в кардиологический санаторий где-то в романтических окрестностях Кавказа. Выходит, эту неделю они с Лялькой…
Я чувствовала себя не просто ошельмованной – меня обманули в лучших чувствах, то есть в моей безграничной вере в Лялькино совершенство. И в моем же восхищении им. «Такой балаган, такая дешевка, – думала я. – Вот уж, как говорится, с кем…»
– Не злись на нас – нам было не до кого, – сказала Лялька и швырнула в меня мокрой головкой розы. – А у нас сегодня помолвка. Лучшего свидетеля, чем ты, не сыскать. Бабушка Дуся очень одобряет мой выбор, хотя жалеет моего бывшего мужа. Бабушка, но ты же его никогда не видела. Как можно жалеть человека, которого никогда не видел? Вот мне гораздо трудней – я не просто видела Алину Викторовну, я пила ее чай, ела ее пироги. Сережа, я ведь грешная, очень грешная, правда? И за что ты только любишь меня?
Когда Лялька ненадолго отлучилась, Сергей Васильевич сказал мне доверительно тихим голосом:
– Прошу вас, Неля, проследите, чтоб Ляля глупостей не наделала. С ней что-то происходит. Вчера она вдруг захотела в театр. Да как! Рыдала, кидалась в меня подушками, стояла передо мной на коленях, перемерила все платья. Я не могу пойти с ней в театр – вы это понимаете. Я и так потакаю ей буквально во всем – все бросил, на все наплевал. А ей хоть бы что.
Он говорил об этом не с раздражением, а, как мне показалось, с усталым восхищением. Он был весь новый, молодой, глянцевый, как фиговый листок или кожура яблока, от которого Ева дала откусить Адаму. К нему прикасалась много раз – с любовью, с трепетом – Лялька. Как говорится: скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу, кто ты. Если бы не Лялька, я, быть может…
Мы втроем, без бабушки Дуси, разумеется, поднялись в запущенную мансарду, для которой Лялька закупала вчера цветы.
– Ты свидетель помолвки, единственный объективный свидетель. Потом, когда я разрешу тебе, ты расскажешь всем, как мы тут наслаждались жизнью и плевать хотели на все законы, порядки, диалектику и прочую чепуху. Все это, Нелька, так не похоже на мою предыдущую жизнь. Нет, то была не жизнь – состояние анабиоза, спячки. Доброе утро, Лариса Николаевна, у вас так дивно блестят глаза и так притягательно пылают щеки…
Она молола что-то еще, беспрестанно двигаясь по комнате и шелестя нам обоим своим диковинным шелковым сарафаном. Не помню что – что-то красивое, жуткое, иногда по-театральному неправдоподобное, а чаще похожее на плач больного капризного ребенка. Сергей Васильевич молча потягивал шампанское, бутылку с которым Лялька извлекла из ведра с розовыми гладиолусами. Мне мешал его слишком пристальный, слишком фиксированный на Ляльке взгляд. Мне, вообще-то, мешало его присутствие, потому что я видела, чувствовала каждой клеткой: Лялька желает что-то мне сообщить. Наедине и сугубо конфиденциально. И что Ляльке не терпится это сделать. Лялька просто умрет, если ей не удастся осуществить это.
Мне показалось, минула целая вечность, прежде чем мы очутились одни. Уход Сергея Васильевича Лялька перенесла более чем болезненно.
– Отвалил звонить своей Линочке, – затягиваясь сигаретой, комментировала она. – Каждый день в определенное время милый мой выходит на связь. «Алло, это Лина?.. Алло, алло, тебя совсем не слышно – тут вечно барахлит автомат». – Разъединяет собственноручно. – «Алло, это Лина? Вот теперь лучше. Ну, как вы там?.. У нас плюс двадцать восемь. – Так пообещали вчера вечером в программе «Время». – Да, вот именно: пью воду, гуляю, читаю… Что-что? Кто звонил? Алло, алло, опять ничего не слышно. Что за черт!.. Алло, алло… Да, да, забыл монету бросить. Передай Кривцову, что я не смогу выполнить его поручение – на здешнем рынке все гораздо дороже, чем у нас. Быть может, приеду чуть пораньше… Конечно, соскучился… Что?.. Нет, я совсем не загорел – хожу больше в тени. Ну, ладно, тут очередь звонить. Целую вас с Лелькой…» – Лялька расхохоталась, запрокинула голову назад и прошлась по комнате в стремительно летящем вальсе. – Выгляни в окошко – автомат вон под той кривой липой. Видишь?
– Да, но в нем какой-то дядька в шляпе и с бородкой, – сказала я.








