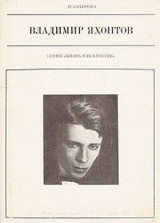
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
«Рабочий-революционер для полной подготовки к своему делу тоже должен становиться профессиональным революционером… В этом отношении мы прямо позорно расхищаем свои силы, не умея беречь то, что надо особенно заботливо растить и выращивать»[3]3
Ленин В. И. Что делать? – Полн. собр. соч., т. 6, с. 132.
[Закрыть], – писал Ленин.
«Была для меня в этих формулировках особая ценность личного порядка. Мне нравилось, как серьезно Владимир Ильич говорит о профессионализации… Я впервые читал сочинения Ленина… Передо мной открывалась новая область. У меня дух захватывало».
С ленинскими статьями повторилось то же, что с «Манифестом», – Яхонтов погрузился в область, о которой не задумывается обычный читатель. «Изучение ритмической структуры произведения» – так он это называл.
Если ритм – это биение сердца, оно по-разному бьется в эпически-торжественных строчках «Манифеста» и в словах Ленина о насущных задачах организации партии. «…Я должен был работать до последней степени наспех, отрываемый притом всякими другими работами»[4]4
Там же, с. 5.
[Закрыть]. Это слова из ленинского «Предисловия» к «Что делать?». Живого Ленина, с его темпераментом, строем мышления, наконец, реальными обстоятельствами борьбы Яхонтов почувствовал, услышал через ритм.
«Что делать?» написано в 1902 году. «Речь о вооруженном восстании» произнесена в 1917-м, перед самым Октябрем. Изменилась обстановка в стране – другим стал ритм ленинской речи.
Какая увлекательная задача – воссоздать на сцене живое биение человеческой мысли. Но как это сделать? Сюжетные связки явно не нужны, их заменяет смена ритма. Комментариев тоже не надо, зритель сам додумает все необходимое, мобилизовав собственную память и знания. Творческое самочувствие зрителя – сильнейшая помощь артисту. Надо рассчитать и обдумать каждый момент такой помощи – подготовить к нему и зрителя и самого себя, максимально использовать, – дать себе передышку, распределить усилия. Набрать новое дыхание. И – дальше.
Можно сравнить это с движением пловца, можно с восхождением на гору. Важно, что это состояние, когда ум, воля, чувство – все сосредоточено на определенной цели, и хотя маршрут известен, но каждый его поворот требует точного предвидения и сиюминутного учета.
В «Ленине» двигаться вперед помогала поэма Маяковского. Она только что вышла в свет. Было ясно, что многие ее строчки продиктованы тем же волнением, какое испытал Яхонтов при чтении «Манифеста» и ленинских работ. Строки поэмы естественно продлили движение мысли. Это, говорил Яхонтов, похоже на поток между берегов – стихи в окружении прозы. Проза – это земной пласт, основа; стихи – льющаяся масса. Функция стихов – не в рифмованной иллюстрации прозы и тем более не в сюжетном сцеплении. Стихи – та же музыка, только мелодия воспроизводится не музыкальным инструментом, а человеческим голосом.
Стихи требуют от актера определенной перестройки и перевоплощения. Их соседство с прозой – это и союз и контраст. Это своего рода «монтажный узел». Если есть термин «жизнь в роли», то возможен и другой, важнейший для поэтического театра: «жизнь в стихе».
Во время работы над «Лениным» и позже Яхонтову не раз приходила в голову мысль: актерская ли это задача или какая-то другая. Анализируя собственное состояние, он понял, что не ощущает себя ни докладчиком, ни лектором, ни чтецом. По ходу исполнения композиции его внутреннее самочувствие было точно таким, как у актера в роли. Оно так же менялось и так же зависело от «предлагаемых обстоятельств». Ему так же надо было ощутить атмосферу – она разная, допустим, в органной звучности начальных строк «Манифеста» или в рассказе о Ленине, живущем осенью в Разливе. Как передать атмосферу затишья перед бурей? Может быть, помогут стихи Пушкина: «Октябрь уж наступил…»? А дальше можно дать песню косарей: «Эх, пойду ли я, да сиротинушка, в темный лес, как пойду я с винтовочкой…». На фоне этой протяжной и грозной песни мысли Ленина звучат стремительно, взволнованно, так, как они выливались из-под пера. Нет, это не рассказ и не доклад. Рассказчик повествует: «так было». Яхонтов играл: «так есть». Он играл очевидца и участника событий, и это было главной его ролью в «Ленине», если к одной роли можно свести многие роли в необычном спектакле.
Шофер Гиль, очевидец покушения на Ленина в 1918 году, – это роль. Его рассказ – важнейшие показания свидетеля. Короткая фраза о врачебном осмотре. Единственный жест: руки хирурга – вот рана. Пауза. Конечно же, пауза. Длинная, напряженная. Потом чтение бюллетеней о ходе болезни. Как их читать? Наверное, так, как читали в те дни тысячи людей, разворачивая газету. Волнение глубоко скрыто – так бывает, когда оно доходит до предела.
В своей книге Яхонтов пишет: «По окончании я получаю записки: „Кем вы были? Правда ли, что вы были шофером Ленина?..“ Мне хочется сказать: „Правда“…»
Одна такая записка сохранилась – лежит в архивной папке, названной «Записки зрителей, присланные В. Н. Яхонтову на концертах». Сохраняю орфографию: «Товарищ! Обясните пожалуста кто вы будите и свое фомилья и скажите чем вы это время служили в качестве рабочего или матроса когда ранили Ленина. Нам интересно знать».
* * *
Как уже говорилось, Яхонтов не прибегал к декларациям и теоретическим пояснениям того, что делал. Статья «Искусство монтажа» (1926) – единственное его печатное выступление 20-х годов. Опять-таки, он решился на него в Ленинграде. Неизвестно, была ли эта статья заказана ему инициативными ленинградцами, или он сам почувствовал необходимость некоторого обоснования сделанного. Так или иначе, в статье этой видно, какую уверенность художник обрел в своем деле, хотя со дня его выступления в ленинградском Политпросвете прошло меньше года. Было бы естественно, обосновывая искусство монтажа, опереться на авторитеты сильнейших, но нет – в статье нет имен Мейерхольда или Эйзенштейна. Чувство самостоятельности и первооткрытия захлестывает так, что об учителях и коллегах Яхонтов не вспоминает. Он переполнен ощущением «своей земли» и верой в то, что найденное необходимо революционной культуре. Он сам все это нашел, сам понял и обдумал – это важнее всего. И, в общем, это правда. Говорит актер нового времени, уже с полным правом отстаивающий свою творческую самостоятельность.
Итак, – «Искусство монтажа».
«Когда спрашивается, что такое монтаж – ответ ясен: это – соединение частей. Литературный монтаж можно собрать и разобрать так же точно, как и машину. Машины же бывают разной конструкции. Точно так же и конструкция лито-монтажа может каждый раз строиться или собираться иначе. Но есть одно понятие, которое несколько отличает монтаж машины от литературного монтажа. Это понятие определяется двумя словами: музыкальная композиция… Вот почему на вопрос, что нужно, чтобы сделать литературный монтаж правильным, будет такой ответ: надо быть композитором.
Разговоры о том, что монтаж-де это компилятивная работа, просто недомыслие. Монтаж – очень сложная творческая работа, требующая от работающего над ним наличия большой музыкальной культуры. И будь мастер, строящий монтаж, дикарь и варвар в музыкальном отношении – аудитория не могла бы слушать его работу несколько часов подряд не шелохнувшись…
Механизм творческой работы над монтажом и механизм его исполнения можно изобразить так:
1) Композитор – инструмент – голос.
2) Композитор – дирижер – жест.
Но где же тогда актер?
Именно актер и ни в коем случае не декламатор (о, бессмертный штамп!).
Актер был на своем месте, он с самого начала работы совместно с композитором (а композитор он же сам) изобретал конструкцию движений, используя для этого все свои выразительные средства. Казалось бы, такое гармоническое соединение композитора и актера должно удовлетворить этого своеобразного, синтетически мыслящего художника.
Но нет! Ему еще, оказывается, надо как следует посмотреть, например, Рембрандта и особенно внимательно изучить руки рембрандтовских фигур. Значит, появляется на сцену художник?
Да!..
Отсюда можно уже сделать целых два вывода.
Первый вывод: работа над литературным монтажом и над его исполнением требует от актера высокой квалификации.
…Актер, выступающий с монтажом, должен явиться перед зрителем во всеоружии большой театральной культуры. Он должен на своем знамени написать мудрые слова Аристотеля: „Надо знать кое-что обо всем и все кое о чем“. А это значит, что тот, кто знает обо всем кое-что, еще не есть мастер (очень часто это только образцовый дилетант), но тот, кто знает еще, помимо этого, и все кое о чем, является уже мастером…
Вывод второй:
Вооруженный театральной культурой, этот актер (он же композитор, и дирижер, и постановщик, и художник) должен организовать-монтировать тот материал, который настойчиво требует, чтобы его организовали в искусство.
Это ворохи газет за все годы революции, тысячи документов, масса ослепительно-ярких и бесконечно темных бытовых явлений нашей советской действительности, словом, это материал нашей эпохи, и притом материал не поддельный, а подлинный.
Сейчас страна наша учится. Искусство должно ей помочь. Нам, в окружающей нас международной обстановке, приходится дьявольски спешить с нашим культурным развитием. Такой мастер, применяя свой синтетический метод, должен бросить в аудиторию огромные ценности старой культуры.
Ему только надо уметь выбирать материал, что из чего и время, когда и какая работа нужна.
Нельзя, например, Пушкиным заниматься в эпоху гражданской войны, а теперь, в эпоху всеобщей учебы, им заниматься не мешает…
Монтаж – это соединение частей, синтез, комплексный метод.
Монтаж должен стать и, конечно, очень скоро станет одной из актуальнейших форм современного революционного искусства».
В этой статье – живая интонация молодого Яхонтова, уверенная и горделивая, в духе времени, когда радовались экспериментам и требовали нового.
Что-то, объяснимое именно «духом времени», с годами ушло. Но от многих существенных мыслей, высказанных в этой статье, Яхонтов не отказывался никогда. Прежде всего от мыслей о мастерстве.
Характерно для открытий 20-х годов: эксперимент, как правило, неотделим от высокого профессионализма. Нечего говорить о Мейерхольде, у него за плечами был двадцатилетний режиссерский опыт. Но такие его ученики, как Эйзенштейн или Яхонтов, представали перед публикой сразу мастерами своего дела. Поразительна сила духовного в искусстве тех лет, она отметала и отвергала дилетантство. В. Шкловский писал, что это время «по своему разнообразию равнялось итальянскому Ренессансу, и, как та великая эпоха, оно имело своих предков… Советская культура, а значит, и искусство возникали не на пустом месте, но на месте заброшенном: кино в маленьких переоборудованных студиях, литература в бывших деловых конторах, в редакциях прекратившихся изданий. Революция была весной нового человечества, новые авторы не только молодые люди, но люди утренние. Известно, что ребенок, играя, учится жить. Новое искусство появилось как игра нового человека».
«Утренние люди» – хорошо сказано. Но их «игры» в театре и в кино были таковы, что на многие десятилетия дали пищу советскому и мировому искусству. В этой атмосфере родился как художник и Яхонтов, и тоже не на пустом месте, да, пожалуй, и не на заброшенном – до него и для него поработали его великие учителя. Заброшенными, неухоженными были лишь помещения, в которых он выступал. Но в рабочие клубы и студенческие общежития он явился не просто с громкими лозунгами, а «во всеоружии большой театральной культуры». И в этом был огромный просветительский смысл того, что он делал.
Характерно, что «во всеоружии большой театральной культуры» в те же самые годы вышел к зрителям и другой мастер – Александр Закушняк с «Вечерами рассказов». Их многое объединяло. Закушняк тоже прошел сложную театральную школу, и последней ее ступенью тоже оказался театр Мейерхольда. Закушняк восхищался пластической и образной стороной мейерхольдовских спектаклей и, так же как Яхонтов, испытывал смущение от «некоторого небрежения» к слову.
На известие о спектаклях молодого Яхонтова Закушняк откликнулся в одном из писем такими словами: «Я радуюсь, что он этим занимается и работает. С годами он выровняется, накипь пройдет, а останется то, что должно остаться. А все-таки жечь сердца людей можно только глаголом, а не внешними оформлениями».
Яхонтов начал с публицистики, Закушняк – с классики, которой и остался верен. Публицистика Яхонтова долгие годы считалась чуть ли не единственной его заслугой. Искусство Закушняка до сих пор толком не изучено и не оценено. «И все же надо согласиться, что репертуар Закушняка состоял преимущественно из классических произведений…» – в извиняющейся интонации современного исследователя отголоски той невнятицы суждений, которая окружала искусство уникального мастера. Закушняк остался верен своей художественной природе, своему – современному! – ощущению классического наследия. Уже одно это в пылу эстетических сражений 20-х годов было подвигом и уроком.
В ту же самую осень 1925 года Закушняк со своими «Вечерами рассказов» приехал в Ленинград. Яхонтов стал внимательнейшим его зрителем.
Он самого себя еще до конца не понял – опыт Закушняка помог ему это сделать. Рассказчик – это одно сценическое самочувствие, актер – другое. Иная техника, иные взаимоотношения с текстом, иная связь со зрителем. Но несомненно общей является задача: «бросить в аудиторию огромные ценности старой культуры».
Яхонтов подходил, собственно, уже подошел к классике, к Пушкину. Вот и в статье 1926 года будто мимоходом, но сказано о перспективах работы: может быть, нельзя заниматься Пушкиным в эпоху гражданской войны, но «теперь, в эпоху всеобщей учебы, им заниматься не мешает…»
* * *
Его окружил и поддержал воздух культурного Ленинграда. Оказавшись со своим искусством в гуще ленинградских театрально-художественных споров, он попал в уникальную культурную точку на карте страны. Например, в этом городе была своя, «ленинградская школа» театральной критики. И когда в 1927 году А. Гвоздев отметил яхонтовский «Петербург» статьей, это было не обычной рецензией, а вниманием со стороны главы школы. Гвоздев был ленинградским «мейерхольдовцем», он, конечно же, установил прямую связь Яхонтова с режиссером-учителем и чуть покровительственно погладил молодого актера по головке, но зато с каким азартом за Яхонтова тут же вступились ученики того же Гвоздева, целая дискуссия о «Петербурге» разгорелась в ленинградской критике…
В Москве Яхонтов и Попова иногда бегали слушать лекции Брюсова о поэзии и о Пушкине; в Ленинграде Пушкиным, историей литературы, теорией стиха занимались Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский и другие. Казалось, к этому располагал город – Пушкин тут тоже не только писал стихи, но обдумывал судьбы российской словесности.
В здании бывшей Городской думы помещалось учреждение, не имевшее аналогий не только в Москве, но, кажется, вообще в истории культуры: основанный по инициативе А. В. Луначарского «Российский государственный институт живого слова». Лучших слушателей, придирчивых и заинтересованных, Яхонтов не мог себе пожелать.
Кроме аудитории массовой, широкой, артисту его типа непременно нужен был круг специалистов – поэтов, теоретиков литературы, филологов. В Москве он его с годами тоже приобрел, но Ленинград сам ему этот круг предоставил.
В Институте живого слова занятия вели Б. Эйхенбаум, С. Бернштейн, В. Всеволодский. Юрий Николаевич Тынянов вел курс современной поэзии, но, как рассказывают, «повествуя, скажем, о „Двенадцати“ Блока или о „Ночи перед Советами“ Хлебникова, он говорил о них как бы с позиций Пушкина…». Имена Эйхенбаума, Тынянова, Жирмунского поминаются не зря – на их лекциях видели Яхонтова. В кругу этих людей вспоминает Яхонтова Андроников. А Тынянова, Жирмунского, Эйхенбаума в свою очередь видели на вечерах Яхонтова. «Из революции Россия выйдет с новой наукой о художественном слове» – еще в 1922 году уверенно писал Борис Михайлович Эйхенбаум, и эта наука рождалась в его же исследованиях по мелодике стиха, поэтике Пушкина и Лермонтова, в блистательных лекциях, отмеченных острой мыслью, глубокой культурой и артистизмом.
В лаборатории Н. Извекова (первой в стране научной группе такого типа) велась экспериментальная работа по изучению звуко-монтажа, литературно-театрального ритма и других сценических новаций и выразительных средств. Лаборанты Извекова по пятам ходили за Яхонтовым с блокнотами и хронометрами – можно лишь пожалеть, что их записи не сохранились.
Во второй половине 20-х годов живой интерес вызывала группа ленинградских поэтов, именовавших себя «обэриутами» – А. Введенский, Д. Хармс, Ю. Владимиров. К ним примыкали Н. Заболоцкий, К. Вагинов. Девизом «обэриутов» было особое отношение к слову, его возможностям, его многозначности, всем его граням, к слову, как бы обращенному внутрь себя самого. Яхонтов сблизился с молодыми экспериментаторами. Особенно – с К. Вагиновым.
Споры кипели вокруг Опояза (Общество изучения теории поэтического языка) – Яхонтов внимательно к ним прислушивался. При всех крайностях, в формальном методе исследования литературы заключалось существенное рациональное зерно, а главное (для Яхонтова, как для художника, именно это было главным), живым и творческим было само устремление исследовательской мысли. Потом работы опоязовцев были объявлены формалистическими и забыты на десятилетия. Нужна была перестройка в культурной жизни, чтобы оценить вклад в науку о литературе, сделанный ленинградскими учеными тех лет. Сегодня, когда отпали многие ярлыки, мешающие думать и чувствовать, старые работы, скажем, Б. Эйхенбаума или В. Шкловского, читаются с ощущением их полной современности. А написаны они были полвека назад.
«В научной работе считаю наиболее важным не установление схем, а умение видеть факты, – сказано Б. Эйхенбаумом в книге „Мелодика русского лирического стиха“. – Теории гибнут или меняются, а факты, при их помощи найденные и утвержденные, остаются». Под «фактами» Б. Эйхенбаум разумел не только факт литературы, но и факт исполнительского искусства. Его статья «О камерной декламации» касается в равной мере и законов поэзии и искусства звучащего слова. Она написана в 1923 году, до появления Яхонтова в Ленинграде.
Эйхенбаум отверг распространенное в театре отношение к стихам, как к прозе, «поистине, варварское, но – увы! – типичное для актера». Он проанализировал две манеры чтения – авторскую и актерскую, заметив, что актерская уничтожает основу основ поэзии – ритм, а авторская, поэтическая «страдает однообразием, отсутствием оттенков, некоторой механичностью (за исключением таких настоящих мастеров, как В. Маяковский)». Он указал, что проблема еще не решена, но обратил внимание, в какой стороне следует искать ее решение: где-то между «напевной народной манерой и ораторской декламацией», верно направленным «переживанием» и обдуманным построением ритма. Не соблюдением, а именно построением, ибо речь идет о переводе актерской психологии «в другую плоскость», близкую авторской.
Эйхенбаум звал актеров помнить драгоценные замечания Пушкина, что «пятистопные стихи без рифм требуют совершенно новой декламации». Он выводил даже «конкретный эстетический закон» нового искусства: «Произнесение должно быть построено на ритмической основе», то есть «особого рода интонировании, далеко не всегда совпадающем с интонацией естественной разговорной речи». И т. д. и т. п.
Можно не сомневаться, что все эти мысли были известны Яхонтову. На многих страницах книги «Театр одного актера» идет прямая с ними перекличка. В своих открытиях, касающихся «авторской» и «актерской» манер исполнения, Яхонтов не ссылается на Эйхенбаума, но идет прямо вслед ему. Ссылка в данном случае была бы справедливой.
Яхонтов – артист, живой «факт» искусства, рожденного той революционной действительностью, творческую силу которой оценили такие умы, как Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский. В Ленинграде 20-х годов он не чувствовал обычного для актера отчуждения от стана теоретиков. Теория и практика естественно смыкались, подталкивая друг друга вперед. И, что еще очень важно, такие теоретики, как Тынянов или Эйхенбаум, не чувствовали разрыва между историей и современностью. «Он остро ощущал современность как каждодневно творимую историю» – сказано в предисловии к недавно переизданным трудам Эйхенбаума. В другой книге, о Тынянове: «В его взгляде на прошлое… жил художник, проникший в историю и чувствовавший себя там – дома».
О личном общении Яхонтова с Ю. Тыняновым ничего не известно. Но если правда, как рассказывают, что при взгляде на этого замечательного писателя и ученого «мгновенно вспыхивал перед умственным взором тот, чье светлое имя не сходило с его уст», если правда, что когда Тынянов читал Пушкина, казалось, что «умерший, но живой, так сильно влиял на живущего, что тот словно бы растворялся в нем», – если все это было так, можно живо представить себе самочувствие Яхонтова на лекциях Тынянова.
Близкие отношения с В. Шкловским Яхонтов сохранил с 20-х годов до последних своих дней.
Личный контакт с Б. Эйхенбаумом был, тому есть подтверждения. Когда-то Борис Михайлович сам испытал потрясение – из Воронежа попал в Петербург, пережил знакомство с магическим городом, населенным тенями и звучащими легендами. Он не родился, но стал ленинградцем – это особый склад натуры. Его дружеское письмо к Яхонтову кончается приглашением в гости, в их «небоскреб» на канале Грибоедова. На том же Грибоедовском канале была одна из ленинградских комнат Яхонтова, одно из счастливых его пристанищ.
Где только он не жил в этом городе! На Фонтанке, в крошечной комнатушке с узким окном на набережную, на Петроградской, на Васильевском острове, на канале Грибоедова. На Марсовом поле – в квартире пианистки М. В. Юдиной, с которой в те годы подружился. И в номерах тогдашнего «Англетера» и в «Астории», а чаще всего подолгу, по полгода, – в «Европейской». Однажды в «Европейской» Лиля Попова тяжело заболела. Персонал гостиницы был потрясен необыкновенной картиной: Яхонтов привел в номер «люкс» и поселил там черную козочку – «для Лили», чтобы вспомнила «ту, кисловодскую осень» и улыбнулась.
И счастье было в Ленинграде, и драмы, и любовь, а главное – работа. Нигде так не работалось, как в этом городе, где не только памятники становились слушателями, а любой дом, площадь, набережная, двор. «Архитектура буквально не дает спать. Фонари вокруг „Александрийского столпа“ похожи на огромные канделябры, так и просятся в „Горе от ума“…»
В книжечке «Пушкинский Петербург», когда-то принадлежавшей Яхонтову, страницы сплошь исчерчены его пометками. Отмечено все, что касается декабристов. Дом Муравьевых – недалеко от комнаты Яхонтова на набережной Фонтанки. Целиком подчеркнут рассказ о знаменитом доме Кочубея и о том, как однажды кареты съехавшихся на бал гостей преградили путь длинному поезду кибиток – это везли в Сибирь партию декабристов. На минуту огни бального зала осветили бледные лица, руки в кандалах, и печальный поезд исчез в ночи…
Яхонтов ходил и ходил по этому городу, околдованный, потрясенный, уже не приезжий, а житель, счастливый обладатель богатства, которое все вместе можно назвать словами: русская культура.
И начиная с осени 1925 года трудно было сказать, где он жил больше, в Москве или в Ленинграде. По прописке москвич, он по характеру оказался ленинградцем. Стиль Ленинграда был очень ему под стать. Атмосфера города, от которой он поначалу не мог спать, с годами стала потребностью. И город, непростой и неоткрытый, привык к Яхонтову, открылся ему и полюбил ревностно, как своего.
Разговаривая с коренными ленинградцами старшего поколения, получаешь особый отклик на имя «Яхонтов». Будь то ленинградские писатели (многие, правда, осели в Москве с конца 40-х годов) или старые актеры Александринки и БДТ, работники Ленинградской филармонии или просто жители города, представлявшие довоенную студенческую аудиторию, – все откликаются сразу и очень лично, минуя ту, ленинградцам свойственную суховатую сдержанность, которая, видимо, тоже уходит в прошлое. Она привлекательна, эта неуловимая, но для москвича весьма ощутимая дистанция, которую истинный ленинградец умеет сохранять в общении. В ней и достоинство интеллигента, и уважение к вам, и уважение к себе, и гордость за свой город и его традиции, и некоторая по этому поводу печаль.
Во время войны пострадали многие города страны. Ленинград вынес, казалось, невыносимое. Где бы ни был в эти годы Яхонтов, на Урале, в Киргизии или в Мурманске, он думал о Ленинграде. Он берег письмо неизвестного ленинградца, который писал о том, как часто зимой 41–42-го года вспоминались слова про «полполена березовых дров». «В блокаду Вы продолжали быть здесь», – писали из Ленинграда. И вот, блокада прорвана и – «на чахложелтых афишах, как согревающие лучи солнца, знакомое имя: „Яхонтов“».
* * *
Среди многочисленных восторженных, умных, неумных, романтических, взбалмошных, лукавых женских писем к Яхонтову, в разное время, с разными целями написанных и по разным причинам сохраненных, – вдруг треугольники из грубой оберточной бумаги.
Назовем эту ленинградскую женщину просто: Мария Николаевна Иванова. Имя, и в самом деле, было обычным. Все ее письма написаны в годы войны, из эвакуации. Ленинград в блокаде. М. Н. Иванова с двумя детьми оказывается в Мордовии, потом в Башкирии. Поток эвакуации несет ее по глухим деревням. Все мысли – о фронте, о Ленинграде, все надежды – на конец этих мук и на возвращение. «Да будут благословенны дни радости и счастья после полной победы!.. Лишь бы только дождаться этих дней…». Связь с миром – только черный картонный рупор радио. И по радио иногда она слышит голос человека, которого когда-то любила. Первое письмо на «ты», остальные – на «Вы». В этом «Вы» – дистанция, установленная временем, изменившим отношения. Голос известного артиста Владимира Яхонтова, звучащий по радио, – это прежде всего голос с Большой земли. В деревне голод и холод, писем из Ленинграда нет. Болеют дети. Самое страшное письмо написано в тот день, когда женщина похоронила в степи пятилетнего сына.
Наконец блокада прорвана. Первые вести из дома печальны – о смерти близких, разрушениях, потерях. Потом надежда: возможно, скоро придет вызов от мужа из Ленинграда. Родственники боятся, что «я кинусь к Вам… и исчезну для них», может, потому так долго и нет вызова? Напрасно они боятся – слишком много лет прошло, вернуть прежнее невозможно. Да и сама встреча не радует, больше пугает – ведь ничего не осталось от прежней Маши Ивановой. И все же (это последнее письмо), если ему, известному артисту, по силам выполнить ее просьбу, она просит: когда придет вызов из Ленинграда, как-нибудь оформить ее проезд через Москву. Хоть издали, хоть на концерте, она хотела бы увидеть того, чей голос связывал их с Большой землей. Пусть он не боится – она не подойдет к нему. Он испугался бы постаревшей женщины и вряд ли узнал бы ее.
С тех пор прошло тридцать лет. Как раз тридцатилетие Победы праздновалось в тот год, когда, будучи в Ленинграде и не надеясь отыскать в сегодняшнем большом городе женщину по имени Мария Иванова, я все же написала ее имя и довоенный адрес на бланке ленинградского справочного бюро. И получила новый адрес, а вскоре и письмо из города Пушкина (Царского Села): «Да, я та самая Мария Николаевна Иванова. Что же Вас может интересовать в моей судьбе?» В течение полугода приходили письма, в которых возрастало волнение: старого человека заставили вспомнить то, что по многим причинам долго лежало на дне памяти и вот теперь оказалось вдруг историей, кому-то известной и почему-то нужной. Сначала меня суховато приглашали в Ленинград. Потом уже просили, потом торопили приехать скорее, потому что старость и болезнь наступали, а разбуженная память не давала покоя. «В письмах ничего не расскажешь, приезжайте!..» Наконец, я собралась, и, чтобы предупредить о приезде, позвонила. Мужской голос сразу назвал мое имя.
И после паузы произнес: «Марии Николаевны нет, она скончалась». Трубка была положена.
Я надеюсь этим рассказом не потревожить живущих. Личные судьбы бог весть какими путями переплетаются с высокой поэзией. Пусть мелькнет еще одна ленинградская тень, для истории безвестная.








