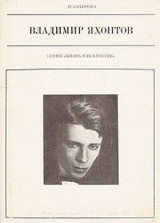
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В 1939 году, в сентябре, Яхонтов выступил в Ленинграде с программой, составленной из рассказов Михаила Зощенко. Первый вечер был устроен в сравнительно узком кругу, в ленинградском Доме писателей. Не столь уж большая аудитория, состоявшая главным образом из ценителей искусства Яхонтова, с любопытством и чувством легкого недоумения приготовилась слушать.
Артист, снискавший в литературных кругах Ленинграда особое признание своей интеллигентностью, благородной сдержанностью и рафинированным чувством слова, вдруг решил читать рассказы, говор которых отражает быт совсем других социальных слоев. Что это – каприз? Или уступка массовой аудитории?
С середины 20-х годов Зощенко был одним из самых популярных писателей. Читательская аудитория количественно выросла, короткие рассказы Зощенко были знакомы всем. Сюжеты-анекдоты, простодушная интонация рассказчика, детали быта, метко увиденные и осмеянные, – все было доступно и привлекательно.
Репутация серьезного писателя граничила со славой любимого клоуна. «Говорят, граждане, в Америке бани отличные», – стоило произнести это с эстрады, как на лицах зрителей появлялась улыбка. «Всегда я симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот, когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней», – и зритель хохотал, понимая, кто все это говорит: точь-в-точь его сосед по коммунальной квартире. Еще бы этот тип протестовал, когда «нэп вводили». Забыли его об этом спросить. «Не так давно скончался один милый человек». Ничего веселого в таком событии нет, но уж очень забавно построена фраза. Ясно, что не о смерти пойдет речь, а о каких-то интересных обстоятельствах вокруг.
Короче – Зощенко смешил и все охотно смеялись.
К тому же быт 20-х годов уходил в прошлое. Торгаши и спекулянты, мадамы и совбарышни, вздыхающие перед керосинками на коммунальных кухнях, – вся эта разношерстная публика, наделенная малой мерой понимания событий, но зато великим даром ко всем событиям приспосабливаться, была запечатлена в рассказах Зощенко 20-х годов с эпической объективностью и замечательным юмором. В 30-х годах быт изменился. Изменился и голос Зощенко, но это не сразу заметили. Исследователи, правда, уже делали попытки заглянуть поглубже внутрь авторского мира, подозревая за наглядной простотой нечто более серьезное. Но реакция массового читателя оставалась неизменной: Зощенко – значит, смешно.
На эстраде «читающих Зощенко» было огромное количество. Читал Владимир Хенкин – мастер говора и имитации, юморист высокого класса, замечательно доходчивый; читал сам Иван Михайлович Москвин; читал Игорь Ильинский, лукавый рассказчик, противопоставляющий собственное моральное и физическое здоровье пошлякам, которых изображал; читали Эммануил Каминка, Натан Эфрос и Леонид Утесов. Актеры-юмористы, чтецы-сатирики, каждый на свой лад поддерживали имя юмориста и сатирика Зощенко. А кроме этих мастеров толпа эстрадников подвизалась на бесчисленных открытых площадках, в «художественной части» после деловых собраний и т. д.
При таких обстоятельствах, окружавших репутацию Зощенко, можно понять настороженное любопытство, висевшее в воздухе Дома писателей, когда на сцену вышел Владимир Яхонтов.
Он объявил: «Михаил Зощенко».
И всем сразу стало видно, что актер волнуется.
В одном из первых рядов он увидел автора.
Пожалуй, это была первая подобная встреча Яхонтова с писателем, произведения которого он исполнял. Классики до сих пор не сидели в зале. Маяковского он среди своих зрителей не видел. Современные поэты у себя дома в компаниях слушали иногда, как он читает их стихи, но это больше походило на какую-то общую поэтическую лабораторию, где нет посторонних наблюдателей и широкой гласности.
Зощенко в те годы был красив, смугл, меланхоличен и закрыт. Он сидел, глубоко уйдя в кресло, и на лице его нельзя было заметить и тени радости.
При всех предположениях и догадках, никто, и автор в том числе, не мог знать, что именно с текстом его рассказов собирается делать Яхонтов. Можно было ждать чего угодно. Вдруг сейчас появятся какие-нибудь неожиданные предметы, ну, не цилиндр, конечно, и не канделябр, а, скажем, парусиновый портфель или керосинка. Правда, начиная примерно с 1937 года артист редко пользовался «игрой с вещами».
Никто не знал, что зощенковскую программу он готовил, ни много ни мало, три года. Не знал об этом и автор.
* * *
«Поминки» – произнес Яхонтов название рассказа. «Не так давно скончался один милый человек…» Это прозвучало так, что никто в зале не улыбнулся.
Яхонтов не изменил ни голоса, ни собственного облика. Сказового говора, принесшего Зощенко славу, не было. Совсем другой голос, строгий и серьезный, раздавался со сцены.
«…Конечно, он был незаметный работник. Но когда он, как говорится, закончил свой земной путь, о нем многие заговорили, поскольку это был очень славный человек и чудный работник своего дела».
И опять никто не засмеялся. Все как-то задумались. Актер подавал факт и свое к нему серьезное отношение. Даже знакомое зощенковское «как говорится» употреблялось не ради простоты общения с публикой, а как некий условный знак – так принято говорить. «Закончил свой земной путь» – в этих словах была своя торжественность. Актер произносил это почти эпически.
«Его все заметили после кончины». Эту фразу автор выделил красной строкой и сделал отдельным абзацем. Яхонтов так ее и прочитал – сделал паузу до и после. И фраза вдруг обрела драматический смысл.
Далее следовали приметы человеческой порядочности умершего. Они были перечислены с полным вниманием: и то, в какой чистоте рабочий держал свой станок – он пыль с него сдувал, и каждый винтик ваткой обтирал. А когда человеку на огороде стало худо, он постеснялся позвать на помощь. «Другой бы на его месте закричал: „Накапайте мне валерьянки!“ или „Позовите мне профессора!“. А он о своем здоровье не тревожился. И, упавши, сказал: „Ах, кажется, я на грядку упал и каротельку помял“». «…Тут хотели за врачом побежать, но он не разрешил отнимать от дела рабочие руки».
Всю эту прелюдию к сюжету Яхонтов подавал как документ, ничем кроме сосредоточенного спокойствия не окрашивая слова. Трудно сказать, знал ли он, что сам Зощенко в эти годы потянулся к документальности, почувствовал себя историком, исследователем. Потом он несомненно узнал это – тому есть свидетельства. А тогда только интуиция подсказала, что даже в самых «сказовых» произведениях этого автора прослушивается голос фактолога, более всего рассчитывающего на то, что читатель осознает факт. Дело же его, писателя, этот факт со всей объективностью изложить.
Мастерством сценической подачи факта Яхонтов владел виртуозно. Но то, что из прозы Зощенко он извлечет эту основу, было для слушателей полной неожиданностью.
«Конечно, ему чудные похороны закатили. Музыка играла траурные вальсы. Много сослуживцев пошло его провожать на кладбище».
Кто мог – засмеялся. Это действительно смешно сказано: «чудные похороны», «траурные вальсы». Но Яхонтов и тут не смешил, произносил эти слова мимоходом.
Собственно сюжет начался только после всего этого: некто М., который «особенно хорошо не знал усопшего, но пару раз на работе его видел», по приглашению вдовы пошел на поминки – «пошел, как говорится, от чистого сердца… Не для того, чтобы заправиться. Тем более, сейчас никого едой не удивишь. А он пошел просто идейно. Вот, – подумал, – такой славный человек, дай, – думает, – зайду, послушаю воспоминания его родственников и в тепле посижу».
«Как говорится, от чистого сердца» – звучало похоже на: «закончил свой земной путь». Сами по себе значительные, серьезные слова: «от чистого сердца». Человек сделал хороший шаг – пошел на поминки, чтобы посидеть в тепле, пообщаться с людьми. После похорон возникает у людей такое желание пообщаться друг с другом. Отсюда и обычай – поминки. Но с этого сборища нашего М. грубо выгоняют, как чужого, и даже обвиняют в том, что он пришел сюда «пожрать» и тем самым оскорбил память усопшего.
Человек три дня не находил себе покоя. Было ему «скорее морально тяжело, чем физически». По сюжету рассказа этот М. приходит к автору расстроенный так, что «у него от обиды подбородок дрожал и из глаз слезы капали». И автор успокаивает его, разъясняя, в чем была маленькая неточность поведения М. и грубая бестактность гостей. М., как говорится у Зощенко, «немного даже просиял». «Я пожал ему руку. Подарил ему книгу. И мы расстались лучшими друзьями».
Тут Яхонтов резко менял интонацию. Взгляд его обращался прямо к слушающим, голосом он предельно сокращал дистанцию между собой и залом.
«И когда он ушел, – серьезно и торжественно произносил Яхонтов, – я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выгнали его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверное, берегут их и лелеют. И, уж во всяком случае, не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: „Не бросать!“ или „Осторожно!“»
После этих слов, от которых у сидящих в зале, выражаясь языком Зощенко, «зажало где-то в животе и защемило где-то в сердце», следовали секунды молчания. Слова об осторожном обращении с людьми прозвучали не только ново, они как-то ошеломили.
Молчал зал. Задумчиво и строго молчал артист.
Потом продолжил, смешными словечками снимая напряжение и с новой силой возвращаясь к главному: «Засим я подумал, что не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: „Фарфор!“, „Легче!“. Поскольку человек – это человек, а машина его обслуживает. И, значит, он ничуть не хуже ее».
Он произносил эти слова с огромной силой убежденности. Найдя момент, когда Зощенко позволил себе заговорить собственным голосом, артист подхватил его голос и возвысил до пафоса. Это был тот самый яхонтовский пафос, который звучал в его лучших публицистических работах.
Как в других произведениях писателя, так и в «Поминках» видели анекдот, бытовой случай. Обычно Зощенко ставил точку в сюжете и на том кончал рассказ. Он не выводил отдельно морали, а если выводил, то какую-нибудь забавную, вроде того, что бывают на свете малосимпатичные мужчины или что «в общем, надо поскорее переходить на паровое отопление». Яхонтов выбрал рассказ, выпадающий из ряда других прямым участием автора и незамаскированным финалом. Изучив все, написанное Михаилом Зощенко, прислушавшись не только к голосу его недалекого, хоть и наблюдательного героя, но к голосу автора, он осмелился отделить одно от другого – дабы то, что желал сказать Зощенко, было понято не как забава, а как боль и нешуточная тревога.
Сам Зощенко чувствовал некоторую несовместимость этой своей тревоги с общим настроением подъема, даже старался добросовестно исследовать ее корни, как корни болезни, подтачивающей здоровье и мешающей долголетию. Он написал «Возвращенную молодость» – повесть, в которой не так интересен сюжет, как поразительны авторские комментарии. Яхонтов, несомненно, изучил это произведение. «Для кого я пишу?» – задавал вопрос писатель. «Для кого я читаю?» – спрашивал себя каждый день Яхонтов. «Я пишу, я, во всяком случае, имею стремление писать для массового советского читателя», – отвечал Зощенко. Яхонтов отвечал себе теми же словами.
Для слушающих стало ясно, что артист принципиально проходит мимо того зощенковского «говора», к которому привыкли, как привыкают к маске клоуна. Маску любят, она вошла в обиход, была удачно придумана, доставляла радость. А что там за маской – кому какое дело, это уже, так сказать, не интересная для широкой публики проблема.
Но оказалось, что говор, маска прикрывают в авторской личности нечто очень важное, для людей не менее ценное, чем блеск «выработанного» языка, наглядное мастерство композиции, своеобразие «чуть измененного» синтаксиса и т. п.
Яхонтов проделал свой обычный путь: влез в самое существо авторского стиля. Но там, освоившись, установив для себя тематические связи, задумавшись о том, чем и как стиль рожден, вдруг остановился, изумленный.
Он еще не сталкивался со случаем, когда автор был бы так озабочен, чтобы не обнаружить собственную душу и собственное лицо. Зощенко, оказывается, был лирик по своей природе. Но лирику прикрывал мастерски изобретенный стиль, и она, как улитка от прикосновения, в свой дом пряталась.
Яхонтов обошелся со своим открытием крайне бережно. Он дорожил им и ради него работал над программой. Он решился показать другого Зощенко, и сделал это, преодолев свои сомнения, так же как преодолевал их писатель, решаясь опубликовать «Возвращенную молодость».
* * *
Он подчинял своей главной цели все рассказы, которые читал, и они удивительно легко подчинялись.
И «Ночное происшествие», – о том, как нескладно и глупо ночного сторожа посадили между двумя закрытыми дверями сторожить магазин.
И «Огни большого города» – про деревенского старика, приехавшего к сыну в город и скандалившего с жильцами до полного ожесточения, пока милиционер на московской улице, «согласно внутренней инструкции», не отдал ему честь, «приложив к козырьку свою руку в белой перчатке». До тех пор не только жильцы, но и родной сын, официант, только насмехались над ним и разыгрывали – «довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых». И вот, один жест незнакомого милиционера, «маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика».
«Не знаю, – задумчиво произносил Яхонтов, – может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера…» – замолкал и долго смотрел в зал.
В финале Яхонтов подчеркивал идиллию – как сказку, но и как то, чему полагалось быть по справедливости: «Когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь. И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину. И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно».
И рассказ из серии «Коварство и любовь», названный «Расписка», был о том же – о недостойном поведении и о заслуженном наказании. Тут Яхонтов позволял себе двумя-тремя штрихами изобразить некоего «браковщика-приемщика с одного учреждения», который «начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей» и на всякий случай взял с нее расписку, «мол, в случае чего и если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете». Он изобразил прогулку «под ручку» одним жестом, и облик «браковщика-приемщика» легким наклоном головы в сторону спутницы – этого жеста и наклона при словах «мол, в случае чего» было вполне достаточно, чтобы очертить облик ничтожества. Когда ребеночек на свет все же появился и родители предстали перед судейским столом, долгожданным возмездием явилось поведение судьи, который «поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и сказал: „Документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение: советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы… И в силу, – говорит, – вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены… Вот, – говорит, – возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее к себе на грудку. Эта расписка вам будет напоминать о вашей прошлой любви…“»
Конечно, в зрительном зале смеялись. Потому что, как говорит Зощенко, все обошлось совершенно справедливо. А всем сидящим в зале, как вообще всем нормальным людям, очень хотелось, чтобы подобные случаи заканчивались именно так. Это было бы, опять же пользуясь словарем Зощенко, в порядке вещей и, как говорится, на пользу общему делу. Критик отметил в рецензии, что слова судьи в исполнении Яхонтова прозвучали как праведный приговор и торжество человечности.
А после монолога судьи, обращенного к мерзавцу-отцу и к матери, перед судейским столом покачивающей малютку, артист, улыбнувшись, вдруг стал читать и до конца исполнил: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: – Что такое хорошо и что такое плохо…». Стихи Маяковского прозвучали, как шутливая поэтическая мораль к монологу о том, что «советский закон стоит на стороне ребенка». Не только детям приходится объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо», но и взрослым, которые потеряли детскую невинность, зато приобрели нехорошие привычки.
Всего-навсего две рецензии сопровождали зощенковскую программу. В одной из них, живой и непосредственной, отразилось, как бывает в таких случаях, многое, не только состояние слушателей. Пытаясь разобраться в том, почему Зощенко предстал вдруг с какой-то новой стороны, критик Б. Костелянец замечает, какую интересную замену типов «рассказчика» произвел артист. У Зощенко рассказчик – человек, который «недопонял». У Яхонтова – это автор, стоящий вне, в стороне от этого «недопонявшего» субъекта.
Отыскивая свой ключ к Зощенко, Яхонтов, разумеется, не ведал, что прием, который им найден и которым он овладел виртуозно, спустя годы будет определен специалистами как один из главных приемов театра Брехта. Возможно, раздумывая над тем, в какой контакт с Зощенко и его героем ему как актеру лучше всего на сцене вступить, он вспомнил некоторые уроки Вахтангова и Мейерхольда. Эти уроки он хорошо продумал. Брехт, кстати, тоже обращался к театральным системам этих своих предшественников, свободно используя их опыт в нужных ему целях.
Но, скажем, резкое столкновение высокого и низкого восходило и вовсе к давним временам. На этом столкновении Яхонтов строил зощенковский спектакль, явно не думая, какая театральная система его к этому толкает. Толкала не система, толкал автор. И жизнь. Актер внимательно прочитал Зощенко и разглядел в его рассказах этот конфликт, жизненный, по и весьма театральный, хотя многими незамеченный. Это свойство спектакля тоже отмечено в статье Б. Костелянца.
В общем, артист нашел способ открыть на сцене самое существенное и в зощенковской теме и в самой личности автора.
«Существует мнение, – говорил Зощенко, – что я пишу о мещанах. Однако мне весьма часто говорят: „Нет ли ошибки в вашей работе?.. У нас нехарактерна эта печальная категория людей. С какой стати вы изображаете мещанство и отстаете от современного типа и темпа жизни?“ Ошибки нет… Я пишу о мещанстве и полагаю, что этого материала хватит еще на мою жизнь». Материала вполне хватило на жизнь писателя и еще осталось. Мещанин, как известно, феномен по части мимикрии. Скажем, один его вариант Н. Эрдман воссоздал в 1925 году в «Мандате», а многие другие, исторически последующие, – в 30-х годах Зощенко. Яхонтов в 1939 году не прибегал к социальным маскам, как Мейерхольд, отказался и от «жанра», распространенного среди чтецов Зощенко на эстраде. Как отмечено все в той же рецензии, он «жанром» ничего не смягчал и публику не смешил. Уродливое давал уродливым. В борьбе с этим уродством усматривал и драматическую сторону. Он устанавливал некую дистанцию между собой (автором) и материалом, позволял себе (и автору) чуть со стороны посмотреть на типы, события и сюжеты, тем самым обнаружив в зощенковской прозе – поэзию.
Мещанство – это низкое, «быт». А рядом с ним, над ним, поднимается и растет высокое – поэзия, человеческая душа, желающая освободиться от низкого, осмыслить его и, так сказать, поставить на место. Среди многих путей рождения поэзии этот – один из существенных.
Во второй рецензии на ту же программу есть знаменательное критическое замечание: «боязнь уйти в комизм», по мнению рецензента, вызвала у актера «излишнюю сдержанность, нарочитую суховатость тона», и это якобы помешало ему раскрыть такую злую сатиру, как «Речь о Пушкине». Мол, если бы, не боясь, «ушел в комизм», то и сатиру бы раскрыл.
«Речь о Пушкине» была особенно дорога Яхонтову. Позже он выделил ее из программы и часто исполнял отдельно, но она звучала уже не так, как в 1939 году, после только что прошедшего пушкинского юбилея.
Отношение к Пушкину у артиста и у Зощенко было одинаковым, об этом не стоит распространяться. Но огромный труд, проделанный Яхонтовым к 1937 году, в частности, его «Евгений Онегин», направленный против хрестоматийности и оперных штампов, вызвал помимо восторгов волну протеста среди обывателей. Это сейчас, осознав, что искусство Яхонтова тоже стало классикой, мы замираем и прислушиваемся, когда по радио или с пластинки звучит его «Онегин». А тогда (об этом с горечью писала Е. Попова) после трансляции «Онегина» на радио пришло немало отзывов от слушателей, возмущенных тем, что все это совсем «не похоже ни на оперу, ни на то, как принято читать Пушкина». Авторы писем не объясняли, как принято, а если пробовали объяснить, это звучало пародией даже на школьный учебник. Не принято, и все тут.
«С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий. Нами, во-первых, приобретен за 6 р. 50 к. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых – гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта… Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками…»
Безо всякого комизма читал эту «Речь о Пушкине» Яхонтов. И «изображать» какого-то управдома он не хотел. Собирательное явление, о котором говорил Зощенко, имело, разумеется, и свои конкретные, бытовые очертания, но более общие и широкие его границы были далеки от комического жанра.
Работник жакта, произносящий на собрании речь о поэзии, – явление столь же смешное, сколько и не смешное. «Тогда, я извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пишет. И у него есть недурненькие стихотворения:
Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке.
Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.
Шпингалету семь лет, а вот он как бойко пишет…»
Действительно, суховато читал Яхонтов эти стишки. И родительские сентенции произносил с той серьезностью, которая была рассчитана не на смех, а на гнев. Он защищал Пушкина от пошляков, зная их агрессивность и поразительную способность «соответствовать моменту». Пушкинский юбилей отражался в дремучем обывательском сознании как мероприятие, в котором надлежало участвовать. Речь о Пушкине, написанную языком обывателя, Яхонтов исполнял как речь в защиту поэзии.
Не от «боязни впасть в комизм» был избран «суховатый тон», а от брезгливого нежелания солидаризироваться хоть какой-то интонацией с представителем жакта. Вечно тревожащая художника тема «поэта и черни» вторым планом звучала и на зощенковской вечере.
В Ленинграде и по сей день жива память о том, как Яхонтов читал писателям рассказы Михаила Зощенко. Автор сидел в первых рядах, но сбоку. Когда Яхонтов кончил, Зощенко первый встал. Не аплодировал, просто стоял. Яхонтов низко ему поклонился.
* * *
Чтобы завершить рассказ, осталось привести такой факт. В архиве Яхонтова сохранилась вырезка из «Ленинградской правды» 1937 года «Четыре письма Горького Зощенко». Артист думал делать вторую зощенковскую программу. Письма Горького должны были стать ее основой.
Известно, кстати, что толчком к переписке неожиданно и забавно послужила тема злополучного жакта. Рассказ об этом – уже сам по себе «рассказ Зощенко». Только в «жактовский» сюжет на этот раз оказались втянутыми два больших писателя, и каждый на свой лад испытал от этого вполне законное смущение – один в Ленинграде, другой в Сорренто. Яхонтова привлекла мысль вывести этих «действующих лиц» на сцену. Как на замысел будущей композиции – на круг идей, волнующих артиста, – на эти письма можно сегодня посмотреть.
Дело в том, объясняет Зощенко в комментариях к письмам, что «по своему обыкновению Алексей Максимович спросил меня – нет ли каких помех в моей работе и не нужна ли мне какая-нибудь помощь? И вот, скорее шутя, чем серьезно, я сказал, что у меня не все благополучно в жилищном отношении. И что я, хотя и живу в жакте имени Горького… тем не менее правление жакта не слишком ко мне благосклонно и даже собирается вселить в мою небольшую квартиру многочисленную семью».
Как тут было Яхонтову не вспомнить «Речь о Пушкине»? «То, что происходит в наши дни, – это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтоб нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее. Еще, знаете, хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи…» и т. д.
Дней через десять к квартиранту Зощенко, пишущему прозу, явилось правление жакта в полном составе. И председатель жакта торжественным голосом сказал, что у них сейчас большое и радостное событие, что их жакт имени Горького получил сегодня письмо от Алексея Максимовича, «в котором великий писатель обещает в следующий свой приезд зайти к ним в гости, побеседовать за чаем и подарить в жактовскую библиотеку свои книги».
«Между нами: это – что такое Жакт? – спрашивал Горький из Сорренто в письме к Зощенко. – Жилтоварищество особой формы?
На всякий случай пишу его с большой буквы. Вы, пожалуйста, известите меня о том, как Он с вами поступит». Далее Горький отмечал особенности дарования Зощенко, в котором «чувство иронии очень острое и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого, лишь изредка удавалось это Питеру Альтенберг, австрийцу, о котором P. М. Рильке сказал: „он иронизирует, как влюбленный в некрасивую женщину“»; далее Горький предлагал: «Почему бы вам не съездить за границу, например, сюда, в Италию? Пожили бы здесь, отдохнули…»
В следующем письме он просил извинения, что так «нашумел» с жактом, обещал, что придет в «жилкоп» пить чай, и продолжал серьезную тему: «…Юмор ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня – да и для множества грамотных людей – бесспорно, так же, как бесспорна и его „социальная педагогика“. И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу… По-моему, вы уже и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить – вышить – что-то вроде юмористической „Истории культуры“. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно». В двух последних письмах Горького – развернутый ответ на «Голубую книгу» с пожеланием, чтобы Зощенко в такой же форме написал «на тему о страдании».
Последнее показалось Яхонтову во многих отношениях знаменательным.
За несколько месяцев до смерти Горький уговаривал другого писателя «осмеять страдание», найти форму, чтобы встать над ним. Зощенко же в свою очередь уже попробовал это сделать в «Возвращенной молодости», заметив в полном согласии с Горьким, «что некоторые знаменитые люди рассматривали свою хандру и „презрение к человечеству“ как нечто высокое, малодоступное простым смертным, полагая при этом, что это… что-то возвышенное и исключительное, полученное ими в силу большого назначения жизни…» Необходимо, однако, отметить следующее, – продолжает Зощенко, приведя список великих людей, от Пушкина до Маяковского, «закончивших свою жизнь в самом цветущем возрасте»: «некоторые из этих замечательных людей покончили жизнь самоубийством, иные умерли от чахотки, третьи от неожиданных и, казалось бы, случайных болезней. Но если присмотреться ближе, то никакой случайности не оказывается. Все совершенно логически вытекало из прожитой жизни. Все было „заработано собственными руками“».
А Горький в последнем письме к Зощенко приводил слова Маяковского «Поэт – всегда должник вселенной, платящий на го́ре проценты и пени», – и не соглашался.
Яхонтов читал все это, думал, сопоставлял. И тоже желая встать «над» страданием, чужим и собственным, перед самой войной решил сделать вторую зощенковскую программу. Его остановило что-то. В частности, исполнение с эстрады писем Горького было остановлено письмом Михаила Зощенко. Яхонтов никогда до этих пор не получал писем от тех, чьи произведения исполнял. Это письмо – единственное.
«17 января 1940 г.
Дорогой Владимир Николаевич!
Посылаю мою последнюю книгу „Избранное“. Это все старое, но кое-что Вам, вероятно, неизвестно.
В феврале пришлю Вам новую книгу 1937–1939.
Очень жалею, что мы не повидались. 17-го я позвонил в „Асторию“, но Вы уже уехали. А до этого все дни я был в дурном состоянии – что-то плохо было с сердцем и с нервами. В таком виде я обычно сижу в одиночестве. Вы уж извините меня. Два последних рассказа (что я Вам говорил) еще я не переписал. В ближайшее время Вам пришлю их.
Все больше я убеждаюсь, что Вы сделали удивительную работу. Я был (в силу особых свойств характера) замаскирован смехом. Но Вам удалось, не повредив тканей рассказа, сохранить и смех, и другие чувства. Вы передаете мои чувства с огромной силой и это поразительно, как Вам это удалось. Можно, пожалуй, спорить о пропорции – вероятно, я сильней и мужественней, чем иной раз получается в Вашем рисунке, но это не беда – общий характер правилен, и Ваше обаяние велико, чтобы спорить о деталях.
Еще раз Вам скажу – я попросту удивлен Вашей силе. Не сомневаюсь, что Вы поразительно прочтете то, что задумали, – комические рассказы – Баня, Аристократка, История болезни… Это будет сенсация. И многим актерам будет не по себе.
Что касается горьковских писем, то подумав обо всем, я решил просить Вас не читать их. Это очень интимно и сейчас это делать не следует.
Крепко жму Вашу руку и сердечно обнимаю Вас. Привет Вашей жене.
Мих. Зощенко.»
* * *
Имени Зощенко нет в книге «Театр одного актера». Нет в ней и имени Есенина. О двух значительнейших своих работах Яхонтов нигде ничего не рассказал. Никаких документов не оставил.
В архивных биографических материалах Есенин, однако, упомянут в примечательных воспоминаниях, присланных из города Николаева.
В начале 30-х годов, приехав на гастроли в Николаев, Яхонтов обратился к местному преподавателю литературы А. Бунцельману с просьбой предварить его спектакль «Петербург» вступительным словом о «маленьких людях». Говорил он о своем «Петербурге» с таким жаром, что собеседник постеснялся «заметить ему, что тема его устарела, что бывший маленький человек уже вошел в историю как хозяин новой жизни». Когда спектакль начался, преподаватель литературы забыл, что «тема устарела». Он был взволнован, и как-то сбит с толку, а после спектакля, конечно же, бросился за кулисы. Всю ночь они прогуляли по городу. Говорили о поэзии, о Маяковском, об Андрее Белом, об их новаторстве в области языка. Восторженно и долго Яхонтов говорил о Лескове, как о писателе чисто русском, по-русски юродствующем, по-русски крепком, ядреном. И, тут же вспомнив какой-то рассказ Лескова, стал убежденно объяснять что-то для себя важное: – Скоморох живет блудной, грязной жизнью, но жизнь его куда умнее и ценнее, чем жизнь праведника-столпника, отдавшего себя служению богу…








