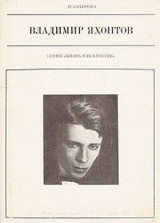
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Что касается «князя Мышкина», с ним после этого экзамена произошло нечто столь невероятное, что простому объяснению не поддается. Вместо того, чтобы уйти из студии и забыть, где она находится, он вышел в коридор, наткнулся там на поленницу дров, улегся за ней и принялся обдумывать происшедшее. Было ясно – он провалился. Но так же ясно было, что уйти от Вахтангова он не может. Надо любым способом убедить всех, что произошла ошибка.
Под утро расходились после ночной репетиции. Где-то наверху задержался режиссер. Тогда из-за кучи дров вылез юноша в помятом костюме и бросился вверх по лестнице. Таким он и предстал перед Вахтанговым – на негнущихся ногах, с бледным лицом и диковатой решимостью в глазах.
– Вы меня не приняли?
– Нет, вы неврастеник.
– Этого не может быть! – сказал молодой человек.
«Но как сказал! – вспоминает Яхонтов. – Я сказал так, как научил меня Вахтангов, когда я сидел за дровами. Я сказал вдохновенно! Я унес часть его пламени… Он отступил, угадав свое пламя… Он склонил голову…
– Ну хорошо. Вы меня убедили. Вы приняты».
Что в этом эффектном рассказе правда, а что выдумка – неизвестно. Но главное – факт: Вахтангов почему-то изменил свое решение. На следующий день, к немалому удивлению присутствовавших на вчерашнем экзамене, Владимир Яхонтов появился в студии.
«Этого не может быть!» – если хоть какую-то частицу своих будущих вдохновенных интонаций он вложил в эти слова, Вахтангов не мог этого не расслышать. Чувство, вера, пылкость воображения – все жило внутри. И вот, не в заученном монологе несчастного князя, а в неожиданном восклицании, страстном, негодующем, обращенном прямо в лицо человеку, от которого зависит судьба, – вырвалось, наконец.
Вахтангов стоял перед ним безмерно усталый, с ввалившимися за ночь глазами. Он слышал не просьбу, видел не ученический трепет, а что-то совсем другое – какое-то мгновенное, интуитивное движение, пусть лишенное логики, но безошибочное в своем внутреннем существе, – движение одного человека к другому…
* * *
Вахтангову оставалось жить меньше двух лет. На это время Яхонтов и стал его учеником. «Я ушел, чтобы вернуться на другое утро и уже не оставлять его до конца дней». Можно прочитать эти слова и так: не оставлять его до конца своих дней. Это тоже будет верно. Среди великих учителей, у которых Яхонтов брал уроки, Вахтангов был самым любимым, и связь с ним – самой прочной, о чем Вахтангову, увы, не суждено было узнать. Уходя, мастер не всегда успевает понять, кто из учеников воспримет его уроки и разовьет их в самостоятельном деле, кто на уроках так и застрянет, а кого они и вовсе собьют с толку.
Кстати, о слове «мастер». Оно не употреблялось в стенах Художественного театра. Но за руководителем Третьей студии закрепилось как-то само собой, и Яхонтов вложил в него свой смысл.
Он чувствовал, что вступает в искусство в особое для театра время и вводит его туда Вахтангов. Ему казалось, что «слово „мастер“ всегда начинало звучать в воздухе в эпохи наивысшего расцвета искусств. Так эпоха Возрождения сохранила нам ряд имен, которые получили у вековых ученических верениц звание старых мастеров. У них были свои мастерские, мраморная пыль в каждой такой мастерской была разного цвета…». Он представлял себе великого Леонардо или Микеланджело в окружении учеников. Ученики – это семья, это круг очень близких и преданных людей. Они трут краски, учатся держать кисть, копируют создания учителя, проникая в его «секреты». Ученики трепещут, ожидая, когда войдет Мастер и бросит глаз на их труд. «Идет!» – и все смолкают, приготовившись слушать. А потом в истории остается прекрасное имя Мастера и круг имен его учеников…
Атмосфера в Вахтанговской студии действительно напоминала нечто подобное: рой студийцев, а в центре – Мастер. Среди учеников идет соревнование за место поближе к Мастеру. Некоторые места были уже определены – Мастер открыто выказывал свое одобрение и свой гнев. И это сразу всеми бралось на учет. Как же не заметить, скажем, что Рубен Симонов быстрее всех схватывает любое задание и тут же выполняет, изящно и темпераментно. Глаза Вахтангова теплеют, и он все чаще обращается к Симонову:
– Рубен, ты займешься с ними ритмом! Рубен, надо разработать парад участников!
А кто не замечал, как задерживается взгляд Вахтангова на Юрии Завадском? Этого интеллигентного юношу природа наделила неземной красотой облика, благородством, изысканной пластичностью, придающей очарование каждому движению. Но ведь и работал он без устали! В студии говорили: Мастер мечтает поставить «Фауста», сам хочет сыграть Мефистофеля, а Фаустом, конечно, будет Завадский, кто же еще…
Симонов, Завадский, Орочко, Щукин, Мансурова – они грелись в лучах вахтанговского режиссерского таланта и расцветали в нем. И все видели этот расцвет и восхищались даром Мастера.
Яхонтов тоже восхищался. «Пронзительность его легкой, чрезвычайно артистической руки свела меня с ума от зависти… В руках его актер превращался в послушный материал, из которого он буквально лепил, иногда тесал, иногда обламывал…»
Сидя за спиной Мастера на репетициях «Турандот», он испытывал одно желание: стать «послушным материалом» в руках этого скульптора. Мысленно он выполнял все требования Вахтангова, к кому бы они ни относились, – к принцу Калафу – Завадскому, к Мансуровой – Турандот или к ее безмолвным рабыням.
Проклятая застенчивость! Бывает, что характер как бы сродни профессии, помогает ей – вот, у того же Рубена Симонова. Застенчивость, закрытость – не актерские свойства. Они в театральной среде, тем более студийной, только мешают почувствовать себя «своим», войти в общий круг. А законы студийности этого настоятельно требовали, отбирали «своих», выталкивали чужаков. Внутри студии эти законы бдительно поддерживались – не Вахтанговым, но той же молодежью, потому что гораздо увереннее себя чувствуешь в общем кругу, где утверждена и принята некая общность поведения. Сложнее обстоит дело с общностью художественных принципов, для молодого актерского сознания не всегда доступной материей.
Вахтангову-режиссеру уже была чужда всякая келейность и монастырский дух. Он взрывал «комнатный» репертуар, объявлял войну натурализму чувств и вещей на сцене, ставил «Гадибук», «Эрика XIV», «Принцессу Турандот» – спектакли мощного трагедийного или комедийного размаха. В лихорадке творчества Мастеру было не до того, чтобы специально заниматься «студийностью», он изживал и выталкивал ее самим творчеством. Лишь отчасти посвящая учеников в новизну методики, он занимался своей главной задачей – счищал с театра слой навыков, пелены, окутавшей открытия его учителей.
В одной из своих записей середины 20-х годов Яхонтов сравнивает мастерство Вахтангова с тем, как в гоголевском «Портрете» художник, пристально всмотревшись в чужое создание, «обмакнул в воде губку, прошел ею по холсту несколько раз и еще подивился более необыкновенной работе: лицо все почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: „Глядит, глядит человеческими глазами…“» «Что это? – невольно вопрошал себя художник. – Ведь это, однако же, натура, это живая натура…» Вахтангов (продолжает размышлять Яхонтов) как бы «долгое время оставался один на один с этими настоящими, натуральными человеческими глазами и усердно очищал этот древний портрет».
«Древнему» в театре было не так уж много лет, но искусство развивалось, как никогда, стремительно. И то, что сами основатели Художественного театра назвали «худыми традициями», энергичная рука Вахтангова оттирала даже не губкой, а жесткой щеткой. И «живая натура» в его спектаклях выступала, засияв наново.
Путей ухода от натурализма в театре множество. Вахтангов нашел тот, который, не порывая с «жизнью человеческого духа», дает ей новые, просторные и современные формы сценического существования. Кроме того, он уловил со свойственной ему чуткостью, что изменилась сама «жизнь человеческого духа» – революция сурово и жестко обходилась с этой сферой бытия. Менялось соотношение материального и духовного; резкий слом претерпевала человеческая психология; личность ставилась в ситуации, невиданные по сложности и драматизму. Вахтангов не мог выразить все это через новую современную драматургию (ее не было). Но он подчинил своему мироощущению Метерлинка, Чехова, Гоцци, Стриндберга, и они подчинились, засияв наново.
Для Яхонтова уроки Вахтангова были, кажется, той искрой, которую ждет сухой трут. Что и говорить, прекрасную школу дано было ему пройти на репетициях «Принцессы Турандот». И хотя никто не давал этому актеру никаких заданий, не требовал отчетов, не ставил отметок, по интенсивности эту школу мало с какой можно сравнить.
К рассвету кончалась репетиция, и Мастер покидал студию. «Кто не помнит Вахтангова в пять часов утра, после ночной работы, когда он, легкий-легкий, тающий от болезни, выходит на Арбат, поднимает шляпу и исчезает, чтобы через два-три часа начать новую репетицию!». Яхонтов запомнил это навсегда, так же как экзамен к Станиславскому.
Все знали, что Вахтангов болен, но никто, кажется, не понимал, что «Принцессой Турандот» он прощается с жизнью. Вахтангов требовал творческой радости, вызывал ее, учил, как удержать и заразить ею зрителя. Люди по-разному уходят из жизни. Вахтангов уходил улыбаясь.
Когда кто-нибудь от усталости засыпал на ночной репетиции, его будил веселый, заразительный смех Мастера. На всю жизнь Яхонтов запомнил этот смех и фантастическую атмосферу создания спектакля, в котором странно соседствовали радость жизни и дыхание близкого конца.
Как много – и в жизни и в искусстве – он понял в тот год, может быть, самый напряженный год своего духовного становления! Множество мотивов, возникших впоследствии в его собственном творчестве, своим началом уходило к дням, когда он сидел за спиной Вахтангова и, то глотая слезы, то заливаясь счастливым смехом, следил, следил, следил за неукротимой волей художника, кажется, посылающей вызов самой смерти.
Вечное единоборство Жизни и Смерти; бренность человека и бессмертие его созданий… Мало кто до конца понял, почему через пять лет на афише спектакля «Пушкин», созданного Яхонтовым, в строгой рамочке стояло; «Памяти Евгения Богратионовича Вахтангова».
Это было данью любви, но главное – это был ответ учителю, ответ, который Мастер вряд ли предполагал получить именно от этого своего ученика.
Хотя, кто знает.
* * *
Ю. А. Завадский говорит, что у Вахтангова к Яхонтову был какой-то повышенный интерес. Казалось, что Евгений Богратионович воспринимает его как какое-то своеобразное явление, вторгшееся в налаженный студийный быт с его особыми законами. Не чужеродное явление, но именно вторгшееся… Как Яхонтов выглядел на фоне других? Он был скромен, но в то же время очевидно было, что в своем «явлении» он не сомневается. Он не «нес» себя, скорее, наоборот, прятал, но впечатление особенности оставалось. Его постоянная отчужденность как бы предостерегала от общения. И это не вписывалось в атмосферу студии.
– Почему он не стал актером театра? – переспрашивает Завадский. – Трудно сказать. Хорошо помню его внешний облик: гладкие волосы, очень густые, прямые. Светлые глаза в глубоких глазницах. Чуть сутуловатый. Руки очень хорошие, пальцы прекрасные, гибкие. Правда, ногти обкусанные… Странно, но я не помню его мимики. Ее как будто не было вовсе. Да, да, у него не было актерского лица! Может быть, это и помешало ему тогда? Главным средством выражения был голос – особый, певучий рисунок завораживал и заставлял слушать. В его учебных отрывках не было того, что считалось нужным – он не сливался с образом. Какое-то двойственное впечатление: с одной стороны, интересная индивидуальность, с другой – непонятно, как эту индивидуальность приспособить к делу…
«Не помню мимики», «не было актерского лица» – эти режиссерские слова примечательны. В профессиональной среде ценится подвижность лицевых мускулов – ее не было. Лепка этого лица не тяготела к гриму, своеобразна была сама по себе. И запоминались не мимика, не видоизменения физиономии, но – лицо. Михоэлс, говорят, заметил однажды: «Я умоляю художников сохранить мне мое лицо». Видимо, разные есть представления о ценности актерского лица.
К счастью, нашелся человек, который сообразил, как приспособить к делу необычную индивидуальность. Это был Сергей Иванович Владимирский, молодой студиец-режиссер вахтанговской школы. Видимо, по отрывку из «Снегурочки» Островского, где Яхонтов играл Бобыля (чуть ли не единственное его участие в отрывках под руководством H. М. Горчакова), Владимирский что-то про себя и про Яхонтова понял и решил поставить ту же «Снегурочку» целиком, с двумя актерами. Снегурочку играла Вера Бендина, все остальные роли – Яхонтов. Тут следует отдать должное смелости Владимирского, его режиссерской прозорливости, юмору и истинно вахтанговскому чувству театральности. Мало того, что среди других он высмотрел Яхонтова. Он понял, что этот юноша обладает той потенциальной артистичностью, которая может оправдать на подмостках любую роль, мужскую, женскую – все равно.
Вахтангов учил закону сценического оправдания – Владимирский прекрасно усвоил это. Вахтангов бунтовал против «натурального театра» – Владимирский с азартом подхватил этот бунт. Проявив замечательную интуицию, он точно выбрал актеров для спектакля, где, как в «Турандот», «живая натура» должна была приобрести новый, свежий блеск, будучи представлена не «натурально», а, напротив, условно.
С. И. Владимирский умер в 1961 году. Оказалось, к счастью, что в 1947–1948 годах он продиктовал свои воспоминания о Яхонтове. Они лаконичны и, увы, не касаются всего того, что за «Снегурочкой» последовало. Вот что там сказано.
«…Вход в 3-ю Студию был со двора, через длинный темный коридор, наполовину заложенный дровами.
Я любил проходить мимо этих дров, потому что откуда-то сверху каждый раз слышались, видимо, специально для меня строки, прочитанные небывалым по красоте голосом. Это был Яхонтов, который прятался на дровах от занятий школьными этюдами. Обычно он сидел там с краюхой хлеба, которую с аппетитом в паузах поедал. Стихи читались не всем. Читались Бендиной, мне, Щукину, Лине Степановой. Видимо, он высматривал из засады симпатичных ему людей…
Он, конечно, понимал обаяние своего голоса.
Близились экзамены. Пребывать за дровами больше было нельзя. Уехать по случаю „семейного несчастья“ тоже было неудобно, так как уже три раза „умирала мама“ и множество раз – „папа в Нижнем“. Даже Вахтангов как-то заметил: „Опять у вас папа умер?“
И как-то так случилось, что мы встретились втроем – Яхонтов, Бендина и я, – и оказалось, что ни у кого из нас троих к предстоящим весенним экзаменам ничего нет. Мы были увлечены главным образом репетициями, где Евгений Богратионович прощупывал новые формы театральности.
Так возникла „Снегурочка“ Островского.
Репетировали в кабинете Вахтангова. Интересно, что этот суровый, строгий человек, державший в студии железную дисциплину, знал, что мы безо всякого на то разрешения захватили его собственный кабинет под репетиционное помещение. Буквально оккупировали: там репетировали, там строили ширмы-декорации, там клеили и бумажные парики и картонные бороды. И на все это было какое-то его молчаливое согласие… Наглость доходила до того, что мы уносили ключ с собой, дабы сохранить в секрете творческую лабораторию.
Моя первая труппа состояла из кругленькой большеглазой девушки – В. П. Бендиной – и в высшей степени неповоротливого статного юноши с чудесным, небывалым, чарующим голосом.
Когда я работал с Яхонтовым (а с ним приходилось работать долго), он принимал „рисунок“ медленно, но накрепко и на всю жизнь. Верочку приходилось будить – она обычно спала каждую свободную минуту за ширмами. Но не от усталости, а от избытка здоровья и от какой-то большой душевной чистоты.
Работу проделали феноменальную по объему. Верочка исполняла роль Снегурочки, Яхонтов приготовил шесть ролей: Лешего, Мороза, Весны, Леля, Бобыля, Берендея. Это сразу показало мне, что Яхонтов – явление чрезвычайное.
„Снегурочка“ шла на малой сцене Вахтанговской студии в спектакле школьных работ. Это были платные спектакли для публики.
Близилась премьера „Турандот“.
Вахтангов снял „Снегурочку“. Обиженные – я и Яхонтов – перестали посещать репетиции. Вахтангов однажды спросил Горчакова, почему не видно Владимирского и что он делает у нас в студии?
– Он поставил „Снегурочку“, – ответил Горчаков.
– Это я сам поставил „Снегурочку“, – сказал Вахтангов…»
В книге Яхонтова слова Вахтангова переданы так: «Это я сделал». Нечто подобное, так или иначе, было произнесено. Бедная «Снегурочка»! Она удостоилась высшей похвалы Мастера, но похвала стала приговором. Яхонтов объясняет: «Дело было в том, что „Принцесса Турандот“ еще не вышла на публику. А „Снегурочка“ открывала секрет постановки раньше, чем это было нужно. Мы слишком поспешно усвоили уроки Вахтангова». А Вахтангов узнал свой почерк – почерк «Турандот».
Сейчас трудно установить, чьей волей «Снегурочка» была снята «решительно и бесповоротно». В рассуждениях Яхонтова есть своя логика, не только житейская, но и художественная. И все же, кажется, совсем не до того было Вахтангову весной 1922 года, чтобы заниматься дальнейшей судьбой ученического спектакля. 30 мая он умер.
Трудно судить и о том, что думал Мастер, глядя на спектакль, о котором твердо сказал: «Это я поставил». Нет, не мог быть насмешливым взгляд Вахтангова, смотрящего «Снегурочку». Более сложное выражение было, наверно, в этих глазах, жадно и грустно вбиравших последнее, что показывали ему жизнь и театр…
* * *
Следов «Снегурочки» нет ни в Бахрушинском музее, ни в фонде В. Н. Яхонтова в ЦГАЛИ. Уникальные фотографии спектакля сохранились в частном доме благодаря человеку, чья судьба однажды роковым образом пересеклась с творческой судьбой Яхонтова. Но об этом речь впереди. Давным-давно, в 20-х годах, Попова, Яхонтов и Владимирский отдали эти фотографии Людмиле Арбат. Потеряв многое за полвека, Людмила Георгиевна эти старые фотографии сохранила. Она нашла фотографа-виртуоза, и тот восстановил их и переснял с величайшей бережностью. Нельзя не поклониться этому человеческому качеству – бережному отношению к следам творчества, тем более чужого. Давно растаявшую «Снегурочку» можно сегодня увидеть; вот они, все трое, совсем молоденькие: Владимирский, Яхонтов, Бендина. Сидят среди атрибутов спектакля – фанерный круг солнца, ширмы, лубяная коробка (все та же – мамина), широкополая шляпа…
Ю. Завадский ставит под сомнение прямую связь «Снегурочки» с «Принцессой Турандот». Он утверждает, что «Снегурочка» воспринималась как нечто совершенно своеобразное, ни на что не похожее.
– В «Турандот» была очень четкая концепция: мы играли итальянских актеров, в свою очередь разыгрывающих сказку Гоцци. Концепция подразумевала актерскую двойственность: выйдя из образа принца Калафа, я должен был остаться итальянским актером. Строго говоря, мы этого не достигали. Я «выходил» и – оставался самим собой. Возможно, Вахтангов и это учитывал, вправлял в свой замысел… Но в «Снегурочке» у Яхонтова не было никакой щели для выхода, он играл несколько ролей и между ними не было пространства. Скорее, это вызывало мысль о китайском театре, где существуют подобные условности, так сказать, правила игры. Что касается аксессуаров, то они были, скорее, мейерхольдовского толка. Мы в «Турандот» так с предметами не обращались…
Любопытно различие в восприятии одного явления искусства разными людьми. Вахтангов, свободно пользовавшийся в «Принцессе Турандот» опытом итальянской комедии масок, говорит про «Снегурочку»: «Это я сделал». Завадский в связи со «Снегурочкой» вспоминает китайский театр и Мейерхольда. У Яхонтова же возникли свои ассоциации, и он крепко за них ухватился. Чуть позже скажем – какие.
На старых фотографиях «Снегурочки» можно разглядеть озорную театральную смесь, наивную и обаятельную. Бендина в белой шали и рукавичках – как Снегурочка на детской новогодней елке. Яхонтов – Мороз с ватной бородой, привязанной тесемками, – точно так бороды из полотенца привязывали в «Турандот». Стружки вместо парика у Леля. «Деда Мороза я очень ловко изображал в простыне», – говорит Яхонтов. Он что-то путает, опять-таки, с новогодней елкой – «Деда Мороза» у Островского нет, а есть Мороз. Перепутал, но тут же объяснил: «Мороз у меня получился очень горячий, темпераментный от слов: „Здесь красно, там сине, а тут – вишнево“. Режиссер сказал мне, что это неверно. Я стал дуть метелью. Он засмеялся и оставил мою метель… Тогда я бросился и сыграл снежную бурю простыней. Он сказал, что это хорошо…»
Один что-то изобретал, другой добавлял. О чистоте стиля не думали. Вахтангов требовал, чтобы об этом не заботились, он учил играть с детской верой – «Снегурочка» для этого была удивительно подходящим материалом.
Весну сыграл голос Яхонтова.
Сначала задача испугала: как актеру-мужчине сыграть женщину, и не просто женщину, а некую победоносную стихийную прелесть, перед которой однажды не устоял сам Мороз? Ведь и вправду, не устоял, потому и родилась Снегурочка. Мороз – ее отец, Весна – мать, и оба хорошо помнят, как Мороз «не устоял». Эту память двоих о короткой любви и другую, родительскую любовь Мороза и Весны к Снегурочке – все тоже надо как-то сыграть, то есть перевести на действие; у Мороза – одно, у Весны – другое…
Режиссер скоро понял, что главная сила спектакля, позволяющая маневрировать в самых сложных условиях, – это голос Яхонтова. Пластика молодого артиста была несовершенна, иногда настолько, что режиссер прятал его за ширму – пусть говорит оттуда. Но исполнитель упрямо вылезал из-за ширмы, ему очень хотелось такого же преображения на глазах публики, как в «Турандот». Владимирский лучше видел возможности актера, он обладал талантом мизансценирования. Яхонтов сдавался, уходил за ширму.
Но голос! Мало того, что он был от природы поставлен и ему не грозили обычные для новичка срывы или неточные ноты. Он был свободен от бытовой шероховатости. Этому голосу можно было дать любое задание, и он устремлялся на волю, поражая разнообразием и красотой оттенков. Дело было не только в красоте звука, хотя звук был на редкость прозрачным, безо всяких помех, но, главное, в богатстве нюансировки, интонационных переходов, богатстве, с помощью которого действительно можно было сыграть и Весну, и Лешего, и метель.
Яхонтову повезло – пьеса была в стихах. Как ни удивительно (мхатовцы бы наверняка удивились), но именно стихи явились для этого актера самой удобной формой сценического существования. Так же как голос становился главной опорой прочим актерским данным, подтягивал их и организовывал, так стихи оказались формой, помогающей этому актеру ощутить ритм пьесы и зажить на сцене подлинным чувством.
Позволим себе, хотя бы в вопросительной форме, высказать предположение: может быть, в «Снегурочке» молодой Яхонтов взял препятствие, перед которым останавливались более опытные мастера сцены? Известно, что Станиславский возвел факт сценического произнесения стихов в проблему, требующую специального решения. Как совместить истину страстей с поэтической формой, расходящейся с условиями «естественности», «жизненности» и т. п.? Как добиться, чтобы психологическая правда не задавила поэзию? Совместимо ли вообще одно с другим в актерском искусстве? В чем тут дело – в технике речи, в том, чтобы звучали согласные и «пели» гласные или вообще существует некая неизведанная сфера театра, вплотную соприкасающаяся со сферой поэзии, отчего законы актерского искусства должны как-то видоизмениться?
Станиславский признается, что остановился перед этим хаосом вопросов. Он не решил их, только указал на их важность – как для своего театра, так и для всех прочих. Работая, скажем, над режиссерским планом «Отелло», поэтическую структуру текста он как бы выносил за скобки, анализировал лишь психологическое содержание.
Нет обстоятельных свидетельств, что «Снегурочка» эту сложную проблематику решала, но есть все основания верить режиссеру, сказавшему, что «Снегурочка» была «как бы юношеским прологом ко всему, что Яхонтов делал потом». Сам Яхонтов больше шутит по этому поводу или пробует объясниться тоже «поэтическим» способом: режиссер, мол, настаивал, чтобы он, Яхонтов, играл Весну голосом, потом добавил к этому зеленую вуаль, и тогда получилось, что «голос совсем как вуаль. Все же вместе получается – Весна».
«Голос как вуаль» – это больше похоже на стихи, чем на вразумительное объяснение собственного опыта. Но если вспомнить яхонтовский голос, о котором И. Андроников скажет, что великолепнее его, «богаче по модуляции, по силе, по нежности и по краскам на нашем веку, кажется, не было», можно догадаться, что в «Снегурочке» звучала не бытовая речь, а какая-то иная. Яхонтов признается, что скучал, слыша, что Снегурочка – Бендина «не умеет составлять простые буквы в слова». Это было вторжение обиходной речи в поэтическую ткань спектакля, потому Яхонтов и скучал. «Юношеским прологом ко всему, что Яхонтов делал потом», не мог стать бытовой спектакль. Не мог им быть и спектакль только «театральный», какой бы милой ни была фантазия его создателей. В «Снегурочке» явно содержался намек на театр поэтический, театр особой природы и особой условности.
Иногда косвенные театральные связи значительнее прямых. Такой – косвенной, но очевидной, – была связь «Снегурочки» с «Принцессой Турандот».
Вахтангов изобретательно придумал внешний облик своего спектакля. Например, «прозодеждой» актеров он сделал фрак. Поверх фрака набрасывались всякого рода детали. Это было дерзко, весело, но нешуточно по смыслу. Фрак – костюм только что ушедшей эпохи. В голодной Москве 1921 года молодые актеры на маленькой сцене своего театра появлялись во фраках и бальных платьях, как на параде, – во славу Театра. Вахтангов угадал, так сказать, исторически обусловленную театральность костюма. Кроме того, строгая линия фрака заставляет актера «держать спину», не терпит расхлябанности, требует артистизма (Яхонтов запомнил все это на будущее).
Создатели «Снегурочки» почувствовали, что «фрачность» была бы неуместна и претенциозна в русской сказке. Они не перенимали приема, но интуитивно угадывали его корни. Тут, несомненно, было родство, но даже не корней, а почвы. Почвой же было древнее, народное, площадное искусство, открытое, смелое, праздничное.
Владимирский произнес слова – «русский балаган».
И видением всплыло: нижегородская ярмарка, крики зазывал, диковинный удав, на глазах превращающийся в красавицу, девочка под парусиновым куполом кричит: «Алле»! – и прыгает в пылающий огнем бассейн…
«Мы слишком поспешно усвоили уроки Вахтангова, – подводил Яхонтов итоги „Снегурочки“. – Мы бывали на его репетициях и, разумеется, унесли часть его божественного пламени в наш русский балаган. Тем более, что мне-то он был знаком с детства. Я мигом узнал его…» Далее следуют важные слова: «Балаган не стесняется, что обманывает публику. Его иллюзия откровенно подчеркнута – это иллюзия в чистом виде. Балаган обычно беден и поэтому хитер на выдумки. Он экономен и умен. Балаган больше рассчитывает на фантазию зрителя и верит, что с этой фантазией далеко уедешь. Балаган любит подзадоривать публику. Он снимает маску и показывает жизнь, а потом снова создает иллюзию и берет в полон воображение зрителя. Он любит внезапные антракты, чтобы дать понюхать, что такое жизнь без иллюзий, и чтобы зритель захотел: „Давайте скорее дальше иллюзию“… Все это мы усвоили, мигом разгадав, в чем тут дело… Не прошло и месяца, как мы уже раздували огонь Вахтангова, пока „Снегурочка“ не растаяла…
Наш балаган закрыли».
Но балаган нельзя закрыть совсем. Его можно прогнать – с одной площади или с ярмарки. Тогда актеры сложат свой скарб и переберутся на другое место.
Сложить «скарб» «Принцессы Турандот» было бы трудно. При кажущейся легкости спектакль представлял из себя сложную художественную конструкцию, во всех деталях выверенную и отлаженную инженерной по точности рукой постановщика.
А скарб «Снегурочки» был действительно немудрен. Когда спектакль закрыли, актеры могли взять под мышки свои ширмы и картонки и легко унести с собой. Так акробат на ярмарке, поклонившись публике, сворачивает свой коврик.
«Снегурочку» понесли в школы и детские дома, где ее приняли с радостью.
Чтобы никому не ведомых актеров пустили к детям, должно было произойти важное событие: спектакль посмотрел нарком просвещения А. В. Луначарский. Никто специально не рассчитывал на его помощь, но однажды знакомые зазвали его в квартиру, где «по требованию публики» уже не первый раз игралась «Снегурочка». Квартира эта в Полуэктовой переулке известна по мемуарной литературе. Здесь когда-то жили Маяковский и Брики. Потом в большой комнате разместился со своими полотнами гостеприимный художник, и квартира превратилась, в соответствии с атмосферой тех лет, в проходной двор – кто-то жил, кто-то ночевал, кто-то заходил. Между хозяевами и гостями не было существенной разницы.
Итак, в эту квартиру пришел нарком просвещения, посмотрел «Снегурочку», ему дали школьную тетрадь, и он записал в ней:
«„Снегурочка“ Яхонтова и Бендиной хорошенькое, маленькое, ранневесеннее зернышко, из которого вырастет чудесный, ароматный и совсем новый цветок. А. Луначарский».
Как многие другие прогнозы Луначарского, сбылся и этот.
* * *
Легенду о «Принцессе Турандот» мы знаем наизусть – это классика, традиции, истоки. И Яхонтов в те годы не раз подтверждает: «наша школа», «вахтанговское пламя». Но в одном его письме через несколько лет попадаются странные слова: «Продолжать дело Вахтангова? Но разве можно в театре продолжать „дело“?.. Подите – посмотрите сейчас „Турандот“… Нет, нет! Продолжать нельзя!..»
Правда в том, что спектакль нельзя оторвать от своего времени. Но в «Принцессе Турандот» связь с временем была заложена еще и как художественный принцип. Праздничный спектакль ставился и игрался, как уже говорилось, вопреки трудностям тех лет. Его играли люди голодные, только что, как Щукин, снявшие солдатскую шинель, засыпающие на ночной репетиции не только от усталости, но от хронического недоедания. И смотрели его такие же зрители. Вахтангов не случайно требовал, чтобы печка в студии постоянно топилась – тепло тоже было праздником и дефицитом. «Принцесса Турандот» была сражением за праздник. Такое сражение нельзя длить долго. Тем более, его нельзя повторить. Оно должно быстро кончиться – победой или поражением. И Яхонтов понял это: «Нет, нет! Продолжать нельзя…»








