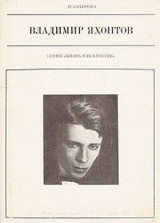
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Первый выход Татьяны. Слух актера предельно напряжен к каждому звуку пушкинского стиха.
«Ее сестра звалась Татьяна». Нет, это еще не выход, только приготовление к нему. В томике «Онегина», по которому работали Попова и Яхонтов, поставлены большие знаки вопроса и восклицания против слов комментатора: «Татьяна – довольно удачный сколок с героинь своих любимых романов… Она говорит языком Юлии, переживает опасения Клариссы, живет мечтами и думами Дельфины». «Ученые» строки издания 1904 года заставляют вспомнить пушкинское:
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство – больше ничего…
«Итак, она звалась Татьяной». Назвав героиню, Пушкин долго потом не повторяет ее имени, и какая-то особая нежность звучит в осторожном и кратком – «она».
Строфа, которую Яхонтов и Попова отмечают как «выход Татьяны», описательна, но это особая, предсобытийная, преддраматическая описательность. «Какая торжественность ритма, какая предутренняя прохлада…» – состояние, в котором предстоит произнести:
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Тишина, покой. Как-то потускнело и притихло все, что только что сверкало, звенело, переливалось красками вокруг Онегина. Все это предстало суетой.
Сейчас появится Татьяна. «Выход героини театрален!» – счастливый, заметил Яхонтов. Пушкин прекрасно его подготовил, великолепную землю расстелил у ее ног… Медленно вращается земля, медленно просыпается мир, и Татьяна одна, наедине с природой.
На природу смотрит, с ней встречается удивительное ее создание – женщина:
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.
Опять медленный, не остановленный ни единой точкой, период, и в нем «непрерывающаяся, длящаяся мелодия».
Полмиром доле обладает —
эта строчка космических масштабов: ее дыхание распространяется и на следующую строчку —
И доле в праздной тишине —
словно круги по воде, ее влияние ширится и увлекает третью и четвертую:
При отуманенной луне
Восток ленивый почивает…
Сколько медленных, торжественно-спокойных, протяжных слов в одной строфе – «полмиром», «доле», еще раз – «доле». «Отуманенной», «Восток», «почивает» – что ни слово, то от горизонта до горизонта, и куда-то дальше, в неведомую даль.
«Дол… дол…» – похоже на звук колокола в предутренней тишине… Вот ведь как выходит Татьяна – под медленный перезвон далеких деревенских колоколов!
Услышат ли это зрители? Не услышат – не надо, в конце концов, Яхонтов не настаивает.
«Она любила на балконе…» – «…Вставала при свечах она». Безымянным, растворенным в воздухе «она» Пушкин окольцовывает важнейшую строфу романа.
И вот Татьяна перед нами. Вышла в предутренней прохладе и замерла. В секундных паузах между словами и в самом произнесении слов – доверчивое спокойствие, слитое с покоем природы. «Как лань лесная боязлива» – три нежных «л» в этой строке. «Иногда ударяемое слово требует особенной, исключительной легкости произнесения», и потому «слово „лань“ я произносил осторожно, нежно, несколько затягивая „а“… и очень мягко и длинно „нь“ – мягкий знак… Эту „лань“ нужно увидеть, полюбить, бояться спугнуть…».
Итак, Татьяна появилась, артист сыграл ее выход, как в театре.
* * *
Запись сохранила четыре фрагмента из спектакля «Евгений Онегин»: письмо Татьяны; монолог Онегина в саду; письмо Онегина; последняя исповедь Татьяны. Сейчас трудно установить, почему уцелели именно эти четыре – в Москве готовилась полная запись, шесть пластинок (об этом несколько раз сообщает в письмах Попова). Говорят, целиком был записан «Евгений Онегин» и в Ленинграде, но эта запись погибла.
Итак, два голоса, извлеченные из многоголосья романа, две роли, две судьбы, неудержимо тяготеющие друг к другу, даже в страшном конечном отторжении. Финал Яхонтов играл так, что было понятно: Татьяна всегда будет любить Онегина, а в душе Онегина на всю жизнь останется след «злой минуты».
Письмо Татьяны читает мужской голос. Но степень душевной доверчивости, но чистота дыхания, но целомудренный строй мысли – все девичье, все нетронутое житейской опытностью. Какой-то высший опыт души, естественной и безошибочной в своих движениях, робкой, но и отважной в своих порывах.
Удивительно расставлены ударения в этом монологе. Неожиданным откровением звучит:
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…
Крошечная пауза после «теперь» – вся жизнь меняется после этого письма, и Татьяна отдает себе в этом отчет. «Теперь» – это как броситься в омут.
В этом «теперь» чисто женское, невольное, но точное движение – навстречу своей судьбе. И, почти задумчиво: «меня презреньем наказать», – с таким медленным ударным словом, – будто задумалась на секунду и поняла, что так оно и будет. И вдруг надежда, высказанная быстро, страстно:
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,—
мольба, и тут же, в следующей строке, такая глубокая вера:
Вы не оставите меня!
И новая волна доверия, лихорадочное объяснение своего поступка:
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда…
«Моего стыда» – почти шепот, куда-то исчезающий голос. Невозможно произнести вслух то, что Татьяна произносит. Произносит – и тут же доверчиво объясняет, почему решилась на этот «стыд».
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас…
Теперь прорывается все накопленное и рвется наружу в словах, стыда лишенных, но бесконечно целомудренных:
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном…
В этом повторном, долгом «думать, думать» – одиночество человека, который готов питаться малым, зная, что этой скудной пищи ему должно хватить надолго. Пауза, как будто даже вздох, и затем само собой проброшенное:
И день и ночь, до новой встречи.
Мысль Тани уходит в сторону, к тому, что было бы, если б Онегин не появился. Как знать,
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга…
Татьяна вдруг реально представила себе это (ведь точно предугадала будущее, то самое, что на самом деле и случилось), представила и так страшно испугалась, что оттолкнула это с ужасом, как дикую несправедливость, как насилие:
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердце я!..
Потом она сама пойдет на это, пойдет равнодушно, потому что «молила мать», а ей, Татьяне, «все были жребии равны». Но сейчас все в ней бунтует от одной только мысли, и это такой чудесный, такой праведный бунт, что тут же, внезапно, совершается немыслимая для уездной барышни перемена: обращаясь к Евгению, Таня переходит на «ты». Это не обмолвка, это полное доверие к тому, кто избран:
То в вышнем суждено совете,
То воля неба: я твоя…
Еле заметная заминка после «я» и, как клятва, самая интимная и в то же время не боящаяся огласки: «я – твоя!»
Подтекст того, что следует дальше, Яхонтов определяет словами: «Идеалом личного счастья Татьяны является духовная близость с избранником ее сердца. Она ищет глубокого общения с ним». Это суховатое определение тем не менее точно: «Душа ждала… кого-нибудь». Пушкин произнес слово «душа». За этим многое.
«Так думали, так чувствовали… только передовые, мыслящие женщины России» – сказано в книге Яхонтова. Назвать Татьяну, которая пишет Онегину, «передовой мыслящей женщиной», пожалуй, как-то скучно. Вообще «называть» то, что он делает, Яхонтов не всегда был мастер.
В письме Татьяны он передал страстную жажду человеческого общения, любовь, которая без духовного не существует, этим движима, этим питается. И уж если тот, которого автор поначалу иронически именует «кто-нибудь», выбран, то ему поистине будет отдано все и навсегда.
…Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю…
«тебе», «тобою», «твоею» – это единственность выбора: только тебе, только перед тобой, только твоей – ничьей больше.
Последующие четыре строки часто воспринимаются как преувеличенная провинциальная чувствительность. Ничего подобного. Для Яхонтова в них главное:
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна…
Если перед тем была вспышка девичьего чувства, то здесь открывается внутренний мир Татьяны, и каждое слово этой исповеди дышит буквальной правдой, без малейшего аффектирования. В четырех указанных строках каждое слово выделено голосовым курсивом, ибо важно каждое.
Можно бесконечно слушать эти строки, а тайна останется тайной: как, не делая явных смысловых ударений, бережно сохранив ритмический лад строфы, донести с предельной наглядностью реальный смысл каждого слова. Действительно – Татьяна здесь одна, ее никто не понимает.
«Здесь» – новым светом освещается ларинское поместье, балы, на которых стучат «подковы, шпоры Петушкова» и «Буянова каблук так и ломает пол вокруг». Ведь можно сойти с ума от этого. Лиц в толпе много, но вглядишься, и – никого, ни единого человеческого лица.
«Рассудок мой изнемогает» – это пушкинские по высоте слова. И тут же, рядом, такое беспомощное, щемящее: «и молча гибнуть я должна». Татьяна и живет молча, и ждет молча, и молча любит. Молча она выслушает позже отповедь Онегина в саду («Минуты две они молчали»). Потом Онегин подал ей руку:
…печально
(как говорится, машинально)
Татьяна молча оперлась…
Так же молча она пойдет под венец.
Кроме Татьяны единственная женская роль Яхонтова, которую сегодня можно услышать – в коротких репликах, – Нина в лермонтовском «Маскараде». То, что Нина – близкий Татьяне женский тип, раскрыто сходством яхонтовских интонаций. Полное доверие к избраннику – и потому особая простота, достоинство и какая-то отгороженность от среды; естественный переход от светского «вы» к домашнему «ты» – как переход из светской гостиной в комнаты своего дома; короткое горестное недоумение в ответ на жестокость; ставшая привычной готовность мгновенно закрыться, уйти, когда перед тобой – чужое и недоброе.
Если после «Онегина» послушать две уцелевшие записи «Маскарада», можно дать волю фантазии – представить, скажем, что, вдруг, вопреки известному сюжету, судьбы Татьяны и Онегина соединились, они вместе. И тогда, как следствие опустошенности героя, на головы двоих обрушилась иная драма. Герой отвернулся от «света», но тот жестоко отомстил: пробрался в душу, уничтожил там и доверие и мудрость по отношению к самому близкому человеку. А женщина, вынужденно ведущая светский образ жизни, готова все «светское» бросить по первому слову. В ней ничто не растоптано, уцелели и чистота чувств и жажда внутренней близости. Для женщины мир – это, когда вдвоем, вместе. Мужчина – один, на самом себе замкнут. За то и наказан. Так в «Онегине». Так и в «Маскараде», сыгранном Яхонтовым.
* * *
Известно, что в саду Онегин прочитал Татьяне нотацию, как взрослый человек – девочке.
Но в исполнении Яхонтова останавливает серьезность тона. Влюбленной девушке Онегин говорит всю (почти всю) горькую правду о себе. Яхонтов замечательно раскрывает ум Онегина, тот «резкий охлажденный» ум, который скрыт от светских приятелей и от любовниц, но по-своему доверчиво открывается Татьяне.
Но еще примечательнее чувство Онегина, которое Яхонтов в словах этой исповеди передал.
Первый разговор Онегина с Ленским о сестрах Лариных стал нитью, которая протянулась через весь роман:
«Неужто ты влюблен в меньшую?» —
«А что?» – «Я выбрал бы другую…»
В томике Пушкина, исчерканном красно-синим карандашом, в разделе примечаний отмечена строфа, как пишет комментатор, «исключенная Пушкиным» потому что она оказалась в противоречии с характером Онегина: в ней поэт заставил было Онегина сразу влюбиться в Татьяну. Черновая строфа обведена и на полях поставлен большой восклицательный знак:
…В постеле лежа, наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань невольных размышлений
Татьяне милой посвящал.
Проснулся он сегодня ране —
И мысль была все о Татьяне.
«Вот новое!» – подумал он:
«Неужто я в нее влюблен?»
Яхонтов обрадовался своему открытию, оно укрепило трактовку сложного, противоречивого характера.
«Не хочу влюбляться, боюсь любить, не могу поверить» – легло в подтекст исповеди, продиктовало мягкие, иногда почти робкие интонации. Онегин как бы осторожно отстраняет от себя Татьяну, «обнаруживая… душевное смятение, которым ему и поделиться-то не с кем». Душевное смятение он не раскрывает, а невольно обнаруживает, как состояние мучительное, требующее прикрытия, маски. Потому невольно улыбаешься, слыша эти слегка подчеркнутые, педалированно-мужские, поучительные ноты:
Полюбите вы снова: но…
Учитесь властвовать собою…
…К беде неопытность ведет.
На другой своей догадке Яхонтов не настаивает, задает лишь вопрос: не боится ли Онегин, «что Татьяна его разлюбит, угадав в нем духовную немощь?» В исполнении это прочитывается как глубоко скрываемый страх. Им не только поделиться не с кем, но и самому себе невозможно в нем признаться. Тоской о счастье и почти признанием в любви звучат у Яхонтова слова:
…Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив… сколько мог!
«И был бы счастлив…» – тайный вздох, моментально пересеченный коротким: «сколько мог». Яхонтов снимает знак восклицания, поставленный Пушкиным, и проговаривает быстро, как одно: «сколько-мог» – Онегин боится выдать себя, торопится потушить чувство, вот-вот готовое вспыхнуть. Яхонтов не раз возвращается к этой мысли: сердце Татьяны Онегин как бы включает в систему реальности, в общении с которой он слаб, бессилен. Возникает конфликт, драматический для обеих сторон и не имеющий разрешения.
Что может быть печальнее двух фигур, возвращающихся домой после такого разговора:
Он подал руку ей…
Татьяна молча оперлась…
Явились вместе…
Сколько горькой иронии в этом «явились вместе».
Письмо Онегина к Татьяне – как бы третий акт драмы, и он полон новых неожиданностей.
Казалось бы, кому, как не Яхонтову, с его дендизмом, с его шармом – кому, как не ему, в письме Онегина заставить сострадать герою – ведь действительно пришла очередь страдать Онегину!
Но Яхонтов прислушивается к автору и слышит, что Пушкин тут… смеется!
Бледнеть Онегин начинает…
Онегин сохнет…
Все шлют Онегина к врачам…
Человек «писать ко прадедам готов о скорой встрече», а Пушкин настроен насмешливо. Как волновался он, держа в руках листок, исписанный рукой Татьяны, сколько слов озабоченно потратил, оправдывая французскую речь героини и то, что она «по-русски плохо знала», как откровенно, не удержавшись, предварил чтение восхищенным вопросом:
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Почти насмешливым жестом он протягивает нам послание Онегина.
Яхонтов читает письмо Онегина на одном дыхании – это порыв откровенной мужской страсти, которая не говорит, а кричит о себе:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
Протяжное, горестное «Боже мой!» произнесено человеком, который, кажется, обхватил голову руками и готов повторять бесконечно: «боже мой… боже мой…». Еще большая мука в восклицании: «Как я ошибся!» И, наконец, последнее «как наказан!» венчает эту отчаянную тираду.
Нет, поминутно видеть вас,—
конец сожалениям, человек целиком, с головой отдается жадной, поглотившей его страсти:
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами…
Это почти крик – Онегин признается открыто, громко, упиваясь собственной мукой, вернее, тем, что ее можно наконец высказать, выплеснуть.
Письмом Онегина Яхонтов заключает свою интерпретацию героя. Чтобы понять ее в целом, необходимо вернуться назад, к моменту, когда девочка, отвергнутая и униженная, вдруг, словно ее что-то осенило, подымает голову и идет на новое испытание, почему-то ей необходимое.
В брошенном кабинете Онегина Татьяна погружается в изучение чужой библиотеки. Как историки, исследователи того же Пушкина, всматриваются в каждую пометку его карандаша, пытаясь разгадать то, что может быть невольно выражает душа поэта «то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком», – так тут любовь молодой женщины становится мощной силой познания.
Листая онегинские книги, Татьяна думает не только об Онегине, но о жизни. Страдание делает ее проницательной – так бывает. Свое знание Онегина, объемное и сложное, Пушкин во многом передоверяет Татьяне – Яхонтов в это верил.
Любовь Татьяны не слепа, она не угасает от прозрений, от опыта. Напротив, даже, оставшись безответной, даже толкнув человека на беду, она изо дня в день формирует его внутренний мир, его духовный облик.
Но Онегин в своей страсти слеп. И что-то неживое звучит у Яхонтова в запоздалых всплесках онегинских признаний. Яхонтов отчеркнул в тексте романа финал строфы, которая, начинается оперно запетой строчкой «любви все возрасты покорны», а кончается удивительными словами:
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след…
Впрочем, может быть, это отчеркнуто Поповой.
К финалу подходит вторая исповедь Онегина.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я…
Какое слово в этом четверостишии ударное? Напрашивается: «уверен». Онегин уверен в себе, этой уверенностью дорожит, и в конце концов, в чем-то же должен он быть уверен!
Но в том-то и дело, что всякую уверенность он сейчас потерял. Он слепой и слабый сейчас. Яхонтов ставит другое ударение и даже как бы восклицательный знак после него:
Я утром (!) должен быть уверен —
и в это «утром» вкладывает последнюю мольбу и ничем не прикрытую беспомощность. Горечь же ситуации в том, что и такого Онегина Татьяна любит.
* * *
Заключительный акт драмы – монолог Татьяны. На пластинке – только голос актера, но мизансцена легко дорисовывается всплывающими из памяти строками:
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит,
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева…
…Проходит долгое молчанье…
Это «долгое молчанье», предшествующее монологу Татьяны, в исполнении Яхонтова каким-то образом присутствует. Мы помним – она и любила молча и молча прожила эти годы. Сейчас она заговорит и скажет все, до самого последнего и самого откровенного слова. А потом замолчит о своей любви, уже навсегда.
Еще несколько минут, и она уйдет – из комнаты, от Евгения, со страниц романа. И Пушкин после ее ухода напишет только четыре строфы – быстро попрощается с читателем, с его героями, со своим трудом, с чем-то очень важным в жизни. Какой же силы должен быть этот монолог, если к нему устремлен сюжет романа и все его перипетии. Яхонтов вкладывает в него всю свою любовь к Татьяне. Он говорит: «Это моя песня о ней». Скорее, это плач по Татьяне.
Горестное недоумение, понимание, душевный и социальный опыт (ибо Татьяна узнала цену многим ступеням общественной лестницы, по которым ее вели) – все-все в этих словах:
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что муж в сраженьях изувечен;
Что нас за то ласкает двор?
Яхонтов читает очень медленно: Татьяна выстрадала смысл этих слов. «Высший свет», «богата», «знатна» – все это не притягательно для нее. Яхонтов перечисляет эти слова устало – ни укора, ни высокомерия. Задумчиво и безразлично прозвучит: «мои успехи в вихре света», «мой модный дом», «и вечера». Ветошь маскарада. Татьяна не только рассудком поняла это, как когда-то понял Онегин, но всем существом, гораздо глубже и серьезнее, чем он. Условности света – для нее пустое, она не на них оглядывается, отвергая Онегина. Условия жизни – нечто посерьезнее. Это долг, который каждый волен понимать по-своему. «Что муж в сраженьях изувечен» – вдруг грустная доброта мелькнула, и долг вдруг предстал и высоким и достойным. «Что нас… за то… ласкает двор» – каждые два слова отделены заминкой. Татьяне не легко произносить их, ибо теперь ей ведомо, за что ласкает двор и чем платят за эти ласки.
По-новому открывает Яхонтов смысл ключевых для характера Татьяны строк, которые у многих, особенно современных читателей, вызывают сопротивление:
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?
Страсть Онегина вдруг предстает действительно мелкой – не только перед долгом, которому верна Татьяна, но главное, перед ее собственным огромным и бездонным чувством. Неверно, что Татьяна поступилась чувством ради долга. У Татьяны чувство и долг вместе, неразрывны. И к Онегину. И к мужу, который «в сраженьях изувечен». Это уважение к жизни во всех ее проявлениях, данных почувствовать и понять человеку, – высший долг, как некое обязательство перед всем живым.
Слова Татьяны звучат у Яхонтова то сквозь слезы, то почти шепотом. Но – никаких рыданий в голосе. Слезы будто омывают слова, и те становятся прозрачными.
Татьяна вышла замуж, за ней закрылись двери богатого и чужого дома. Потом Пушкин показал ее в этом доме и вместе с Онегиным поразился ее новой, величавой, но по-прежнему естественной прелести. А в прощальном монологе он все-таки на мгновение вернул ее обратно, на природу, туда, где сам впервые ее увидел.
…Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище…
Перечисляя «блеск», и «шум», и «чад», Яхонтов делает большие паузы, а после слов «за полку книг» почти совсем останавливается. Произносит «за дикий сад» и опять смолкает. Словно рука Татьяны тихо открывает балконную дверь, и за ней – не гранит Петербурга, а «тихо край земли светлеет, И вестник утра, ветер веет».
Легко и просто эта женщина отбрасывает все приемы «утеснительного сана» и становится прежней Таней. Тот конфликт «между живой душой» и «мертвым бездушием общества», который сокрушил Евгения, Татьяна нашла силы разрешить в самой себе. Конфликт постоянен в плане общем, общественном, и, будучи разрешенным в пределах одной личности, оставляет след драмы. Татьяна – личность драматическая, но неразрушенная. Онегин перед ней – как обломки какого-то прекрасного здания.
В двустишии: «Но я другому отдана; Я буду век ему верна», в этой, как пишет Е. Тагер, «пресловутой формуле, жесткой и негнущейся, истом камне преткновения для истолкования образа Татьяны», Яхонтов снимает привычное смысловое ударение со слова «другому». А каким испугом и протестом звучало то же самое слово в ее письме: «Другой!.. Нет, никому на свете…». Теперь свершилось – «я другому отдана», – свершилось и исключает перемены, ибо в любой из перемен – предательство.
Из законов неволи (а замужество Татьяны – неволя) нередко произрастают другие, великие законы – чести, долга, верности. К ним взывает Татьяна, умоляя Евгения:
…Вы должны,
Я вас прошу меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?)…
«Я вас люблю» – это главная правда, но важен и последний призыв – призыв к законам, нарушать которые Татьяна не может. «Вы должны» – в голосе Татьяны не сухое требование, а мольба, и – вера в Онегина. Настойчивость этой мольбы Яхонтов тут же смягчает (а по-существу усиливает) совсем слабым, очень женским: «я вас прошу».
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Эти, и последующие пять строк – единственные, принадлежащие не героям, а автору. Но только в первых двух словах – «она ушла» – сохраняется спокойствие ремарки. Его сменяет невероятный взрыв темперамента. «Стоит Евгений, как будто громом поражен», – по интонации это перекликается с тем громом, который поразил другого Евгения, в «Медном всаднике». Вверх взмывает – «в какую бурю…» – и там, на самом верху, по слогам произносится: «о-щу-ще-ний»… Громом ли, бурей, возмездием, но Евгений поражен. В одной фразе в полную силу сыграно это финальное поражение героя.
Высоким мыслям и драматическим ситуациям пора, однако, дать разрядку:
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьяны показался.
Яхонтов любил этот «звон шпор» в классической поэзии – он звучал и в «Тамбовской казначейше», и в первой главе «Онегина», и в сценах ларинского бала, и в «Горе от ума». И тут, в финале «Онегина», звучит, хотя и без бально-мазурочного веселья. Не до того автору, не до того Онегину. Что касается исполнителя, он под занавес находит еще одну возможность выразить свое отношение к происходящему.
Это чисто яхонтовское, субъективное отношение, но необыкновенно заразительное.
И здесь героя моего
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим…
Если на «герое» сделано ироническое ударение, то на слове «злую» оно удваивает силу. Рифмы «моего» – «для него», как бы даже и нет, – звучит внутренняя, не звуковая, а смысловая рифма, звучит, как свист бича, ослабевая лишь потому, что затем следует краткое обращение к читателю и оно призывает к сдержанности.
В шуме пушкинского праздника работа Яхонтова стояла в общем ряду, и не до того было, чтобы в нее пристально всматриваться. Среди отзывов исключением был серьезный анализ, сделанный И. Фейнбергом в статье «Яхонтов читает „Онегина“», и неопубликованная, но сохраненная в архиве Яхонтова статья Е. Тагера. В работе Е. Тагера дана, пожалуй, наиболее обстоятельная и глубокая оценка исполнения Яхонтовым Пушкина.
Этот критик первым заметил, что Яхонтов-актер пошел по «неактерскому» (или новому актерскому) пути, поняв, что «игнорирование особой природы поэзии безнаказанно не проходит. Литературное произведение, переведенное в „трехмерный“ план драматургического сценария, лишается своей своеобразной „плоскостности“, огрубляется и, в конце концов, предстает в искаженном и обессмысленном виде. Происходит то же самое, что в слишком резком и грубом барельефе, – когда фигуры еще не превратились в скульптуру, в самостоятельную статую, а в то же время утратили связь с гладью стены и торчат, нелепо высунувшись из своего медальона».
В статье Е. Тагера твердо сказано, что «Евгений Онегин» – «лучшая, наиболее зрелая работа Яхонтова», в ней ярче всего сказалась правда яхонтовских «переосмыслений», умение передать самое сложное – «сконденсированный душевный опыт поэта». В пушкинском голосе актер нашел больше гнева и страдания, чем улыбки и ласковой иронии.
* * *
Держа перед глазами все, что можно собрать в некую «легенду о Яхонтове», стараясь глубже понять его, как человека и художника, в рассказах о нем отделить правду (пусть жестокую) от вымысла, стоит с максимальным вниманием прислушаться к его «Евгению Онегину».
Татьяна противостоит «свету», ее чувство – всяческим условностям. Несовместимость – и постоянное, драматическое соприкосновение. На этой мудрой и горькой диалектике построен роман Пушкина. Онегин в нем предстает воплощением этих начал, символом постоянного колебания между ними.
«Упоение света» в первой главе дано в полную силу, с «красивой» своей стороны, выход героя праздничен, и это понятно и близко Яхонтову. Но понятно ему и другое.
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Как помнят очевидцы, слова «очерстветь», «окаменеть», «мертвящий», «омут» вставали перед слушателями в своем прямом и страшном значении.
По отношению к Онегину Яхонтов часто употребляет слово «опустошенность». Ее ужасные часы были знакомы художнику. («Мне не о чем думать».) Речь идет не об изначальной пустоте души, а о ее возможном разграблении.
Впрочем, в одном Яхонтов от Онегина резко и категорически отстраняется. В своей книге он определяет это прямолинейно: «Поэт – человек дела, а герой его бездействует, как и многие молодые дворяне начала девятнадцатого века». У Пушкина сказано лучше: «Труд упорный ему был тошен». Яхонтов – тоже поэт, художник, и святая святых для него – ежедневный, ежечасный труд, хотя бы над тем же «Онегиным».
Вклад Поповой в эту работу не ограничивался функцией режиссера. «Однажды, вернувшись домой страшно усталой, Попова очень тихо наговорила мне сон Татьяны. Я в ту же ночь все поразительно ясно увидел…». Попова «наговорила» Яхонтову не только сон Татьяны, но ее характер, ее природу. Чтобы Татьяна была создана, нужно было пробыть с таким человеком, как Яхонтов, пятнадцать лет, полных внутренних бурь, приобретении и потерь. Как уже говорилось, в этом творческом и человеческом союзе дар художественного воплощения был дан ему. Быть терпеливой, мужественной, понимающей, спокойной, выносливой, молчаливой – досталось ей. Иногда она противилась судьбе – невыносимо было видеть, что «меж детей ничтожных мира…»
Нужно было пройти через многое – уйти, вернуться, понять себя, понять другого, – чтобы сделать общим и перевести в творчество нелегкий жизненный опыт.
Нужно было, например, однажды и навсегда выбрать: «Ты чуть вошел, я вмиг узнала». Выбрать не рассудком и не девичьим полуслепым порывом, а мгновенным и точным движением души. Счастьем это не назовешь – девочкой Татьяна называет свои чувства «горьким мученьем», а в финале говорит: «счастье было так возможно…».
И все же Татьяна выбрала безошибочно. Выбрала, а потом не побоялась познания, сама нашла к нему путь. И наконец, она увидела у своих ног, любящим и страдающим, того, кто во всем мире был единственно ее человеком.
Нет, все-таки было в этой жизни счастье – полноты испытанных чувств. И в жизни Лили Поповой было то же.
Была просто Таня – задумчивая, тихая, неразборчивая в чтении, наивная. Была Таня, стала – Татьяна. Из всех образов пушкинского романа этот – самый любимый, самый важный и бесконечно дорогой для исполнителя.
Когда пришлось отказаться от двух вечеров, необходимых для полного исполнения «Онегина», был сделан один – «о Татьяне».
Попова, слушая по радио яхонтовского «Евгения Онегина», записала в дневник: «О, моя Татьяна! Как много я вложила в тебя, все, все, каждый звук – он из нас, из меня, из нашей жизни. Я жду его, как ребенка».
Яхонтов никогда не исполнял «Онегина» совершенно одинаково. То развенчивал Евгения, то жалел его. То плакал над Татьяной, то молился на нее. То как-то недоумевал. Шел на концерт и размышлял по дороге:
– Ну, признаться в любви, написать письмо… Ладно, это я понимаю. Но предложить такому типу сразу союз навеки – это невозможно! Это глупо, наконец!
А после вечера:
– Ну, как сегодня Таня? Все-таки удивительное она существо! Я и понимаю ее и не понимаю…








