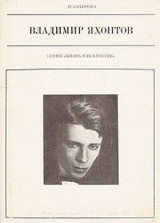
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
«Чу! шум», – без восклицания; «Не царь ли» – без вопроса. Как будто нарочно стерты эмоциональные краски, на которые обычно уходит актерская энергия. Что же тогда звучит, если слово эмоционально не окрашено?
Звучит, как ни громко это сказано, то, что и хотел Пушкин, – трагедия народная. Трагедия многих, чьи лица неразличимы, ибо это тысячи, миллионы. Огромная толпа, трагический хор, лишь временами выталкивающий из себя солиста.
Пушкин никак не «раскрашивает» людей из толпы. Он называет: «Народ», а перед народными репликами помечает: «Один», «Другой», «Первый». Опять «Другой», потом «Третий», «Четвертый». Нет характеров, нет характеристик, все это «народ», который может вдруг хором сказать:
Царь, царь идет.
Многоголосье Пушкин собирает как бы в один голос, а восклицание лишает восклицательного знака.
В бесстрастности не только примета яхонтовской манеры, не только разгаданный секрет стиля, но глубокий смысл, психологический и социальный.
Народ заинтересован в происходящем, но и спокоен. Ибо привык. Привычность, почти обрядовость – ключ к звучанию сцены.
Покой нарушается мальчишками, окружающими Юродивого:
Николка, Николка – железный колпак!..
Голос становится детским, высоким, чтобы на следующем слове устало опуститься вниз:
Старуха.
Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. – Помолись, Николка, за меня грешную.
Высокий детский голос Юродивого:
Дай, дай, дай копеичку.
Опять усталое, безликое (говорит старуха):
Вот тебе копеичка (пауза); помяни же меня.
В ответ звучит песня Юродивого. Четыре строчки абсурда, песня-молитва, бессмысленная и странная. В ремарке у Пушкина сказано: «садится на земь и поет». Яхонтов эту ремарку опускает. Но то, что не «на землю», а «на земь» – входит в стиль трагедии и, непостижимым образом, в стиль исполнения.
Откуда Яхонтов взял мотив песни Юродивого? Наверно, сам придумал. Знающие люди подтверждают, что сам. Вольная правка в тексте: «Месяц едет». У Пушкина – «светит».

Нетрудно сделать нотную запись. Труднее на бумаге передать странность звучания. Тут и простодушие – до безумия; потаенный трагический смысл – в бессмыслице; одиночество, страшное, как любое одиночество в толпе, – поэта ли, блаженного ли. Толпа вытолкнула на паперть одного из своей массы и то издевается над ним, то прикрывает его собой, то боится его, то жадно слушает. В колебании взаимоотношений – некое постоянство, внутреннее и трагическое единство.
А у меня копеичка есть —
детское наивное хвастовство и детская же незащищенность. Тут же жалобное, о себе в третьем лице:
Взяли мою копеичку, обижают Николку!
И – доверчивое обращение к царю, по имени, как к брату:
Б-ори-и-ис! Бори-и-с! Николку дети обижают…
Пауза. Словно раздвинуты строки, чтобы ясно была видна картина. Остановился царь. Удивленные, вслед за ним остановились бояре. Что так поразило царя? Может быть, его собственное человеческое имя, громко, как зов, произнесенное: «Бори-и-ис!»
Подать ему милостыню. О чем он плачет?
Только что был слышен казенный голос другого царя, императора Николая, выражавшего суждение о трагедии «Борис Годунов», Теперь звучит голос царя Бориса. Пушкин дал ему в этой сцене всего две фразы. В первой («Подать ему милостыню») – приказ, во второй – удивительный, странный для царя вопрос: «О чем он плачет?»
О чем плачут юродивые?
Царь, задавший такой вопрос, и ответ получает по заслугам, как от ребенка, который отвечает, подчиняясь не соображениям, а чистому чувству, прямому желанию.
Николку маленькие дети обижают… Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
Маленькие дети в сознании Юродивого вызывают мысль о маленьком царевиче, некогда убитом. К царю обращена просьба о защите, а вместе с ней – наивный (лукавый?) и страшный совет: «Вели их зарезать». Сказано открыто, отчетливо, нараспев.
Бояре
Поди прочь, дурак! схватите дурака!
Борис
Произнеся «Борис» (у Пушкина – «Царь»), Яхонтов делает паузу. Молчит Борис, будто ослепленный секундным видением. Кажется, он застыл на паперти, на глазах у народа. Собирается с силами – надо что-то сказать, все ждут. Слова, через силу произносимые, падают тяжело, каждое отдельно, связанные, однако, единым гудящим звуком.
Оставьте его.
Молись
за меня,
бедный
Николка.
«Помолись, Николка, за меня, грешную», – попросила старуха, и Юродивый тут же сел «на земь» и запел свою молитву. Теперь с той же просьбой («Молись за меня») к Николке обратился царь.
Нет, не-е-ет!..
Первое «нет» – резкий, по-прежнему детский, хитроватый крик. Но за ним следует какой-то немыслимый по силе и высоте вопль. Этим воплем отвергается и царская просьба, и сам царь, и все, что обижает человека.
Нет, не-е-ет! нельзя молиться за царя И-и-и-рода – богородица не велит…
У Пушкина после «Ирода» поясняющее тире, у Яхонтова в голосе – как бы три восклицательных знака, а звук «и» в «Ироде» запущен в такую поднебесную высоту, куда, кажется, человеческому голосу и доступа нет – там богородица, которая «не велит». Пауза. Где-то «там» Юродивый на мгновение встретился с теми, чьей волей вершатся земные дела, а потом вернулся опять на землю и забылся в своей странной песне:
Ме-е-есяц едет,
Коте-о-о-нок плачет…
Опять пауза. Для того, наверно, чтобы мы, слушатели, перевели дыхание. А Пушкин как бы услышал себя со стороны, помолчал и задумчиво произнес, подводя итог услышанному: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак Юродивого. Торчат!» В этом коротком и лукавом «Торчат!» – торжество Поэзии, которая, кажется, сильнее не только царей, но, на радость Пушкину, сильнее и его самого.
Столкновение с царем и Бенкендорфом, чтение «Бориса Годунова» и письма к Вяземскому заключалось словами: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» Сразу после этого звучало стихотворение «Чернь»:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв!
«Я считал, что здесь речь идет не об „искусстве для искусства“, – говорит Яхонтов, – а о трагическом конфликте художника с окружающей его светской чернью… Вот почему я читал эти строки гневно, пламенно, протестующе, срывая с горла невидимую петлю (вскоре действительно затянувшуюся на декабристах) и потрясая кулаками». Интонационная трактовка переворачивала смысл известного стихотворения – «житейское» делалось ударным и соединялось с «корыстью» (все той же «презренной пользой»), а «вдохновенье», «молитвы», «звуки сладкие», очищенные от подобия сладости, становились синонимом действий, которые поэту запрещаются. В окончательной редакции осталось: руки на горле, пламенный гнев слов, выброшенные в воздух кулаки.
Но «Пушкина» создавал молодой Яхонтов, дерзкий в движениях и не чуждый эпатажу. Он восклицал: «Чорт догадал меня…» – и мгновенным жестом надевал на лицо… намордник. «Не для житейского волнения» звучало из-за решетки, которая кожаным плетением рассекала лицо. Актеру этот образ нравился, критикам – нет. Согласимся с ними – метафора обретала наглядность, граничащую с анекдотом. От «находки» вскоре отказались. Но критики, злопамятные люди, запомнили ее, как зеленые парики в мейерхольдовском «Лесе».
Где-то сейчас этот злополучный намордник? Говорят, некая почтенная дама предъявила на него права – он-де принадлежал ее собачке. И когда из опустевшего яхонтовского дома растаскивался во все стороны немногочисленный реквизит, исчез и намордник.
* * *
Спектакль строился на резких сменах настроений. Яхонтов увлекал зрителей тем, чем увлекается каждый читатель, оставшийся наедине с томиком стихов или писем поэта. Пушкин страдает – и мы страдаем вместе с ним. Но через минуту он смеется, и нельзя не рассмеяться вместе с ним. В любое состояние он погружается глубоко, но с поразительной легкостью выныривает, успевая прихватить со дна золотую монету, которая, может быть, столетие лежала там незамеченной, а теперь сверкает на солнце в смуглой пушкинской руке.
Само это погружение и резкая смена самочувствия у Яхонтова иногда сопровождались прозрениями, как ни странно, в области литературоведческой, пушкиноведческой.
Таким прозрением-догадкой было то место, которое он в окончательной редакции спектакля отвел поэме «Граф Нулин»: после «Бориса Годунова» и перед циклом «дорожных» стихов. На первый взгляд только ради контраста, ради улыбки был вставлен комедийный «пустячок» между трагическими страницами.
Но у Пушкина нет пустячков. В истории литературы наступил момент, когда пушкинисты внимательно рассмотрели и «Нулина» и все материалы вокруг него. Исследователи, в частности, обратились к содержанию «Заметки о „Графе Нулине“», написанной спустя пять лет после самой поэмы.
В этой «Заметке» Пушкин признается, что целью имел пародировать известный исторический факт: Лукреции «не пришло в голову» дать пощечину насильнику Тарквинию, результатом чего были колоссальные потрясения – изгнание царей из Рима, установление республики и т. д. Б. Эйхенбаум в 1937 году, подытожив труд пушкинистов, заключил: «Замысел „Графа Нулина“ скрывает в себе исторические размышления Пушкина над ролью случайности в истории – явные следы его работы над „Борисом Годуновым“. В „Графе Нулине“… „уши“, конечно, не торчат, но они существуют, поскольку в этой повести есть пародирование… исторического сюжета, связанного с крупными историческими последствиями».
«Яхонтов шел примерно путем пушкиноведов тех лет, – сказала Попова, – и учился у них и следовал за ними, а иногда и опережал их – он, может быть, смелее мыслил как художник, проникал в подтекст, в прочитанное между строк».
«Графу Нулину» было найдено точное место – сразу после «Бориса Годунова» и слов про колпак Юродивого. Интонация актера блистала юмором, но никак не соответствовала «пустячку». И молод и дерзок был Яхонтов в 1926 году, но не легкомыслен.
Размышлял ли он над «Заметкой» о «Графе Нулине»? В его собственном пространном рассказе о спектакле этот документ не упоминается. Но в черновой рукописи Поповой – нечто большее, чем ответ на такой вопрос. «„Графу Нулину“, – пишет Попова, – предшествовало вступление – записи Пушкина: „В конце 1825 года, находился я в деревне… и в два утра написал…“ и т. д.».
«Записи Пушкина» – это и есть «Заметка о „Графе Нулине“». Яхонтов и Попова не только отыскали ее, но ввели в спектакль как прямую речь поэта. Пушкин говорит, что написал свою поэму в два утра – 13 и 14 декабря 1825 года. «Бывают странные сближения», – такими словами он оборвал свои комментарии, зашифровав в них многое. Текст «Заметки» звучал со сцены, предварял веселое пародирование истории и давал пищу размышлениям. Пушкин размышлял о роли случайности в истории в тот самый день, когда его друзья вышли на Сенатскую площадь…
«Пушкина» сделали молодой актер Яхонтов и молодой режиссер Попова в самую счастливую свою пору. Бывают такие недолгие периоды в жизни: неприятности теряют вес, исчезает неловкость, работаешь легко, без внутренних тормозов. Скорее, скорее! Так хотелось, открыв своего Пушкина, вынести это богатство к публике, убедиться, что и другим оно нужно и важно. В 50-х годах Попова определила композицию «Пушкин» так: «Этюд к биографии». Этюдность, некоторая беглость почерка, возможно, в спектакле были, но в самой этой беглости – такая энергия, такая творческая сила! «Этюд к биографии» – а в нем целый ряд этюдов к другим, последующим полотнам.
Яхонтов говорил, что в «Пушкине» есть следы его юности. И его собственной и пушкинской. Поэтому «Граф Нулин» разыгрывался с замечательной легкостью и блеском. Но – при «чрезвычайной обстоятельности» всех ситуаций и подробностей.
На «Нулине» Яхонтовым были впервые опробованы законы комедийного жанра. В частности, «чрезвычайная обстоятельность» открылась как закон комического. Быстрота темпа – штамп комедийного театра, самое поверхностное представление о том, что есть комедия. И потому, говорит Яхонтов, «разрешите остановиться на козле, как на персонаже, вызывающем обычно первую волну смеха». Он понял один из секретов комедии – эффект неожиданной остановки в неподходящем, казалось бы, месте. Медленность – там, где обязательной предполагается быстрота. (Кто это подсказал – Мейерхольд? Попова? Яхонтов, наверно, пожал бы плечами, он не всегда помнил, кто и что ему подсказывал. Он понял – это главное.).
Кто слышал «Нулина», помнит появление «козла», который вырастал перед Натальей Павловной, когда та, сидя у окна, читала
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
Вот и Пушкин не торопится, целым набором эпитетов сопровождает книгу, лежащую перед героиней. Все дело в том, что Наталья Павловна «воспитана была… в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала». «Фальбала», конечно же, нужно выделить – произнести со всевозможным почтением, так, чтобы никто из слушающих не выразил сомнений относительно воспитания героини: не где-нибудь, а у Фальбала! Ирония скрыта ровно настолько, чтобы быть очевидной, – слово «роман» произносится с беглым изяществом, тоже на светский манер, так что «о» звучит отчетливо и округло. Итак:
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Вот он где появляется, этот козел. Яхонтов выделял его мощным трубным басом. К той же инструментовке он прибегал, описывая возвращение с охоты мужа Натальи Павловны. Громыхали те же басы, и само собой вспоминалась драка «козла с дворовою собакой»: «Он говорил, что граф дурак, Молокосос; что если так…» и т. д.
Появление «козла» – первая комическая неожиданность, порожденная, как понял Яхонтов, несоответствием. Фальбала – и козел! Благородный пансион, любовь Элизы и Армана и – дворовая собака, мокрый петух, «три утки полоскались в луже» и т. п.
Дождь, баба, козел, дворовая собака, косогор…
Россия – грязная, нелепая, родная, грустная, – она и отталкивала поэта, так, что хотелось бежать куда глаза глядят, и притягивала. Наталья Павловна, хоть и воспитанная у Фальбала, но та же уездная барышня, которых преданно любил Пушкин. Он всегда с охотой пускался в рассуждения о безусловных их преимуществах перед рассеянными красавицами большого света, отдавая предпочтение чувствам и страстям, воспитанным на чистом воздухе уединением и свободой. Вольно, конечно, и посмеяться над этими барышнями, но можно ли остаться равнодушным к особенности их характеров, их самобытности, словно охраняемой размытыми дорогами и заборами глухих имений?
Ну а как ведет себя Наталья Павловна в ситуации, будто нарочно построенной по всем законам французской комедии?
«Франция», между прочим, занимала свое забавное место в «Нулине». Среди персонажей поэмы Яхонтов нашел для себя одного, который и обликом и характером противопоставлен всему российскому. Это отнюдь не граф – граф Нулин хоть и «из чужих краев», но французский лоск у него заемный, приобретенный, так же как запасы «фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запонок, лорнетов…» Яхонтов великолепно перечислял графский багаж, будто жонглируя всем этим полумужским-полудамским набором предметов. Россию этот граф несколько подзабыл, но он вспомнит ее ночью, когда очаровательная хозяйка имения обернется разъяренной медведицей, так, что вдруг повеет лесными дебрями.
Зато рядом с графом – слуга, истинный француз, и его было очень заманчиво (контрастом графу) сыграть. Артист выудил этого героя буквально из трех-четырех отпущенных автором строк:
…Слуга-француз не унывает
И говорит: Allons, courage!
…Пока Picard шумит, хлопочет…
…Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем…
Сначала бодрое «Allons, courage!» (граф в это время лежит в перевернутой карете), потом почти уважительное «своим французом» – ведь это зоркий глаз Пикара заметил, что при расставании его хозяин полувлюблен, а проказница «куда кокетство не ведет? – Тихонько графу руку жмет». По мнению слуги-француза, это ведет как раз туда, куда повело и графа, то есть в спальню хозяйки. Накинув «свой пестрый шелковый халат И стул в потемках опрокинув», именно туда граф и отправился. Тут Яхонтов не отказал себе в удовольствии сыграть лукавого кота, который «за мышью крадется с лежанки». «Я показал, что это заморское явление, это изысканное существо, по сути дела, просто вульгарный кот Васька, каких много бродит по свету, ничем не оригинальный и не примечательный».
Потом, после графского позора, звонкой пощечины и последующего утреннего мирного чаепития, Яхонтов произносил имя «Пикар» уже вполне по-русски:
Пикар все скоро уложил
И граф уехал…—
будто это Наталья Павловна смеялась, стоя на крыльце и провожая глазами коляску графа. Как ни старался слуга-француз не утратить «чувства формы, то есть хорошее расположение духа», все кончилось позорным бегством. В шутливой поэме дальним отголоском отозвалось время, когда со всех ног бежали французы из непонятной и необъятной «варварской» страны.
Но, заставив «французов» с позором бежать, Пушкин завершает сюжет еще одним невероятным сообщением:
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. Почему ж?
Муж? – Как не так! совсем не муж…
…Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.
«Лидин»! – лихо подкручен правый ус. «Двадцати трех лет»! – левый. Лукавое личико Натальи Павловны и веселый смех этого Лидина, в секунду освещенного с головы до кончиков сапог, завершали спектакль с изяществом, превосходящим лучшие образцы французской комедии.
Яхонтов не оставлял «Графа Нулина» до последних своих концертов. Он играл этот короткий спектакль, неизменно приводя зрителей в то расположение духа, которому Пушкин знал цену, даже в ссылке умел сохранять и потомкам своим завещал.
Из неопубликованной рукописи:
«Я изучал (перечитывал, вчитывался и учил наизусть) не только стихи и прозу Пушкина, но и его письма, заметки и статьи. Я всматривался в его рисунки. Они так же упоительны, как и его стихи. Они очень умны… С особым вниманием я изучал портреты Пушкина… Они-то и помогли мне создать „Пушкина“ без „хрестоматийного глянца“… Портрет Пушкина с большой палкой в руке пришелся мне по душе. Там увидел я совсем не дворянина, а демократа – того Пушкина, которого я всегда вижу, когда читаю его письма. Он не похож на Пушкина, которого изобразил Кипренский… Я не хотел, чтобы мой Пушкин был в цилиндре… Современный человек ревниво относится к Пушкину. Где-то в глубине души ему хочется встретить Пушкина на улице, поэтом XX века, своим человеком… Я посмотрел на Маяковского, подумал о Пушкине, – и дал Пушкину палку Маяковского, его летний плащ и современный костюм».
«Хочется встретить Пушкина на улице…». Яхонтов угадал желание не только своего поколения, но и последующих, желание не проходящее, а все возрастающее.
* * *
В следующей картине к атрибутам спектакля был добавлен дорожный чемодан. Разворачивался целый пласт пушкинской жизни, многозначительный и драматичный, вынужденный и добровольный, мучительный и радостный, неотделимый от судьбы поэта и его поэзии.
Дорога.
Неспроста (отметили исследователи) в «Станционном смотрителе» было зачеркнуто безличное «мы» и заменено на откровенное «я»: «В течение двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям…» Конечно же, это говорит не вымышленный Белкин, а Александр Сергеевич Пушкин. Подсчитано, что из двадцати последующих за лицеем лет он почти восемь лет провел вне дома, исколесив по России ни много ни мало 34 тысячи верст. По России, в ее пределах, постоянно возвращаясь к мысли о более дальнем путешествии, но так его и не добившись.
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?..
Царь и III отделение заботились о чем угодно, только не о судьбах русской культуры, когда не выпускали Пушкина за границу, строго следили за его маршрутами, да еще и укоряли: «Вы всегда на больших дорогах» – замечал Бенкендорф. Но было и благо в этой бесконечной большой дороге. Это не сидение в столице, не светская суета. Перед глазами открывается вся огромная страна. Люди, в Петербурге и Москве невиданные. Уклад жизни нелепый, казенный, но устоявшийся. Станционные смотрители и уездные барышни, солдаты и странники, курьеры и фельдъегеря, подорожные, прогоны, верстовые столбы, карантины. «Холопы», крестьяне – не только Болдина и Михайловского – всей России. Они то смирные – рассказывают сказки, кланяются при встрече, привечают барина, а то поднимают топор, и тогда горят барские дома, льется кровь, и бабы на берегу Яика стонут, высматривая среди плывущих по течению мертвецов сына или мужа. Все это Пушкин узнал, услышал, увидел – в дороге.
Яхонтов не ставил перед собой задачи в полном объеме поднять эту тему – познания поэтом своей страны. Он особо вычленил один мотив – «психологию дороги» в мироощущении поэта. Пушкин «издавна привык изображать человеческую жизнь как путь, обыкновенно – по пустынной местности, и свое существование – как скучную поездку» (М. Гершензон). Так же привычно ему было изображать житейские осложнения и напасти в виде скопившихся над путником туч или бури и «чувство, которое охватывает каждого человека на трудном распутье, когда жутко ему смотреть вперед, „на черный отдаленный путь“». Обращал ли Яхонтов внимание на эти строки из книги М. Гершензона «Мудрость Пушкина» или нет, но смысл «дорожной» темы у Пушкина он уловил верно.
География обрисовалась сама собой: «К морю» – это Крым, «Калмычке» – совсем иное место действия:
Чуть-чуть на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей…
Из черновиков «Станционного смотрителя» (в силу ли строгого лаконизма стиля или обстоятельств предстоящей женитьбы) были вычеркнуты строки о дорожной любви, «самой приятной из всех»; «Любовь безгорестная, любовь беспечная! Она живо занимает нас, не утомляя нашего сердца, и угасает в первом городском трактире…». А может быть, приведенные строки были вычеркнуты в силу их почти прямого переложения в стихах «Калмычке»?
…Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса…
В спектакль входили стихи, лишь по видимости имеющие смысл минутного настроения.
Прощание с морем, степная кибитка, снежная вьюга – это географические меты, специально не подчеркнутые, хотя в жизни Пушкина знаменательные. Но еще более существенны меты психологические. В спектакль вошло, например, стихотворение «Разлука», написанное в 1816 году, когда Пушкин еще не пустился в дорогу (вернее, его в дорогу еще не отправили). Он просто покидал лицей и юную Катю Бакунину.
Когда пробил последний счастью час,
Когда в слезах над бездной я проснулся,
И, трепетный, уже в последний раз
К руке твоей устами прикоснулся —
Да! помню все; я сердцем ужаснулся…
Чувство разлуки – дорожное чувство. Пушкин испытает его множество раз, и чем далее, тем глубже и острей. Мысли о разлуке от прощания с возлюбленной перейдут в иную сферу, захватят круг друзей. Прощание временное то и дело будет оборачиваться разлукой навсегда. «Все мрачнее и мрачнее становится его лира» – заметил Яхонтов и в «Бесах» взял самую отчаянную ноту:
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..
И тут же, вслед прочитал:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума…
Одно из самых трагических стихотворений, написанных за четыре года до смерти, тоже сродни теме дороги. В нем раскрыта некоторая относительность дорожных мучений. В конце концов, дорога – это жизнь, воля, хотя и «невольная». Дорожный посох легче (тут было сделано ударение), чем решетка, за которую могут упрятать. Слушать волны – это чудо; в «темный лес» можно пуститься «резво». «И я глядел бы счастья полн, В пустые небеса…». Трагическая диалектика бытия: воля – неволя, безумие – мудрость.
* * *
«Я… был потрясен документами, имеющими отношение к дуэли Пушкина». Каждый из нас хоть раз в жизни испытывает это потрясение.
К документам, которые в 1926 году были доступны, за пятьдесят последующих лет прибавилось много новых. Гибель Пушкина – одна из самых трагических тем истории русской культуры – обдумывалась, переосмысливалась, дополнялась свидетельствами и с каждой новой находкой обрастала новыми концепциями.
Яхонтовские сопоставления сегодня могут показаться элементарными. Использованные источники известны. И задача ставилась предельно простая: рассказать, как все было. Способ рассказа, однако, был необычен.
До сих пор шел как бы монолог Пушкина, звучал его живой голос. И вот настал момент, когда этот голос должен умолкнуть. Пушкин сейчас умрет, его убьют. Совершится преступление, мотивы которого будут разбираться многие десятилетия.
Каким образом, от чьего лица вести рассказ о гибели Пушкина?
Можно предположить резкую смену тональности спектакля, перемену «ролей» в нем. Но нет. Решение было замечательным по смелости: на гибель Пушкина взглянуть как бы глазами Пушкина, рассказать о событиях его голосом, хотя прозвучат документы, которых поэт уже не видел и не читал. Прозвучат стихи, в которых Пушкин оставил нам свое знание о жизни и смерти.
Артист играл сцену дуэли Онегина и Ленского. Но было совершенно ясно, что медленно поднимаемая на уровень глаз палка, направленная в зал, – это пистолет Дантеса, и на снег падает не выдуманный фантазией поэта Ленский, а сам Пушкин. Мощная сила ассоциативных сцеплений толкает вперед сюжет – Пушкин убит, но Яхонтов никому не уступает той интонации Пушкина-летописца, которая им найдена. Короткие фразы произносятся бесстрастно, как в «Борисе Годунове» произносилось: «Площадь перед собором в Москве» или – «Народ». А рядом с документальным сюжетом, вплетаясь в него и сопровождая его движение, звучит голос поэта.
…Отпевание предполагалось в Исаакиевской церкви…
…Явились в полночь, поставили на дроги завернутый в рогожу гроб и… – Яхонтов садился около стола. Чемодан на столе, рука на нем. Александр Тургенев сопровождает тело Пушкина в последнюю дорогу. И откуда-то издалека, рефреном, перебивающим то один текст, то другой, звучало пушкинское шутливое двустишье:
Вези, вези, не жалей,
Со мной ехать веселей.
…Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна…
…Почуя мертвого, храпят
и бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела…
Переход от «Бесов» к онегинской строфе проделан как бы на ходу – через ухаб перевалили похоронные дроги. «После этих великолепных строк я читал выписку из монастырской книги». Но тут память Яхонтову изменила. Он забыл еще один образ, еще один странный и страшный полет коней, который в спектакле подхватывал и убыстрял движение по бескрайнему снежному пространству, от Петербурга к Пскову:
«…Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканья, где не успевает означиться пропадающий предмет…»
Далее – короткий монтаж документов:
«…Четвертого февраля в первом часу утра или ночи отправился я за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан».
Выписка из церковной книги:
«Января 29-го. Дворового конюшенного Василия Сергеева дочь, крепостная девка Агриппина Сергеева 48 лет, от чахотки. 1-го февраля. Двора его императорского Величества камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин, 37 лет, от раны. 4 февраля. Придворного конюшенного ездового Стефана дочь Пелагея 1 года 4 месяца, – от колотья…»
Долгое молчание.
Яхонтов резким движением брал чемодан, набрасывал плащ на руку.
Он словно набирал новое дыхание. Оно было чистым, голос – вновь юным и звонким. Он шел на авансцену, к публике, читая:
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет…








