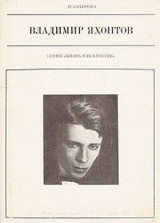
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Главное в трактовке Яхонтова: Сальери – не злодей, не завистник. Сама идея не нова, но на подмостках до тех пор была реализована единственно Шаляпиным. У Станиславского она осталась в замысле (Сальери – «аскет искусства, его великий инквизитор»), не найдя себе должной поэтической формы для жизни.
У Яхонтова Сальери – трагическая личность, мученик идеи. Но идея эта понимается шире, чем «служение искусству», она всеми корнями уходит в устройство общей жизни. Яхонтов твердо называет Сальери «великим», великим и играет. В первом монологе с предельной обстоятельностью исследуется логика рассуждений Сальери, человека, олицетворяющего земную логику.
Сальери лишен импульсивности, он не допускает пустот в схеме, которую строит. Еще и еще раз он выверяет в ней каждую деталь:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Необычно звучит в этом монологе голос Яхонтова. Он потерял свою юношескую звонкость, стал размерен и тяжел, и тембр его иной, чем всегда. (Тембровая окраска трагических ролей – прием, которым свободно владел Яхонтов. Борис Годунов, Сальери, Арбенин – это одна голосовая гамма, Моцарт – иная.) Сальери вслух признается в самом ужасном, в мысли едва ли не еретической, которая стала для него простой истиной: «Правды нет и выше!» Потом он дважды обратится «выше»: «О небо! Где ж правота?» и «Боже!» Это обращение к тому, в чью силу и справедливость он сам уже не верит. А раз не верит, раз «выше» нет ни правды, ни силы, нужной, чтобы утверждать на земле справедливость, Сальери сам сделает это. Он берет на себя функцию «поправить» то, что небом, с его точки зрения, создано неверно. А небом создан Моцарт.
Приходилось читать новейшие толкования, сводящие мысль Пушкина к суду над Сальери-убийцей. Таким образом, какая-то тень Достоевского и проблематики «преступления – наказания» ложится на пушкинскую пьесу. В трактовке Яхонтова аналогичная мысль, в частности, тоже прочитывается: Сальери то и дело как бы заносит нож над Моцартом, а Моцарт бессознательно каждый раз его останавливает, возвращает Сальери к прекрасному и человечному в самом себе. То музыкой, то простым живым словом он отводит руку убийцы, как бы желая самого Сальери спасти от преступления.
Но, как всегда с Пушкиным бывает, ничья тень не покрывает его целиком, и толкование Яхонтова гораздо просторнее – в соответствии с духом поэта. Логика Сальери – не лихорадочные умопостроения Раскольникова. «Избранность» Сальери – ложная идея, но более величественная, чем дилемма «Наполеон или тварь дрожащая». Сальери – мученик идеи, не им одним, а человеческим обществом рожденной. «Избранность» тут – не мания величия, не примета эгоцентризма, а безошибочное ощущение в самом себе, в своей воле – многих воль, множественного и распространенного мировоззрения. Ход мысли Сальери следует житейской логике не в мелком, но в крупном смысле слова. Сальери ощущает себя великим не в силу своей исключительности, а как представитель своего рода «коллективного сознания человечества».
Кроме того, это логика человека, который себя, как творца изваял путем гигантских усилий, поверил в законность этих усилий, то есть в закон причинности и справедливости распределения благ. Где ж правота, если эти усилия ничтожны пред даром какого-то гуляки? Где бог, если дар дается не в награду самоотречению, а озаряет голову безумца?! Исповедям Сальери, еретическим и в глубочайшей своей сути безнравственным, невозможно отказать в логике.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался…
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь…
Невозможно представить себе более проникновенного исполнения этих строк. Кажется, что до определенного момента Яхонтов, как художник, разделяет чувства Сальери – речь идет о силе и праве ремесла, без которого нет искусства. Великий человек выворачивает наизнанку самое сокровенное. Он напрягает все силы ума, чтобы найти решение проблемы, от которой зависит не только его собственная жизнь, но, как ему представляется, едва ли не судьба человечества. Артистом прослежены все этапы, весь ход рассуждений – от первой, ужаснувшей человека догадки, через анализ собственного пути – до захватывающего все существо протеста и обоснования необходимого действия, пусть преступного.
В сегодняшнем актерском искусстве утрачено не только мастерство монолога, но и вера в те средства, которыми когда-то игрались трагедии Шиллера и Шекспира. Декламационная патетика ушла из обихода современного театра, но взамен не пришло то, что позволило бы распределить мысль и темперамент на длительный, заполненный речью период. Не найдена новая форма развернутой логике мысли, выраженной в монологах Шекспира, Мольера, Шиллера, Пушкина.
В «Моцарте и Сальери» Яхонтов дает пример классического монолога. Это исполнение далеко от театрального архаизма и современно в той же мере, в какой современна пьеса Пушкина. Оно противостоит и напыщенной риторике и бытовой суетливости. Оно несуетно. И не привязано к какому-либо из известных стилей. Оно само по себе – стиль, равно классический и современный.
Музыкальность исполнения тоже как бы двойственна. Гармония сосуществует в ней с контрастами почти диссонансного порядка. Но все в целом – тоже гармония, единство и цельность. Вообще тут – поле для размышлений о новом и старом в искусстве, их зависимости и соотношениях. Исполнительское искусство Яхонтова остается на той грани классического и современного, которая минует и моду и двери музеев, свободно проходит через десятилетня и смену актерских стилей. Это искусство классично, но способно стать аргументом в самых животрепещущих сферах сегодняшней художественной жизни.
Вслушавшись еще раз в то, как звучит монолог Сальери, открываешь томик Пушкина и поражаешься самому простому – строжайшим образом соблюдены все пушкинские указания. Ни единый знак препинания не упущен; в нем, в знаке, найден смысл. Как нотная запись подлежит музыкальному озвучанию, так тут музыкально и интонационно озвучена великая пьеса.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! – ниже́, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже́, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Протяжное «Не-е-ет!» усилено рядом стоящим «никогда», а потом дважды повторено, как в фуге, старинное «ниже», и сделано ударным, причем второй удар сильнее первого. В этой оркестровке глубокий смысл, ибо по нарастающей идет чувство гневного отречения от зависти, как от чувства мелкого и недостойного:
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!..
Каждое слово отделено от другого собственной тяжестью: Сальери, дающий себе эпитет «гордый», себя же смертельно унижает сравнением со «змеей, людьми растоптанною». Надо слышать, как произносится это «вживе», чтобы почувствовать кошмар бессилия, пережитого гордым человеком. «Никто!» – никто, кроме него самого. Никто не назовет его презренным словом, а сам он это слово произнесет. Яхонтовым сыграно не только трагическое самосознание, но и крайняя – трагическая – степень самоотвращения.
Никто! А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. – О небо!
Признание – как падение в пропасть. И оно тем страшнее, что – как «простая гамма». «Сам скажу» – то есть сам шагну в пропасть, никто не имеет права меня туда толкнуть, я сам это сделаю.
Прежде чем свершить свой суд над Моцартом, Сальери вершит его над самим собой. Смягчающим обстоятельством является лишь степень человеческого страдания. Оно огромно.
* * *
Пушкин обрывает ход мыслей Сальери, являя виновника его мучений:
Входит Моцарт.
В том, как произнесено, объявлено это имя – совсем иной звук, легкий, нежно-торжественный.
Моцарт
Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя нежданной шуткой угостить.
Что за удивительная перемена! Другое дыхание, другой возраст, другой характер. При этом никакой «характерности». Будто сменился инструмент и мелодия: играл орган, теперь – скрипка. Звучала трагическая тема, теперь – праздничный мотив. Хотя в этой праздничности постоянен свой, еле различимый, оттенок печали. Он слышен дальним отзвуком, почти незаметным в первой сцене. Но ведь во второй, произошедшей, может быть, всего через час – Моцарт лишь зашел домой, сказать жене, чтобы не дожидалась к обеду, – во второй сцене веселый Моцарт чуть смущенно скажет:
…Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.
И Сальери, помолчав, переспросит, спрятав потрясение:
А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?
И опять прозвучит доверчивое, открытое:
Давно, недели три.
(Как характерны для Моцарта эти уточнения: «Ну, хоть меня – немного помоложе»; «влюбленного – не слишком, а слегка»; «Давно, недели три».)
Значит, уже недели три он носит в себе тревогу, недели три пишет свой Реквием, три недели днем и ночью ему не дает покоя черный человек. Вот вам и веселый Моцарт.
Ко в первой сцене он, и правда, весел. Чуток к чужому настроению: «Но теперь тебе не до меня», – готов легко уйти, так же, как легко пришел. Легко привел с улицы нищего скрипача, легко выслушал, как дилетант сыграл арию из «Дон Жуана». Легко сел за инструмент.
У Сальери три больших монолога, у Моцарта ни одного. Сальери наедине с собственными мыслями, он заперт в них, как в темный шкаф. Моцарт открыт всему, и все рядом с ним оживает – нищий старик, улица, жена, которой надо обязательно пойти сказать, чтобы не дожидалась, мальчишка-сын, с которым отец играет на полу. Вокруг Моцарта и в нем самом – жизнь, он не брезглив к ней и не высокомерен, он – ее дитя. Из нее же, кажется, он извлекает свои звуки: представил себя влюбленным, с красоткой, или с другом, потом – виденье гробовое, «незапный мрак»…
Такая связь с жизнью недоступна и невозможна для Сальери. У Яхонтова в словах: «Я сделался ремесленник!» – мертвящая сила. Для Сальери ремесло – фанатичная идея, лишенная жизненных соков и убивающая живое. Моцарт же само ремесло считает живым и радостным. Трагедия Сальери, как она трактована Яхонтовым, в страхе перед реальностью, в постоянном несовпадении с ней (странно, но тут аналогия драме Онегина). Талант Моцарта, его связи с «низменной» жизнью – та реальность, от которой отвернулся Сальери, высокомерием и гордостью прикрыв свой страх.
Он не может творить, как Моцарт, – это самый простой и главный источник его страданий. От страданий к действию его приведет не природная недоброта, а та логика, та схема отношений между искусством и жизнью, которую он выстроил и вне которой не мыслит ни себя, ни искусства. По этой схеме искусство – над жизнью, исключено из нее. «Польза искусства» – нечто, лишь «жрецам» доступное. Раз так, закономерен страшный вопрос:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Спросил – и не испугался. Тень испуга убрал настойчивым повтором вопроса:
Что пользы в нем?
И дальше, как лавина с гор, начавшись случайным движением какого-то камешка, несется вниз, все захватывая и сокрушая на пути, так Сальери, много лет носивший при себе яд и ни разу не поддавшийся искушению, теперь один за другим, все быстрее и быстрее, приводит аргументы и сводит их к итогу: «И я был прав! и наконец нашел я моего врага…»
В этом монологе все смешалось: любовь, память, ненависть, надежды, скорбь, вера, злоба, торжество и, наконец, – решимость к убийству, которое всеми доводами укреплено как действие необходимое и праведное:
Теперь – пора! заветный дар любви
Переходи сегодня в чашу дружбы.
Спокойствие Сальери во второй сцене – это спокойствие решившегося человека. Он исчерпал свои сомнения, а с ними, кажется, и все живые чувства. Но нет. Еще дважды душа Сальери содрогнется, не до конца растоптанная. Яхонтов передаст это, заставив содрогнуться в ответ и слушателей. Вот эти два момента.
Сальери постоянно думает о музыке, рассуждает и размышляет о ней. Он ее сочиняет. В Моцарте музыка живет как бы сама собой. Своя ли, чужая («Ты для него Тарара сочинил, Вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла ла ла ла…»). Музыка для Моцарта есть сила добра, соединяющая его с жизнью. «Пошел, старик», – бросает Сальери нищему скрипачу. «Постой же, – останавливает старика Моцарт, – вот тебе. Пей за мое здоровье». Во второй картине эта реплика отзывается в страшном крике Сальери:
Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?
Он бросил яд в стакан Моцарта; тот поднял тост за их «искренний союз» и выпил. И тут раздается этот крик, этот вопль, где трижды повторенное «постой» отражает как бы разные душевные движения. Первое – почти жест, почти попытка вырвать стакан, секундное раскаяние. Во втором – сознание того, что поздно. А третий раз – как эхо, безнадежное, неживое, протяжное и бессмысленное: «посто-о-ой»…
«Без меня?» – неожиданная, непроявленная полумысль: только что, секунду назад, Моцарт связал их воедино, бросив реплику о Бомарше: «Он же гений, как ты да я». Связал – и тут же разъединил, сам того не поняв: «А гений и злодейство две вещи несовместные». И опять связал – подняв бокал за искренний союз «двух сыновей гармонии».
«Без меня?» – спрошено почти машинально, но это смутное предчувствие более страшной для Сальери правды, чем даже близкая смерть Моцарта. «Без меня?» – значит, нет союза с гением, значит, нет гения в Сальери. Моцарт жил, творил и через какой-нибудь час умрет – без Сальери, свободный от него. Моцарт умрет, но его так и не удалось обуздать, он все равно независим, недоступен, и сейчас, перед смертью, еще раз покажет это своему другу-убийце. И тот содрогнется.
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem. (Играет.)
После паузы, в которой слышишь музыку, следует простой вопрос – Моцарт, видимо, почувствовал что-то за спиной и оглянулся. Или просто поднял глаза на Сальери:
Ты плачешь?
Как часто он задает вопросы – простые и дружеские, будто все время протягивает Сальери руку: «Ужель и сам ты не смеешься?» – это об игре скрипача. «Ба! право?» – это на слова Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». И постоянно: «Не правда ль?» Вслед каждой собственной, нечаянно великой догадке. «Гений и злодейство две вещи несовместные. Не правда ль?» «Нас мало, избранных… пренебрегающих презренной пользой… Не правда ль?»
Ты плачешь?
Необыкновенно светел и прост этот голос. В гении нет внутренней тьмы, нет черного умысла.
Особого трагического очарования полон момент, когда Моцарт рассказывает о «черном человеке».
Моцарт
Мне совестно признаться в этом…
Сальери
В чем же?
Кажется, Сальери вздрогнул: на него, на убийцу, доверчиво смотрят глаза Моцарта.
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек…
Моцарт смотрит в лицо Сальери, но говорит это медленно, будто не видит ни Сальери, ни комнаты в трактире, ничего, кроме своей судьбы:
Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.
Почти детский страх, в котором «совестно признаться». Но предчувствие настолько сильно, что, может быть, в признании другу – хоть какое-то успокоение, освобождение. Ну конечно же, Сальери скажет: «Полно! что за страх ребячий?» – и станет легче, и можно будет пошутить, вспомнить о Бомарше и спеть мотив Тарара. В том, что можно для Сальери сыграть свой Реквием – тоже освобождение. Надо отделить от себя свое творение, отдать его кому-то – другу, людям.
Простой печальный вопрос: «Ты плачешь?» – тоже освобождение. Кто-то разделил твою печаль, значит, взял хоть часть ее.
Ну, вот и все. Ушел страх, осталась только физическая тяжесть, причину и следствие которой Моцарту не дано понять.
…я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!
Ответив коротко «до свидания», Сальери остается один и вслед ушедшему произносит:
Ты заснешь
Надо-о-олго, Моцарт!
Только в этом бесконечном «надо-о-олго» будет миг удовлетворения.
Но ужель он прав,
И я не гений?
Если говорить о пушкинских знаках препинания, строго осмысленных и соблюдаемых исполнителем, то в этом месте Яхонтов их явно нарушает. После каждой из финальных фраз Сальери можно поставить и два, и три, пять знаков вопроса и столько же – восклицания: «Но ужель он прав???!!!»
Если вообще знаками можно что-то в данном случае выразить.
* * *
То, что он не гений, Сальери понял, великий ум его не подвел. Возможно, понял он и то, что, хотя Моцарт сейчас умрет, его Реквиему, только что прозвучавшему, – жить в веках. А Моцарт, кажется, о собственном бессмертии не заботится. Ему явился черный человек, он смутно почувствовал, что это вестник «оттуда», но именно это пробудило в нем творческую силу и зазвучала мелодия. То, «что гибелью грозит» дало «неизъяснимы наслажденья». О том, что это «бессмертья может быть залог», Моцарт, наверно, не думал.
Пушкин – думал. Он чувствовал, подобно Моцарту, но думал больше и дальше. О своей собственной жизни, как теперь выясняется, он знал не все. Возможно, мы знаем больше. Но он знал что-то вне, за ее человеческими пределами.
За полгода до смерти он написал «Памятник».
Гений наделен большей способностью предчувствия, чем обычные люди. Это не мистика, а сверхобостренная чувствительность ко всему окружающему, неосознанное, но постоянное сопоставление явлений и процессов, незаметных и скрытых от простого зрения. Говорят: дар предвидения, пророческий дар. Предчувствие – предвидение чувством.
Можно улыбнуться над пушкинской верой в приметы и предсказания, но лучше этот смех оставить про себя, для наших собственных причуд на этот счет. Пушкинские предчувствия связаны не с предрассудками, а с тем, что гений многое ощущает иначе, чем простой смертный. В том числе – равновесие между жизнью и смертью, счастьем и бедой, памятью и забвением. У гения свои отношения и с прошлым, ушедшим, и с далеким будущим.
В конце концов «Памятник» – тоже своего рода предчувствие. Оно касается не житейских дел, а собственного на земле предназначения и судьбы своей – после смерти. Каждой строчкой начертав то самое, что спустя годы свершилось, и объяснив, почему это должно свершиться, Пушкин спрятал стихи в стол, не опубликовал. Когда Пушкин умер, тот же Жуковский, наверно, испытал при чтении «Памятника» не меньшее потрясение, чем Сальери при звуках Реквиема. Пережив это, он своей рукой исправил: «Что в мой жестокий век восславил я свободу» на «…Что прелестью живой стихов я был полезен», переставив слова в предшествующей строке и найдя там рифму своему любимому «полезен»: «И долго буду тем народу я любезен». Он исправил Пушкина ради все той же «пользы», о которой все сказано в «Моцарте и Сальери». Прошло еще сто лет, и слова Жуковского с памятника Пушкина были справедливо стерты, дабы на нем значилось пушкинское – о том, что свободу и в жестокие времена восславить можно, за что, в частности, и дается бессмертие.
Несколько слов о «Памятнике» в исполнении Яхонтова.
От Дмитрия Николаевича Журавлева про это исполнение пришлось услышать короткое: божественно! Это – после прослушивания пластинки, где «Памятник» читают А. Шварц, В. Яхонтов и сам Д. Журавлев. Это – от Журавлева, который постоянно и много читал и читает Пушкина, а в свое время невольно был втянут Яхонтовым в некое соперничество. «Божественно!» – говорит сегодня Журавлев о яхонтовском «Памятнике». Нет зависти, а только восхищение и радость от присутствия некой тайны искусства.
Известный каждому школьнику «Памятник» – тайна?
К счастью, это так. Иначе ничего не стоили бы все новые и новые публикации и толкования. Скажем, толкование М. Гершензона можно и оспорить, но нелегко отбросить. Исследователь высказал убежденность в том, что Пушкин, перечисляя ценности, дающие ему право на бессмертие, Излагает не свое, а чужое мнение, мнение тех, кто будет судить о нем через века и не минует в этих суждениях все той же «пользы». Лишь в последней строфе он отстраняется от чужого о себе суждения, выражая собственную окончательную мысль и о своей поэзии и о поэзии вообще.
Многие приметы указывают: эта статья была известна Яхонтову, как и вся книга М. Гершензона «Мудрость Пушкина». Автор исследования затрагивал многие вопросы, постоянно волновавшие Яхонтова. Напомним, что едва ли не первая мысль-вопрос, занесенная в «конспект» спектакля «Пушкин» в начале 20-х годов, была: «Что такое пренебрегать пользой?..» Пушкин отмахивался от данного рода пользы. «Ты пользы, пользы в нем не зришь». И т. д. Последняя строфа «Памятника» – это и его, Яхонтова, сокровенная заповедь, нарушения которой переживались им самим крайне болезненно.
Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
В книге «Мудрость Пушкина» он нашел строки, которые переписал в тетрадь, чтобы иметь при себе и помнить: «Неумение медленно читать, в соединении с предвзятой мыслью о жизни, о должном, о добре и зле, неминуемо приводит к тому искажению истины, о котором с такой болью говорит Пушкин».
М. Гершензон пишет, что Пушкин в «Памятнике» перед последней строфой «как бы подавляет свой невольный вздох» – у Яхонтова после слов «и милость к падшим призывал» слышишь явный подавленный вздох.
И все же его исполнение шире и этой статьи и многих других. По-своему, оно закрыто, не нравоучительно, и ни с какими школьными или даже университетскими конкретными толкованиями в своих пределах не совпадает. Почти каждый из комментаторов и толкователей вольно или невольно хочет «перетянуть» Пушкина к себе, уместить его на удобном для ученого пространстве. Яхонтов чужд этому желанию.
Объясненный комментаторами «Памятник» Яхонтов не объяснял, не расшифровывал, скорее, напротив, – уводил от возможных прямолинейных объяснений, чувствуя, что касается самой сложной сферы души поэта и итогов его жизни.
Безусловной натяжкой он воспринял в названной статье уподобление народа толпе, в которой поэту «нет отзыва» и которую «не пробудит чести клич». Владея, как никто, звучащим пушкинским словом и обращая его в самую широкую аудиторию, он видел другое – отзыв, пробуждение добрых чувств, достоинства и чести.
Пожалуй, в том, как он исполнял «Памятник», главным было достоинство. Достоинство поэта, который знал и тех, к кому непосредственно обращался, и тех, кто услышит его через века, поэта, который «не требует венца» и «к ногам народного кумира не клонит гордой головы».
Не только пластинка, но крошечный фрагмент кинохроники сохранил исполнение «Памятника» Владимиром Яхонтовым. Где-то в середине 30-х годов это было снято на пленку, сорок лет пленка пролежала в фондах киноархива и однажды, к 75-летию со дня рождения артиста, была извлечена.
Лицо молодого Яхонтова появилось в центре большого экрана. Ясно видно было, как движение век чуть притушило мерцающий взгляд, выдав степень счастливого нервного подъема. И с замечательной державной торжественностью и спокойствием зазвучало:
Нет, весь я не умру…








