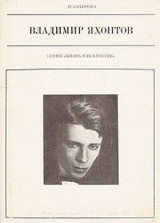
Текст книги "Владимир Яхонтов"
Автор книги: Наталья Крымова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Немирович-Данченко требовал от режиссера мхатовской школы умения растворяться и умирать в актере. Удивительно, но при Яхонтове находился режиссер именно мхатовского толка, единственным профессиональным образованием которого были репетиции… Мейерхольда.
Попова бесчисленное количество раз «умирала» в Яхонтове. И он привык к этому. Она одна знала все стороны и все мельчайшие особенности его индивидуальности и его характера – замечательную силу его интуиции; с годами пугающе ощутимый предел его психических сил; феноменальный диапазон голоса; способность на лаконичный (иногда только звуковой) подсказ откликаться мощной волной чувств, ассоциаций, звуков. Она знала все способы, которыми этот капризный художественный аппарат можно привести в состояние творчества, и все причины, которые его из этого состояния выбивают; все стимулы, все границы, все потенциальные возможности. Она знала про Яхонтова все. И потому она, и только она, нужна была ему в работе, а без работы он не мыслил жизни.
«Надо думать театром», – пишет Яхонтов в книге. Это она, Попова, учила его думать не маленькой актерской задачей, а целым театром. Она первая угадала его внутреннюю несовместимость с любым театральным коллективом и тот собственный театр, который он носил в себе, не зная, как его открыть и назвать. Попова помогла этому трудному рождению. Еще не ориентируясь толком в «школах» и «направлениях», она почувствовала в человеке рядом с собой нечто такое, что хоть и связано каким-то образом с разными «школами», но и свободно от них, и только так – отдельно и независимо – может существовать. Он обрекал себя на одиночество в искусстве, и она его поддерживала, так как лучше всех понимала этот дар, замкнутый на себе, редчайший по размаху и бесконечно, постоянно нуждающийся в публичной реализации.
Так сложилось, что сама она думала лишь «театром Яхонтова». Все увиденное, услышанное, накопленное она несла ему, объясняла, увлекала, примеряла на его фигуру, подгоняла, укорачивала, из еле заметных изъянов творила достоинства.
Рассказывают, однажды, когда зашел разговор о режиссерском таланте Поповой, Яхонтов довольно сухо, одним жестом отстранил чужие притязания: «Она хороша для меня, но не для вас. Я читаю, она делает так (он показал – как), и я все понимаю. А вас надо гонять, как лошадь на корде». Бывало, однако, что и его Попова «гоняла на корде». Но она умела делать это так, что он чувствовал себя арабским скакуном. Она знала и степень этого самолюбия, и болезненную ранимость, и мнительность, и нетерпимость, и все укрытия, за которыми эти качества прятались. Но она знала и бесконечно любила ту одержимость в работе, почти маниакальную погруженность в творчество, детскую веру, радость от искусства и благодарность за помощь, на которые, как никто, щедрым был Владимир Яхонтов.
Без учета этих непростых свойств двух характеров нельзя понять самый грустный и одновременно поучительный в истории «Современника» случай. Речь идет о постановке «Пиковой дамы».
Если строго следовать хронологии, театр «Современник» открылся не «Войной» и не «Водевилем», а спектаклем, о котором в книге Яхонтова написано: «Первое поражение, испытанное нами, связано с постановкой „Пиковой дамы“ Пушкина (1928), где я впервые обзавелся партнершей. Следующие работы… выровняли нашу кривую неудачи с „Пиковой дамой“».
Увы, нет возможности полно восстановить замысел, в котором режиссеры Попова и Владимирский сценически объединяли «Пиковую даму», «Гробовщика» и «Тамбовскую казначейшу». Можно предположить, что объединяющим был мотив игры – человека с судьбой, судьбы – с человеком. В Германне хотели показать «авантюриста мирового класса».
«Он не верил своим глазам, – не понимая, как мог он так обдернуться», – на разные лады повторял Яхонтов из «Пиковой дамы», вкладывая какой-то особый смысл в необычное слово, мелькнувшее в воспаленном сознании Германна в роковую минуту. Попова рисовала для спектакля огромную игральную карту – пиковую даму – величиной в метр. Особое значение придавали такому предмету, как лупа, – очевидно, хотели обыграть «увеличение смысла». Денег на постановку, как всегда, не было, но реквизит подбирали тщательно: карточная колода, череп (настоящий), старинный пистолет, костяной веер с резьбой – от антиквара.
Постановочный замысел был рассчитан на двух актеров. В «Пиковой даме» Яхонтов и Людмила Арбат играли на равных, «Гробовщик» игрался, как интермедия, «Тамбовскую казначейшу» исполняла Арбат, а Яхонтов был «помощником». В свою партнершу он поверил, восторгался ее самостоятельными работами. «Старосветские помещики», «Сказка о Попе и о работнике его Балде», «Египетские ночи» – все это актриса играла одна, они с Яхонтовым говорили в искусстве на одном языке. Часами они показывали друг другу: Мила Арбат – монолог пушкинской Татьяны, Яхонтов – три редакции того же монолога, Мила Арбат – своего «Графа Нулина», Яхонтов – своего. Все радовались единомыслию.
Спектакль «Пиковая дама» был сыгран всего три раза. Первые два – в помещении Камерного театра. Никому не пришло в голову проверять особенности акустики этого коварного зала. Камерный театр уехал на гастроли. Специальные задники, которые умело использовал Таиров, были увезены. Исполнители «Пиковой дамы», выйдя на сцену, испытали состояние шока – их голоса не были слышны далее первых рядов партера. Изощренность мизансцен, сложная образность, дуэт двух редкостных актерских голосов – все требовало максимальной звучности, а спектакль предстал перед публикой немым, беспомощным и странным. Его освистали. Публика в те годы не церемонилась.
На следующем дневном представлении зал был полон на одну треть.
Все четверо пережили травму. Союз, в котором каждый характер (всего-то – четыре!) был на особом учете, этот союз мог выстоять, если бы обнаружил идеальную сплоченность. Причины провала были в общем случайны, в нормальной обстановке их следовало спокойно обдумать, учесть…
Третий спектакль, сыгранный в клубе Центросоюза и имевший явный успех, мог бы спасти положение, – если бы безгласным полупартнером, а не оригинальной индивидуальностью рядом с Яхонтовым выступала Людмила Арбат. Как ни странно, именно этого, самостоятельно звучащего, своеобразного голоса не мог выдержать рядом с собой такой сильный, такой, казалось бы, уверенный в себе актер, как Яхонтов.
Он не умел скрывать свои чувства. Он взревновал так яростно и откровенно, что этого не мог вынести никто – ни Попова, ни Арбат, ни Владимирский, ни спектакль «Пиковая дама». Он страдал, он не владел собой, на него было страшно смотреть.
А приревновал он… «Тамбовскую казначейшу». Пока шли репетиции, он не придавал третьему действию особого значения – был сосредоточен на «Пиковой даме» и «Гробовщике», выступал на стороне, зарабатывая деньги на оформление премьеры. Но теперь, во время спектакля, он стоял в кулисе с серым лицом и невидящими глазами: почему такая тонкая разработка его любимого текста досталась кому-то другому?! И этот другой имеет явный успех! У него буквально дрожали руки, так он хотел сам играть «Казначейшу», так ненавидел тех, кто ему этого не дал.
Провал первого спектакля он не пережил столь болезненно, как успех в клубе Центросоюза.
Такого взрыва никто в «Современнике» не мог предвидеть. Может быть, что-то предчувствовала и страшилась только Попова – уж очень настойчиво она разводила по разным углам будущих партнеров, смягчала капризы Яхонтова, уговаривала, уговаривала, уговаривала…
Все оказалось напрасным. В «Летописи» жизни Яхонтова, которую составили Попова и ленинградец М. Соловьев, в графе «Личная жизнь» против ряда месяцев 1928 года стоит: «депрессия от „Пиковой дамы“»; «депрессия после „провала“ „Пиковой дамы“» («провал» в кавычках. – Н. К.); наконец – «разрыв с Владимирским в связи с „Пиковой дамой“». А через месяц: «разговоры о постановке „Водевиля“».
Яхонтов расстался не только с партнершей, но и с одним из режиссеров – возмущенный происшедшим, Владимирский из театра ушел. Попова все стерпела, на горьком опыте убедившись, как неожиданно и драматически порой проявляет себя природа такого актера, как Яхонтов.
Из депрессии его можно было вывести единственным способом: дать сыграть «Тамбовскую казначейшу». И режиссер Попова поставила спектакль «Да, водевиль есть вещь!»
* * *
Когда Яхонтову было на сцене «плохо» или «неудобно», в «Современнике» довольно жестко поступали с собственным трудом. Так прекратилась жизнь «Пиковой дамы». Неудачной была первая редакция «Горя от ума», хотя словесные партитуры ролей Чацкого, Молчалина, Фамусова, Скалозуба были разработаны тщательно и, в общем, сохранились до спектакля 1945 года. Новую партнершу Яхонтова (Д. Бутман) поставили в неудобное для нее и нелепое для пьесы положение – дали играть не только Софью, но и Репетилова, – надели цилиндр, который опускался на голове до самых ушей, большую шубу до пят и т. п.
От таких крайностей отказались довольно быстро, а монолог Репетилова Яхонтов стал исполнять в концертах. Это был исключительный случай для тех времен, когда существовал «Современник» и его спектакли еще не были разобраны на части. Из классического комедийного монолога Яхонтов творил законченный короткий спектакль.
…Репетилов врывается на сцену из левой кулисы. Клетчатый плед драпирует его, как шуба. Ноги заплетаются от шампанского, голова идет кругом от сентенций «князь-Григория», правая нога вылетает вперед, но задевает за ковер, он балансирует на левой, инерция движения спорит с попыткой удержаться на ногах, падение переходит в некую пляску на месте, и, наконец, он оказывается лежащим на боку – не поймешь, где руки, где ноги.
Все это занимало считанные секунды и было поставлено как эксцентрический, почти балетный номер. Затем шел монолог – некий невероятный залп из мелких восклицаний, вдохновения, лирического чувства, пафоса, неподдельной задушевности и еще бог знает чего. Душой этого Репетилова водевиль владел едва ли не больше, чем цыганская песня душой Феди Протасова. Казалось, он сам с собой и со всеми непрерывно репетирует некий водевиль и, находясь в состоянии безудержной импровизации, меняет ритмы и маски. Только проглянет «хороший малый», только рванешься его обнять, а его уже нет, и перед тобой какой-то «простак». Прав Чацкий – «есть от чего в отчаянье прийти». Любопытно, однако, что этот Репетилов был лиричен, эпичен, патетичен – все что угодно, но не комичен. Взамен «смешного» была чрезвычайность преувеличений. «…Радикальные потребны тут лекарства, желудок дольше не варит» – звучало мощно, как сконцентрированный в три-четыре слова репетиловский «радикализм». В монологе одного персонажа раскрывался глубинный подтекст пьесы. Грибоедов как бы говорит: поразмыслите над судьбами двух вольнодумцев. Одного назовут карбонарием, объявят опасным безумцем, другой же на словах самого Дантона переплюнет, и никто его всерьез не возьмет.
Новая постановка и название свое получила от репетиловской реплики: «Да, водевиль есть вещь!» Роль Репетилова скрепила между собой три классические шутки, перевела их из повествовательного жанра в театральный и указала общий стиль спектакля. Три анекдота, рассказанные светским болтуном.
Спектакль игрался в разных вариантах – в книге «Театр одного актера» описано нечто более или менее постоянное, то есть три акта, три разные смешные истории, разыгрываемые одним актером с помощью «слуги просцениума». Варьировалось в спектакле как раз участие Репетилова. Иногда его краткой репликой Яхонтов открывал представление.
Он выходил из-за занавеса, достойно и неспешно, одетый в серую накидку с пелериной и с цилиндром в руке. Декларативно бросал в зал: «Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль» – и, склонив набок голову, с улыбкой радушного хозяина, обыкновенным голосом добавлял: «из монолога Репетилова». Потом скрывался за занавесом, после чего начиналось представление. В финале перед закрытым занавесом появлялись двое – застенчивый слуга и Яхонтов с цилиндром в руке. «Куда теперь направить путь?..» – произносилось скорее даже не Репетиловым, а актером, продержавшим внимание зала более двух часов фейерверком тонких и умных шуток. «А дело уж идет к рассвету… (чуть ли не тоном пророка, а далее – с безразличием) – поди, сажай меня в карету, (и, наконец, с усталой, несколько барственной изнеженностью) – вези куда-нибудь». В таком виде монолог Репетилова и его место в спектакле описывает С. Стебаков, постоянный и внимательный зритель яхонтовских работ. А режиссер Л. Варпаховский запомнил «Водевиль», начинавшийся сразу с появления хмельного Репетилова, его падения, потом реплики «Тьфу, оплошал» – и целиком сыгранного монолога.
Когда спектакль был зажат между двумя краткими репетиловскими выходами, он, очевидно, и звучал более водевильно; когда же роль Репетилова разрасталась, возникали новые связи между сюжетами Пушкина, Гоголя, Лермонтова и подтекстом роли московского либерала-болтуна.
В любом своем варианте спектакль «Да, водевиль есть вещь!» был «шутовством без шутовства». В нем был тонкий юмор, переодевания, розыгрыши, праздник комедийного театра, не чуждого серьезной подоплеки. Случайности, странные совпадения и неожиданные разрядки ситуаций осмыслялись как нелепости жизни, во все века питавшие жанр комедии. Были строго отобраны приметы классического жанра, без которого иногда задыхались и театр и литера тура.
Спектаклю была найдена чистая, праздничная сценическая форма: ослепительной белизной сверкал поварской колпак кухарки Мавры («крахмалу было много», – с удовольствием вспоминал Яхонтов), и батистовый передник, и белая рубашка слуги, в лучах прожекторов сверкали медная каска и сабля гусара, и цвет ширм был ярким, веселым – синий, желтый, вишневый…
«Казначейшу» Яхонтов, видимо, играл с особым чувством удовлетворения и по-своему, не так, как ее играла Л. Арбат в «Пиковой даме». В том, первом, спектакле была строгость словесной ткани, расчет на образ, заключенный в слове. Теперь было больше забавных трюков – танцевали в руках актера балетные туфельки, изображая бал в Тамбове, и т. п.
Так или иначе, спектакль демонстративно открыл новую грань яхонтовского таланта, отчасти угадывавшуюся в «Петербурге», редкую на сцене вообще, и на русской в частности, всегда становящуюся мишенью для поборников правдоподобия. Речь идет об эксцентрике, таланте драгоценном, но, как правило, со многими привычными понятиями не совпадающем.
Из отзывов на «Водевиль»: «Лаборатория артиста, где он стремится дать неограниченный выход актерскому техницизму (курсив рецензента. – Н. К.), строится обычно на таком материале, который поневоле влечет к себедовлеющему эксцентрическому эстетству… Яхонтов не задается никаким „отношением к классикам“, тем более популяризаторским или переоценочным… Рассказчик все более заслоняется актером, повествование все чаще вытесняется разыгрыванием роли со всеми признаками эксцентрического и местами циркового театра».
«Переоценивать» Попова и Яхонтов действительно ничего не собирались, «популяризировать» – тоже. Но прежде чем актеру выйти на сцену, они внимательнейшим образом вчитывались в каждую строчку, сопоставляли каждую деталь с общим замыслом, искали внутренние связи, оправдание каждой паузе, каждому жесту.
Иногда – это правда – азарт театральной выдумки захлестывал. Например, Яхонтов с пристрастием относился к соломенной шляпке, в которой он в «Коляске» играл генеральскую кобылу Аграфену Ивановну. Эту шляпку ему долго припоминали, когда надо было перечислить «формальные» трюки и признаки «себедовлеющего эксцентризма». Уж лучше бы он ее не надевал, бог с ней, гоголевская «Коляска» без этой шляпки не обеднела бы. Но ведь, как знать, за что ухватится язвительный критик, за какую твою шляпку, пуговицу или зонтик.
Например, один рецензент ехидно заметил, что у Яхонтова в спектакле появилось даже кресло «наподобие зубоврачебного». А ведь кресло-то было вольтеровское. Делалось оно по специальному эскизу П. Вильямса, во всех деталях и художником и артистом было обдумано, руками мастера мягкой кожей замечательно простегано. Прекрасное было кресло! Чтобы расплатиться за него, пришлось не один раз сыграть тот же «Водевиль». Но зато как удобно стало с этим креслом на сцене! Спокойно, хорошо ложились руки на подлокотники, красиво стояли старинные канделябры на выдвигающихся сбоку полочках. Это было верное, артистическое кресло, кресло для работы.
Потом, правда, и полочки были поломаны и канделябры куда-то делись. Полотнища с цветных ширм «Водевиля» сослужили службу в эвакуации: ими завесили окна домика во Фрунзе. Кто-то, уезжая в октябре 1941 года из Москвы, благоразумно захватывал с собой отрезы, чтобы поменять на продукты или продать. Яхонтов тоже вез в чемодане куски материи – синий, желтый, вишневый – память о «Водевиле»…
* * *
«Мои неудачи тесным образом связаны прежде всего с попыткой создать коллектив». Такой вывод был сделан в книге Яхонтова, когда на историю театра «Современник» его создатели взглянули с некоторой временной дистанции.
Казалось, первый же спектакль («Пиковая дама») должен был чему-то научить. В какой-то мере он действительно стал уроком, во всяком случае, для Поповой – она поняла, что никакую другую сильную индивидуальность Яхонтов рядом с собой не потерпит.
Но в книге «Театр одного актера» оба всерьез размышляют о возможном «ансамбле мастеров слова», «слиянии солирующих единиц» и т. п. Это попытка ввести свое искусство в общий ряд, быть объективными при том, что личный опыт и личная устремленность идут вразрез с «объективными», «общими» мыслями.
Создать театр, непохожий на все остальные, и держать на своих плечах этот груз оказалось нелегким делом, особенно когда 20-е годы сменились 30-ми и любая коллективность наглядно обнаруживала свои преимущества перед «индивидуальным». Отсюда и колебания, и противоречия, и метания. Попова признает, что они «часто утомлялись. Очень уж экспериментаторским был путь. Как первая лыжня или вершина, где никто не бывал, или экспедиция с неизвестным результатом. Для этого нужны особые силы». Сил у Яхонтова иногда не хватало. Что скрывать, очень хотелось уверенности в завтрашнем дне. Признать себя «индивидуалистом» было страшно. Даже самому себе.
У создателей «Современника» от собственного груза болели плечи и подгибались ноги. Они с завистью посматривали на обычные театры, пытались пристроиться к общему шагу – всячески подчеркивали, что они, «Современник», – тоже коллектив, лихорадочно искали Яхонтову партнеров.
Когда весной 1932 года театр «Современник» приехал на гастроли в Харьков, первым на обсуждении спектаклей выступил Лесь Курбас. Яхонтов при этом испытал сложное чувство: крупнейший режиссер высоко оценил уникальное искусство одного актера и подверг сомнению «необходимость расширения театра».
Для «Горя от ума» все-таки объявили конкурс: театру «Современник» требуются исполнители ролей Лизы, Софьи и т. п. Во время просмотра Яхонтов сидел мрачный, упрямо твердил: «не то», «не так». Попова соглашалась – в сравнении с Яхонтовым, конечно, совсем не то. Но в результате отбирали именно «не то».
Скромный, безмолвный «слуга просцениума» – это пожалуйста, с этим было проще. Такому персонажу Попова умела остроумно придумать роль. В «Водевиле» «пантомимическим актером» был А. Гурвич, и именно ввиду его замечательной незаметности и артистической услужливости ему посвящена маленькая главка в яхонтовской книге.
Но судьбы тех, кому Яхонтов на сцене сулил равноправие и в отношениях проявлял бурную расположенность, чаще всего складывались драматически. Или этот партнер явно не имел данных для равноправия, или Яхонтов бунтовал и сам же разными способами чужую самостоятельность подавлял. Кончалось все неудачей спектакля, разрывом отношений, а то и исковерканными судьбами.
Метаниями обычно сопровождались замыслы, связанные с какой-то пьесой, не с монтажом. Классическая пьеса становилась мечтой, навязчивой идеей на многие годы. Так было с «Горем от ума», так же – с «Гамлетом». Режиссерские наброски Поповой к шекспировской трагедии рассчитаны на четырех актеров – двух женщин и двух мужчин. В «Горе от ума» партнершу искали, чтобы «сохранить дивный грибоедовский диалог». Только через тринадцать лет решились отдать все в руки одному Яхонтову – и диалог, и массовые сцены, и женские роли, разумеется.
Поиски партнеров всегда были сигналом растерянности и тревоги. Яхонтов в этих поисках проявлял то рвение, то апатию, то ставил это непременным условием существования театра, то категорически отвергал.
Интересны подробности в рассказе С. Н. Славиной о том, как она, тогда начинающая актриса, по приглашению Яхонтова явилась к нему для переговоров. Он встретил ее во фраке, странно выглядевшем в тесном коридоре московской коммуналки, ввел в комнату и красивым жестом пригласил… за шкаф. Из-за шкафа шел слабый свет, там горели две свечи в канделябре. Наслышанная о нравах актерской богемы, молоденькая гостья потянулась к розетке, решительно зажгла верхний свет и… тут же поняла смысл этого «театра». В другой половине комнаты было развешано белье на веревках. А Яхонтов, видно, готовился, убирал «быт», хотел ввести будущую партнершу в какой-то преображенный мир. Это было и наивно, и трогательно, и касалось каких-то секретов его творчества. Чтение Славиной было одобрено, но союза не получилось по каким-то случайным, внешним причинам. К счастью, не получилось – могла бы добавить Славина. Все равно, кончилось бы плохо.
Однажды на репетиции «Горя от ума» за Софью попробовала играть Попова. Надо сказать, у нее это получалось лучше других – она не заслоняла Яхонтова, но и не была безликой. И Яхонтов не угасал, не раздражался. Он с удивлением всматривался в знакомые черты, и это забавно совпадало с самочувствием Чацкого, вернувшегося из чужих краев и потрясенного новой красотой Софьи и таинственной ее отдаленностью. Но Попову подвел голос, хроническая астма.
В конце концов для «Горя от ума» в «Современник» приняли Дину Бутман, травести из украинского тюза. В первой редакции спектакля она играла Софью, Хлёстову и даже Репетилова, в «Водевиле» после А. Гурвича – слугу просцениума. Актриса была наделена терпением, безропотностью, но у нее не хватало чувства юмора, необходимого на сцене и спасительного в жизни. Союз с Диной Бутман был недолгим. Актрисе он стоил тяжелого нервного потрясения, театру «Современник» – полууспеха «Горя от ума».
Итак, актер, на котором держался театр «Современник», был воплощением творческого эгоизма. Даже – эгоцентризма. Театр «Современник» по своему складу являлся сугубо индивидуальным театральным хозяйством одного актера и только в таком виде мог жить. Любая попытка увеличить это единоличное хозяйство была обречена.
Уникальной была личность Яхонтова. Исключительным был и театр «Современник». Поучительной – его история. Драматизм же ситуации заключался в том, что Яхонтов как бы добровольно отказывался от прав на исключительность.
Формально все кончилось так. Оставшись один (Попова уехала в Ташкент), Яхонтов окончательно запутался в организационных вопросах и репертуарных планах. Он лихорадочно стремился поддержать общественную репутацию своего театра. Беспомощный в финансовых делах, он взял дотацию и обязался поставить «Цусиму» по роману Новикова-Прибоя. Все дальнейшие его поступки рисуются, мягко говоря, неразумными. Внимательный взгляд может прочитать в них отчаяние.
В труппу было принято пятнадцать человек. История театра не сохранила ни единого имени из этого «коллектива», хотя были в нем и люди самоотверженные – работали без денег. В «Цусиме» сам Яхонтов играл адмирала Рождественского и еще одного матроса, пятнадцать других актеров – эскадру. Спектакль должен был представлять «полотно», из тех, что в середине 30-х годов стали завоевывать сцены больших и малых театров. Яхонтов старался сохранить условность на сцене, к тому же средства «Современника» были предельно ограничены. Кто-то, повязав платочки, изображал тоскующих на морском берегу матерей и жен, матросы пели волжские песни, «жены» и «матери» пели свои, бабьи, чей-то голос за сценой исполнял плач Ярославны из оперы «Князь Игорь», а все это вместе должно было изображать эпопею Цусимы.
Яхонтов совсем запутался. Ему казалось, что людей на сцене то слишком мало, то слишком много. Сколько на самом деле для этой «Цусимы» нужно, он не знал.
Когда спектакль был показан руководству Дома Красной Армии, нашелся умный и добрый военный, который сказал:
– Владимир Николаевич! Что с вами, вы, наверное, больны… Идите, голубчик, и поспите как следует.
«Я понял, – говорит Яхонтов, – что разбился в щепки… Я смутно понимал, что нарушаются те основы, на которых я уже утвердился». Увы, он нарушал их сам.
Все более вяло защищался от упреков в формализме (а упреки все усиливались), все чаще сомневался в том, что раньше делалось безо всяких колебаний. «А что, если Гамлета играть в театральном костюме? Может, тогда не скажут, что это формализм?». Иногда он вообще сомневался в том, имеет ли право один стоять на подмостках.
В 1934 году было устроено обсуждение его работ. Кто-то хвалил, кто-то употреблял такие слова, как «индивидуализм», «эстетство», «непонятно массам» и т. п. Яхонтов, отвечая, перенимал ту же терминологию, путался, то отстаивал свое «единоличное» дело как полезное обществу, то сомневался в том, что отстаивал. Он не был подкован для такого рода диспутов. Сегодня стороннему взгляду видно теоретическое убожество не артиста, а его оппонентов. Но художнику это не придавало сил. Было не до теорий.
В том, что он тогда говорил, видна полная растерянность. Уже на собственную практику художник готов был оглянуться с опаской.
«Я, попросту говоря, формализма здесь не вижу», – говорил он. Ему объясняли, что смотреть пора не «попросту», а с позиций общих, коллективных устремлений, и он сдавался: «Может быть, формализм заключается в том, что действует один, и, поскольку это так, то эти переключения с одного персонажа на другой создают некоторый формализм… Эта индивидуалистическая форма, может быть, не обязательна для массового зрителя, и если бы мы продолжали дальше эту форму, то могла бы получиться некоторая замкнутость…».
Шесть лет назад он находил страстные, точные слова в защиту своего учителя. Теперь он косноязычен, ни в чем не уверен и не может сообразить, как, каким способом, с какого боку защитить себя – художника.
* * *
К середине 30-х годов определилась главная тенденция критики по отношению к Яхонтову: его приветствовали как мастера слова и отказывались принимать в его работах все не только «актерское», но и «авторское». Острота его метафор, взрывчатая сила сопоставлений казались неуместными. Некоторые критики решительно переменили собственные позиции: бывшие ценители «достижений формального порядка» теперь агрессивно противопоставляли содержание формальным достижениям, недобрым словом поминали смелый монтаж «Петербурга» и эксцентрику «Водевиля».
Яхонтов, всегда старавшийся «слушать свое время, его смысл, содержание и идеи», менялся, изменял себя.
«В новой работе радует большая строгость к себе, скупость жеста и полный отказ от бутафории и театрализации. Яхонтов стал на путь чтеца. Менее заметный и более скромный Яхонтов-чтец сделал гораздо более значительный шаг вперед…», – такие похвалы нашли для его новой программы в 1936 году. Заметный стал незаметным, за то его и похвалили.
Время громких театральных экспериментов, когда сам Станиславский охотно и открыто вступал в соревнование со спектаклями Мейерхольда, кончилось. Яхонтов нервничал, когда при нем называли Мейерхольда «формалистом» и утверждали Станиславского «реалистом». Он не умел объяснить свою преданность обоим и ту реальную внутреннюю связь двух великих имен, двух школ, которую интуитивно чувствовал и на которую в своем деле опирался.
На всякий случай, стал реже исполняться «Петербург».
В 1936 году Яхонтов перенес первый приступ тяжелой душевной депрессии.
Постоянные посетители Бетховенского зала начиная с сезона 1935/36 года напрасно ждали прежних яхонтовских спектаклей – их не было. Но в 1933 году Яхонтов как вспоминают многие, «царил» на Первой Всесоюзной олимпиаде чтецов. Он был в рядах победителей. Взбодрившись, он попробовал, было, перебраться со своим театром в здание тогдашнего радиокомитета (ныне Центральный телеграф на улице Горького), но там сказали твердо: «Яхонтов-чтец – да, Яхонтов со своим скарбом – нет». На подмостках Олимпиады он царил, но на заключительном заседании сидел среди чтецов печальный, нервный – слушал других, кое-что в отрывках исполнял сам.
В 1937 году он стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова, разделив первую премию с Дмитрием Орловым. «Лауреат Первого Всесоюзного конкурса» – осталось единственным его официальным званием. В книге «Театр одного актера» глава о «Современнике», где, как всегда у Яхонтова, каждое пятое предложение начинается с «я» («я считал», «я нашел» и т. п.), с середины вдруг резко меняет интонацию. Звучит нечто новое: «мы, чтецы». Одна из страниц буквально пестрит: «чтец, выходя на эстраду», «средства чтеца зависят…», «чтец обязан» и т. д. – будто в главу о театре вставлена какая-то посторонняя статья о проблемах художественного слова. Яхонтов уже разбирает специфику «искусства художественного чтения», сетует на неполадки в организационных делах филармонии, размышляет о возможности «ансамбля мастеров». А восьмилетнему замечательному опыту театра «Современник» подводит итоги скучными и, надо признать, неискренними словами: «Я потерпел поражение, изменив специфике искусства художественного чтения…».
Он влился в «армию чтецов», занял там одно из первых мест и старался убедить себя в естественности и даже преимуществах нового положения.
На самом же деле, что бы он сам об этом ни писал, до самого конца, до 1945 года, не прекращался внутренний тайный спор художника не только с критикой, но с самим собой. Последний отзвук этого спора – статья-некролог в газете «Советское искусство» (единственная, кстати, в то лето заметка, кроме июльского извещения о «безвременной кончине артиста Московской филармонии, мастера художественного слова В. Н. Яхонтова»). Вышла эта статья в августе. Автор ее, критик В. Сухов, изо всех сил стремился найти старому спору решение, достойное, как ему казалось, памяти артиста и в то же время объективное. Сегодня в этой статье при внимательном чтении просматривается многое – и горечь потери, и искреннее восхищение искусством, и осторожность.








