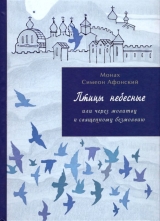
Текст книги "Птицы небесные. 3-4 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
– Ставил уже, там всегда кто-нибудь бродит из греков или румын, потом расспросов не оберешься! – ответил я сверху, осыпаемый мелкой мраморной крошкой, которую со скал сдувал ветер.
– Где-то здесь должна быть пещера монаха Пахомия, как мне отцы из Кавсокаливии говорили, – вспомнил иеромонах.
– Этот серб был великим подвижником! – откликнулся я. – О нем хорошо написано в книге монаха, святогорца Антония. Отцы, дорогие, прошу, давайте вместе поищем эти пещеры, они должны быть где-то рядом!
На мое предложение отец Агафодор с готовностью согласился, а послушник недовольно поморщился, но тоже пошел вслед за нами. Через полчаса утомительного лазания по густым и страшно колючим кустам, мы вышли к скальным мраморным стенам, круто уходящим к самой вершине Афона. Первая пещера, обнаруженная нами, оказалась двухъярусной: ее своды перекрывали старые дубовые балки, составлявшие когда-то настил для живущих в ней монахов. Рядом располагалась пещерка поменьше. Но моя радость от этого открытия уникальных уединенных пещер сменилась унынием: эти места посещали люди и даже неоднократно – виднелись следы от свеч и кое-где стояли по скальным выступам бумажные иконочки.
– Батюшка, не унывайте, я слышал от старых монахов, что сам отец Пахомий удалялся в другую пещеру на большой высоте, куда никто не мог подняться кроме него. Говорят, что Лавра дала ему длинную веревку, по которой он поднимался в свое скрытое убежище. Так что дело за вами, – утешил меня мой друг.
– Что же, будем искать… – с улыбкой заметил я, осматривая скалы.
В душе появилась надежда отыскать свою пещеру. Отпустив усталых помощников, я ревностно принялся исследовать местность. Но сколько ни пытался я вскарабкаться по вертикальным каменным стенам, мне не удавалось взобраться наверх. «Придется отложить подъем в Пахомиевский приют до другого раза…» Приняв это решение, я отложил поиски, а вскоре в сторонке от пещер набрел на небольшой гротик, защищавший от ветра и дождя. Набросав внутрь сосновых веток, я с трудом смог поместиться в нем в своей одноместной палатке. Ночью поднялся ужасающий ураган. Ветер, обтекая вершину Афона, развивал огромную скорость и ревел в скалах с воем взлетающего реактивного самолета. Однако место, в котором укрыл меня найденный грот, защищал от ветра большой каменный монолит. И мне оставалось лишь с ужасом прислушиваться к реву урагана, который смел бы меня со скал вместе с палаткой, не найди я это крохотное убежище.
Почему-то на Афоне мне только в тесной маленькой палатке, при тусклом свете крохотной свечи перед бумажной иконочкой Пресвятой Богородицы, становилось так отрадно и утешительно, как ни в каком ином месте. В горном безлюдье в душе рождалась какая-то особая духовная трезвость, замечающая любое движение самого мельчайшего помысла или рассеянности. Только в уединении сердцу открывалась простая и безначальная тайна духовной жизни: если мы живем в миру и миром, то мы мертвы в Боге и для Бога. Под рев разыгравшегося урагана мне вспоминались строки из прочитанных книг, что подвижничество – суть Православия, потому что Богопознание есть вдохновенный подвиг человеческой души. Все больше и больше в этих лесных дебрях сердце мое убеждалось в том, что христианство без аскетики телесной и умной, – не истинно.
Когда я сравнивал свою размеренную жизнь на Каруле с ее ежедневными богослужениями, ко мне пришло познание того, что аскетика есть практическое воплощение всей нашей молитвенной жизни и нашего посильного приближения к Богопознанию. Все внутреннее пространство сердца стало всецело молитвенным словом или безмолвной молитвой, через которую, обогащая и укрепляя его благодатью, открывался безначальный и беспредельный Христос, ставший в нем безраздельно всем, без каких бы то ни было движений ума.
С этого времени пришла уверенность, что самодвижная молитва, пройдя множество испытаний и искушений, утвердилась в сердечной глубине прочно и неисходно, став источником нескончаемой тихой радости, постоянно согревающей душу. Волновало лишь то, что скрывалось за этой молитвой, словно она была лишь дверью к чему-то неведомому и непредставимому, где пребывал Бог. Как будто на какой-то краткий миг эта дверь приоткрылась, и изумленный ум на мгновение остановился, пораженный невиданным зрелищем удивительной неизменности Божественного Духа, в Котором жила сама любовь, вернее, весь Он был одной любовью.
Все последующие дни я пытался закрепить и усвоить это дивное видение, но самому войти еще раз в такое состояние мне не удавалось, поэтому я оставил свои попытки и пребывал в непрестанной молитве, следя за умом и не давая ему впасть в рассеянность или сонливость, в которые он норовил уклониться, лишенный всех помыслов. «Непременно нужно встретиться с отцом Григорием и посоветоваться с ним, когда спущусь вниз, лишь бы только он был жив…» С этим намерением, когда закончились сухари, я спустился на Карулю.
Потребность увидеть монаха Григория, поделиться своими переживаниями и открыться ему, как опытному монаху, звала меня неудержимо в этот уединенный, спрятанный от людей маленький монастырь. Отец Агафодор сопровождал меня до обители, оставшись ожидать моего возвращения за ее стенами. Привычный запах лекарств напомнил о себе еще на лестнице. Старец сильно сдавал и это было заметно по его усталому лицу с темными кругами под глазами. Но духом он оставался бодр:
– Рассказывай, рассказывай, патер. Только говори самое главное… – с сильной одышкой сказал отец Григорий, сидя в старом потертом кресле с пологой спинкой, дышал он трудно и было до слез жалко смотреть на него. – Где был? Где сейчас живешь? На своей Каруле?
– Бог привел, отче, помолиться в Иерусалиме, на Синае и в Каире. Как-то само собой получилось, я даже не ожидал, что это возможно. А с Карули будем уходить, здоровье мое становится хуже и хуже. Лавра дала нам келью на Керасьях, но денег нет, чтобы ее восстановить. Просим поэтому келью у Русского монастыря…
– С Афона монахи ездят, бывает, ко Гробу Господню, и на Синай. А насчет Каира не слышал, – монах через силу улыбнулся. – Что теперь хочешь узнать?
Я, волнуясь, рассказал о своем кавказском молитвенном опыте и любимом старце, отце Кирилле, и как оказался на Афоне, пытаясь передать свое понимание происшедших событий. Подвижник слушал, полузакрыв глаза и покачивая головой в такт этим рассуждениям. Должно быть, в моем повествовании проскользнули нотки тщеславия, потому что сказал он совершенно не то, что я предполагал.
– Знаешь, отец Симон, что говорят об этом святые отцы? «Нет ничего беднее разума, рассуждающего о Божественном без Божественного освящения»! Глупо гордиться благословением старца и приходом первой молитвенной благодати, а также считать, что этого достаточно для обожения своего духа. Поскольку все мы погружены в бесчисленные грехи, вызывающие нескончаемые скорби, наша душа начинает стремиться к спасению, пытаясь выплыть из моря греховной жизни. Как же выплыть из этого греховного моря? Следует почувствовать такое же отвращение к делам мира сего, какое мы чувствуем к предателю. Бойся даже малейшего греха, помня, что небольшая искра может сжечь целый лес. Без строгого соблюдения евангельских заповедей начинает заживо гнить душа и разрушается сама основа духовной жизни. Поэтому заповеди Христовы поставь во главу угла! Говоря в общем, можно сказать, что к Богу приходят два типа людей. У одних сердце и ум, будучи неповрежденными, требуют прямого постижения истины, и они быстро стяжают благодать и просвещение духа. У других душевные недуги велики и они ищут в Боге непосредственного исцеления и лишь затем приходят к осознанию необходимости спасения. Поэтому их путь требует постепенности. Тот, кто поставил себе эту святую цель спасения, должен вначале услышать о практике покаянной молитвы и узнать ее. Этот этап ты прошел более или менее благополучно. Затем то, что узнано, следует выполнять с полным усердием и рассуждением, чтобы, в конце концов, овладеть священным созерцанием. Практика молитвы и созерцания должна принести плоды прямо в этой жизни, потому что в ином мире уже поздно что-либо практиковать, иначе придется уйти из нее, подобно слепцу, падающему в пропасть.
Я молчал, не ожидая такого поворота в нашей беседе. Затем, преодолев нерешительность, спросил:
– Хотелось бы услышать от вас совет, отче Григорие, как проходить искушения в молитвенной практике, и ваше слово о том, как понимать священное созерцание? Во время долгой молитвы душа моя испытывает состояния глубокого покоя и вновь их теряет. Что это такое? – я высказал свои сокровенные недоумения, чувствуя духовную близость к этому престарелому молитвеннику.
– Патер, есть хороший русский перевод греческого Добротолюбия, его и читай. Особенно, главы преподобного Каллиста Ангеликуда. Мне ни в коей мере не сравниться с этим святым угодником Божиим, – он то ли испытывал меня, то ли колебался с ответом, не вполне доверяя мне.
– Геронда, сейчас трудно услышать живое слово. Поэтому и умоляю вас ответить ради духовной пользы, – настаивал я.
– Хорошо. Некоторые соображения по поводу искушений можно сказать. Но все эти слова пусть будут только в виде совета… Итак, если мы что-то познаем в Боге, то такое действительное познание никогда не даст нам отступить перед любыми искушениями, потому что «Бог есть Свет, в Котором нет ни единой тьмы». В этом проявляется сила и действенность нашего духовного постижения. Испытай себя и пойми, что дух человеческий не может быть побежден никакими искушениями! Разве мы интуитивно не чувствуем этого в своей душе? Но необходимо знать, насколько важно для спасения иметь духовное рассуждение, о котором тебе говорил твой старец! Если в молитвенной жизни не происходит возрастания рассуждения, то это верный признак того, что молитвенник сбился с пути. Только с приобретением духовного рассуждения человек становится бесстрашным перед злом и быстро стяжает полноту благодати!
– А разве возможно до полноты благодати стяжать духовное рассуждение, отец Григорий?
– Быть человеком и не развивать в себе добра – это утрата смысла жизни, полная самообмана, и величайшая глупость. В отношении спасения люди делятся на две категории: первые всегда думают так: «Что хорошего может сделать для меня этот человек?» И такими людьми забиты пути и перепутья. Другие же думают иначе: «Что хорошего я могу сделать для этого человека?» И эти люди встречаются реже, чем клад с золотыми монетами. Для первых предназначен путь земных мытарств, пока не поумнеют, для вторых – путь спасения, пока не спасутся.
Прямое предназначение человека – развить в себе с помощью благодати всевозможные благие качества, среди которых первое – рассуждение! Рассуждение и приход благодати возрастают рука об руку, чтобы явить в сердце человеческом пребывающего в нем Христа, то есть стать христоподобным человеком.
– Понятно, отче, но пока придешь к этому состоянию христоподобия, не один раз упадешь, и это вызывает отчаяние…
На мое замечание монах веско и внушительно сказал:
– Если в стяжании добродетелей происходят падения, вновь и вновь поднимайся через покаяние и исповедь, обещая Богу и себе более не совершать никаких грехов.
– А есть ли какая-то постепенность в стяжании благодати, отец Григорий?
– Вначале мы отсекаем все греховные действия тела, речи и ума, затем отсекаем гордыню и, в заключение, – все пристрастия. Так обретается благодать.
– А каковы ошибки на этом пути, объясните, отче, прошу вас!
– Что говорит апостол Иоанн? Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). Если мир лежит во зле, то результатом его познания всегда будет разочарование. А плодом пристрастия к нему – отчаяние! Поэтому тот, кто стремится возлюбить суету мира сего, разве не сумасшедший? Когда все действия совершаются нами лишь ради этой жизни, то, в конце концов, выходит, что все делается лишь ради рабства диаволу. И это является самой серьезной ошибкой. Рабами мы становимся только у диавола, а у Бога мы становимся сынами Божиими. Но если же мы все поступки начинаем совершать ради вхождения в Царство Христа, тогда каждое наше действие есть шаг в жизнь вечную. Из всех наших спасительных действий самое лучшее – смертная память! Тот, кто укореняется в ней, уничтожает всякую гордость и тщеславие и незамедлительно приходит к спасению. Именно поэтому монах есть любитель и делатель непрестанного плача. Смертная память – это всегда открытые для нас врата спасения!
– А как развивать рассуждение, Геронда? Что для этого нужно делать практически?
– Тот, кто настойчиво стремится к совершенному благу и полностью, во всех мелочах, отвергает всякое зло, быстро развивает в себе рассуждение. Очень важно отсечь мирское мудрование или плотское мышление. Мысли – это конвульсии сознания, его затемнение, из-за чего оно не может функционировать нормально. Когда рассуждение ничтожно, тогда слушают и не помнят, пытаются понять и не могут, молятся, а в душе не рождается благодать. Этого нужно всемерно избегать. Для стяжания благодати сознание должно быть наполнено не помыслами, а Христом!
– Я вам очень благодарен, отец Григорий! Если у вас есть еще немного времени и сил, поясните мне, в чем разница между непрестанной молитвой и созерцанием?
Мне непременно хотелось выяснить этот вопрос, хотя с моей стороны столь долгое пребывание у старца уже граничило с невежливостью.
– Молитва, даже непрестанная, или, как русские говорят, самодвижная, еще относится к этому миру, но Божественное созерцание полностью выводит нас из мира. Это есть настоящее отречение, без которого невозможно стяжать обожение! Только в созерцании полностью прекращаются все мирские заботы и попечения, становясь евангельскою нищетою духа, ибо для таких душ открывается во всей полноте Царство Небесное…
Монах болезненно пошевелился в скрипучем кресле и умолк, не проронив больше ни слова. Воцарилось молчание. По крыше забарабанил неожиданный летний дождь.
– Я вас не утомил, Геронда? – коря себя в душе за назойливость, спросил я.
– Нет пока. Ты редко приходишь, патер, – пальцами рук он потер себе виски, массируя их. – Говори, что еще хочешь узнать?
– Отче, прошу вас, дайте мне наставление, чтобы стяжать духовное рассуждение и прийти к священному созерцанию… – сглотнув в горле комок от волнения, умоляющим голосом обратился я к старцу.
– Какое же тебе дать наставление? Оно всегда одно – днем и ночью трезвись, наблюдай за своим умом, ради «пленения всякого помышления в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Это есть главное правило всей духовной жизни. Это есть единственное совершенное покаяние и трезвение, заповеданное нам Евангелием и святыми. Потерять трезвение ума – значит утонуть в беспрестанных падениях во зло, что есть кошмар греховной жизни. Трезвение ума и есть само созерцание, которое предназначено для тех, кто сыт по горло мирской жизнью. Когда ум овладеет непрестанной молитвой, созерцание открывается само.
– Геронда, а созерцание и обожение души – это одно и то же, или нет? Я путаюсь в этом, – признался я.
– Старец Софроний говорил: «Видеть свой грех составляет начало созерцания». А об обожении он как-то сказал совершенно замечательно и глубоко: «Истинно веруют во Христа только те, которые веруют в свое обожение». Следовательно, единственная истинная форма жизни – быть святым по благодати Духа Святого. Быть святым значит быть обоженным или богоподобным человеком. Старец не раз говорил нам, что когда умаляется Божественное Откровение и низводится до нашей меры невежества, тогда для всякого чело-века исключается возможность истинного покаяния и освящения души. Мой духовный отец допускал, что многих христиан некоторые тексты Священного Писания и святых отцов Церкви приводят в смущение и о них они не хотели бы даже слышать. Но, по правде, само это смущение является непреложным свидетельством того, что со своим лжесмирением они не желают постигать истины Божественного Откровения. В ответ можно сказать словами Христа (Еф. 5:15): Блюдите… како опасно ходите. На этом, отец Симон, нам следует сегодня остановиться. Мне пора принимать лекарства, а потом собираться на службу. Старайся руководствоваться этой небольшой благодатью, обретенной тобою в горах Кавказа, и ничего не оценивай своим греховным умом. Пропитай все свое сердце благодатной силой любви, чтобы оно уподобилось сердцу матери, больше всего на свете любящей своего единственного ребенка. Следуй советами благодати, невзирая на ошибки, ибо без ошибок не стяжаешь мудрости духовного рассуждения. Со временем эти ошибки исчезнут, если будешь усердно пребывать в трезвении ума, о котором ты услышал. Продолжай обучаться практике такого трезвения и сообщай мне о своих молитвенных опытах…
– А когда можно приходить к вам, отче Григорие?
– Только когда вопросы начнут гореть в душе, требуя их разрешения…
Поцеловав пахнущую лекарствами худую руку монаха, я вышел из монастыря.
– Ну и долго же вы, батюшка! Я даже сомлел, дожидаясь вас.
Мой друг заметно нервничал.
– А ты молись, чтобы зря не сидеть! – посоветовал я.
– Молился, уже сил нет… Буду брать с собой какую-нибудь духовную книгу на греческом, чтобы переводить. Как благословите?
– Вот это дело стоящее! А то переводов хороших нет, даже жалко. Был отец Диодор, и того недоброжелатели съели, уехал…
По бегущей через лес дороге, раскисшей от недавно прошедшего дождя, мы добирались до причала и уплыли на пароме в свою келью на знойной Каруле.
В Тебе я был, Боже, от начала, как Твое предопределение в вечности на мое рождение в мир в конце времен, точно так же, как и предопределенность каждого человека, с которым мы дышим одним воздухом земли сей. Но тогда и Ты, Господи, был во мне от самых истоков бытия. Ведь то, что Ты для души моей роднее и ближе всего, говорит мне, что в Тебе сокрыта жизнь моя, Отче мой, пребывающий на высочайших небесах сердца человеческого! Прилеплюсь ли я к миру – нахожу в нем смерть свою, прилеплюсь ли к Тебе – и встречаю блаженные объятия Твои, Господи Неба и земли. В Твоих объятиях истаивает мой ум, в них восторгается душа моя к славе Твоей, для глаз человеческих ярчайшей всех светил вселенной. В нескончаемом блаженстве к любви Твоей устремляется дух мой, ведомый Святым Духом Утешителем, и не находит ей ни конца, ни начала. Обозреваю я тщетно, ища в любви Твоей безпредельной хотя бы какие-нибудь горизонты, но всюду зрю лишь Тебя, Единого, мой Иисусе, несозданный свет сердца моего, вместившего Тебя, Невместимого.
ВЕЛИКИЕ СКОРБИ
Молюсь Тебе я, ничтожный, Тебе, – Вседержителю и Царю сущего и сверхсущего: «Да приидет Царствие Твое». Помышлял я некогда о нем, как о заоблачном мире где-то вне пределов земли, ибо не разумел премудрости слов Твоих, Иисусе. Доколе Ты Сам не открыл мне страницы книги Твоей дивным мановением святой десницы Твоей и не очистил незрячие очи души мой к видению непостижимых тайн Твоих. Даже став священнослужителем Твоим, Христе, повторял я бездумно святые слова: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков», полагая, что Твое Царство за перевалами жизни человеческой и за морями скорбей людских. Ныне же не вижу нигде ни песчинки, о которой мог бы сказать: «Вот, она не от Царства Его!» Не только песчинки, но даже атома не вижу нигде, ибо воссияло Царство Твое, Христе, внутри и вовне души моей, стирая все границы между внутренним и внешним. Если есть где-либо внешнее, тогда все сущее стало бы внешним. Но когда я сам есть внутреннее, то все бытие есть внутри меня, неразделимое и неотъемлемое от меня самого. Поистине, приходит невместимое Царство Твое в каждого из нас, когда мы прямо узрим Его в себе и вокруг, восклицая в изумлении: «Истинно, Твоя есть держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, ныне и присно, и во веки веков!»
Свирепый осенний ветер срывал пену с гребней стоячих свинцовых волн и с грохотом разбивал о пристань тяжелые клокочущие массы воды. Водяная пыль стояла над всей Карулей и даже в открытую форточку нашей каливы ветер забрасывал соленую мельчайшую взвесь. Легкие мои не выдержали осенней сырости. Вновь появились кашель и одышка, здоровье начало быстро сдавать. Но отступать я не собирался, проводя все дни в литургиях и молитвах. Начавшиеся шторма окончательно отрезали меня от встреч с монахом Григорием и я долгое время не знал, жив ли он или его уже нет в монастыре.
Несмотря на пронзительный сырой холод (а в воздухе уже мелькали первые снежинки, быстро тающие на скалах и на стеблях колючих кактусов), наш сосед, богатырь Христодул, ходил в одном подряснике, с закатанными по локоть рукавами. Он даже не топил печь. А мы поддерживали тепло в продуваемых ветром комнатах мелким хворостом и горбылями, собранными на берегу. Видимо с какого-то корабля сорвало доски и прибило на Карулю. Ураганом завернуло в рулон кровлю на каливке послушника Ильи и нам стоило больших усилий разогнуть старое крепкое железо обратно, укрепив крышу большими камнями. То же самое мы сделали и на нашей каливе, придавив крышу, где можно, громадными обломками скал, иногда срывавшимися сверху: их не смог бы сдвинуть самый свирепый северный ветер.
Отношения с монахом Христодулом дошли до того, что он отобрал у нас ключи от Троицкого храма, сославшись на благословение архимандрита с Санторина, полученное им якобы по телефону. Как потом выяснилось, наш сосед напугал доверчивого грека сообщением, что русские хотят отобрать у него церковь и келью. Пришлось соорудить временные престол и жертвенник в моей комнате, где мы иной раз угорали от духоты.
Послушник Илья вновь переселился в свою хижину на обрыве. Он не унывал: Афон явно пошел ему на пользу. Он с удовольствием приходил к нам каждое утро в четыре часа и с большим благоговением пел на литургиях. Греческий язык дался ему легко и он уже сам мог довольно свободно изъясняться с нашим соседом на разные темы и даже уговорил его вернуть ключи от храма. Тот покровительственно хлопал его по плечу:
– Казак, настоящий казак! – это слово в устах отца Христодула означало высшую похвалу. – Эндакси, служите литургии. Все хорошо!
Периодически мы навещали старца Стефана и приносили ему продукты, как и все остальные сербы на Каруле. Он отказался категорически от строительства всяких келий и продолжал жить в пещере, согреваясь большим костром и горячими камнями, нагревавшимися от жаркого пламени. Этим костром он пугал жившего по соседству, чуть выше, отца Христодула, сильно опасавшегося очередного пожара, пока сербы не увезли старого подвижника на родину. Вспоминается его последнее появление в нашем жилище. Пропахший дымом и почерневший от сажи «папа-Краль» держал в руке новый кошелек:
– Симон, смотри сколько денег!
Он раскрыл кошель, в котором действительно лежали большие купюры. – Нашел у себя на ступенях. Должно быть, паломники только что сверху прошли. Возьмите себе: хотите– грекам отдайте, хотите – себе оставьте…
С невозмутимым видом он смотрел в сторону, протягивая кошелек.
– Отец Стефан, вы нашли его, вы и отдайте найденное в полицию, там разберутся! – предложил я.
Старец неожиданно вспылил:
– Еще чего! Буду я по полициям таскаться! Не хотите брать, сейчас выкину его в море!
Он взмахнул рукой, намереваясь швырнуть деньги в пропасть.
– Хорошо, хорошо, отче! Давайте нам этот кошелек, мы отвезем его в полицию…
Отец Стефан, довольный, собрался уходить. Мы собрали ему пакет продуктов: рыбные консервы и вермишель, вложив все в его прокопченную дымом руку. Отшельник, тем временем, внимательно смотрел вниз:
– А это что? Паломники еще не уехали? Ну-ка, патерас, бегите скорее вниз. Спросите, может кто-то из них потерял деньги?
Он указывал на пристань своим черным худым пальцем. Мы с иеромонахом, прыгая по ступенькам, кинулись вниз. Маленький паром «Агиа Анна» только показался, идя от конечного мыса Святой Горы, борясь с волнами. На голос отца Агафодора греки переглянулись: один начал шарить у себя по карманам. Увидев свой кошелек в моих руках, он страшно обрадовался. Грек взял бумажник и вытащил из него сотенную бумажку:
– Панагия, Панагия! – бормотал он, указывая на храм Пресвятой Троицы.
Эту бумажку мы принесли «папе-Кралю».
– Бросьте ее в угол! – сказал он, не поворачивая головы и подкидывая поленья в костер.
Старец увлеченно пек на угольях картофель. Впоследствии он рассказывал отцу Христодулу:
– Русские монахи – хорошие парни! Не польстились на чужие деньги…
Тот угрюмо воздерживался от замечаний. Так мне и не удалось в эту зиму навестить монаха Григория, сколь ни рвалось мое сердце на встречу с этим удивительным молитвенником. Когда мы с отцом Агафодором в очередной раз поднялись к Данилеям к телефону-автомату, меня ждала тревожная весть: из Адлера послушница Надежда взволнованным голосом, от которого дребезжала телефонная мембрана, сообщила:
– Федор Алексеевич сильно заболел! Высокая температура… Лежит без сознания. Мы устали его переворачивать, сил уже нет никаких… Лекарства не помогают… Скорей приезжайте на помощь!
Встревоженный, я пообещал перезвонить после того, как свяжусь с батюшкой. До отца Кирилла в Переделкино удалось дозвониться быстро, хотя слышимость была очень плохая.
– Что делать, батюшка? Папа сильно заболел. Как правильно поступить? Если я отрекся от мира, то оставаться ли мне на Афоне? Или ехать к отцу, но тогда жалко оставить Святую Гору. Если же остаться на Афоне, то еще более жалко бросить отца… Что вы благословите? – охрипшим от волнения голосом кричал я в трубку телефона, теряя голову.
Откуда-то, словно с другого конца земли, донеслось:
– Нам должно утешать всякого человека, тем более родителей. Если же они в беде, следует всемерно помочь им. Поезжай к отцу, отец Симон! – твердо сказал духовник.
– Батюшка, это значит оставить Афон навсегда. Дай Бог, чтобы отец выздоровел. А если нет, то тогда мне нужно досматривать его в Адлере. Следовательно, придется жить в миру… Это меня убивает, отче! Ведь я ушел из мира… – в отчаянии прокричал я. Мой друг, удрученно стоявший рядом, заметно впал в уныние. Старец продолжал говорить:
– Отец Симон, уходить от родных ради Бога можно лишь по двум причинам: когда любовь к Богу выше нашей привязанности к близким, при условии, что мы сделали все возможное, чтобы они не были брошены нами на произвол судьбы, или же когда близкие препятствуют нам в нашем стремлении к Богу. Однако наше монашество запрещает нам жить с родными, если они только не станут монахами. Посоветуйся с духовником в Русском монастыре, может быть они благословят постричь твоего отца в монашество…
Совет батюшки показался мне светом во тьме скорби. Повесив трубку и обернувшись к удрученному иеромонаху, я сказал:
– Нужно срочно ехать в Пантелеимоновский монастырь! Батюшка благословил… – тот безропотно последовал за мной.
В монастыре нас как будто ждали, отец Меркурий сразу повел нас в свой кабинет.
– А мы как раз хотели к вам на Карулю отправить нашего послушника! Дело в том, что на Ксилургу разболелся архимандрит Иаков, а заменить его некем. Пришлось забрать старца в монастырь. Если вы согласны перейти на эту келью, тогда монастырь поможет вам перебраться с Карули, – доброжелательно растолковал нам духовник суть дела.
– Отче, мы благодарны вам за это предложение и согласны перейти на Ксилургу, только простите меня, мой отец сильно разболелся и лежит без сознания! Придется ехать в Россию к нему на помощь. Если Бог даст, он поправится, то мы обязательно вернемся, а пока благословите придержать за нами Ксилургу. Мы посещали этот замечательный скит, когда паломничали, и нам обитель очень понравилась… – одним духом высказал я свои проблемы.
– Хорошо, хорошо, – согласился духовник, кивая головой.
– Отец Меркурий, у меня к вам просьба: вдруг отец не выздоровеет и начнет умирать, можно его постричь в монахи с вашего благословения?
Монах посмотрел в угол на большие иконы и произнес:
– У меня тоже был такой случай! В позапрошлом году мой отец тяжело заболел. Пришлось лететь домой. Как только постриг его в монахи, он и выздоровел…
Духовник замолчал, вспоминая эти события.
– А что было дальше, отче? – нарушив молчание, спросил я.
– Дальше? Привез я его сюда. Теперь он в нашем монастыре подвизается, слава Богу! – закончил отец Меркурий с улыбкой.
Я искренно удивился этой необыкновенной истории.
– Ну, это у вас особая милость Божия, что вы отца в монахи постригли и сюда привезли… – вздохнул я с большой скорбью.
– Потому, отец Симон, и вам благословляю постричь отца, если будет при смерти. А там как Бог даст…
Я поблагодарил духовника за исключительно вдохновляющее благословение.
– Ну что, отец Агафодор, летим вместе в Россию или здесь останешься? – спросил я своего друга, когда мы вышли из канцелярии монастыря.
– Лечу с вами, батюшка. Что мне здесь одному делать? – ответил решительно отец Агафодор.
Я с большой теплотой обнял его:
– Спаси тебя Христос, отче!
Со слезами на глазах, теряя надежду, что когда-нибудь вернусь на Святую Гору, я сидел в самолете, отвернувшись к иллюминатору, чтобы никто не видел моих слез. Тем не менее в душе росла решимость помогать отцу, что бы с ним ни случилось.
– Батюшка приехал! – радостно закричал подросший Ваня, увидев меня во дворе с отцом Агафодором.
В Адлерской квартире стояла большая суматоха: повсюду, в ванной и на балконе были развешены выстиранные простыни и белье. Сильный запах лекарств слышался еще на лестнице. Сестры в отчаянии смотрели на нас. Отец неподвижно лежал, тяжело дыша, с хрипами в легких, не открывая глаз.
– Высокая температура у папы вашего, отец Симон, – прошептала послушница Надежда. – Даем лекарства, не помогают. Уже и пролежни появились… Нет уже сил часто переворачивать его, уж очень он тяжелый…
Осмотрев отца, я увидел, что у него развилась сильная отечность лица и тела. Когда мы с усилием перевернули его на бок, на спине старика я увидел кровавое мясо – образовались большие пролежни…
– А врачей вызывали? – в отчаянии спросил я.
– Вызывали, но пришел участковый врач, сделал укол и ушел. Один раз «скорая помощь» приезжала. Посмотрели, тоже сделали укол и уехали. Но их уколы ничего не изменили. Прямо беда, отец Симон…
– Спасибо вам, сестры, что сделали все возможное, теперь мы с иеромонахом Агафодором займемся отцом!
Вчетвером мы обмыли тяжело дышавшего, горячего от высокой температуры старика и переодели его в чистое белье.
– Но это еще не все, батюшка, – хладнокровно сказала после наших совместных усилий Надежда. – Вам необходимо научиться ставить отцу клизму, иначе, пока он без сознания, всякая такая задержка только усугубляет ситуацию!








