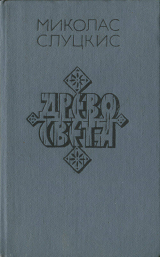
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Сойдет, мама! Я привычный, да и Ниёле не принцесса – методист в Доме культуры! – успокаивал Пранас растерявшуюся мать и сам храбрился, чтобы родной дом не сдавил горло цепкими руками воспоминаний.
– Как это сойдет? Говорила старому: купи новую мебель. Механик вон югославскую приволок. Да разве купит он нужную вещь?! Собаку породистую сторговал!
– Собаку? Браво, отец! Браво! Давно следовало. Ежели утирать нос, так всем разом.
– Праниссимо, ну как ты говоришь? – вмешалась Ниёле. – Мама подумает, что мы и дома так говорим.
– Считаешь, правильно сделал? – напрашивался на похвалу Лауринас.
– Поздравляю. Другого такого батюшки во всем районе не сыщешь. Породистых собак разводить будет. Соседи от зависти сдохнут, етаритай!
– На сене-то нынче славно, Пранас! – осмелился пошутить ободренный объятиями сына Лауринас. – Глядишь, после такой ночки аист скорее прилетит.
– Спятил, батя? Я и так двоим алименты плачу. Ниёле и конфетами на сеновал не заманишь. Ей запах сена – нож острый. Аллергия, болезнь нашего века.
– Ишь, какими болезнями век кичится. Я-то в твои годы… – начал было Лауринас, но полная забот Петронеле тут же уняла его.
Старики шебуршили долго, наконец стихли, каждый в своем закутке. Статкус противился сну, будто кто велел ему бодрствовать. Свои, не чужие нагрянули, уговаривал он себя, но это не помогало. Проснувшись, не помнил, как уснул, зато не надо было гадать, что разбудило. Чиркала коса Балюлиса – пожелает невестка поднять краснощекое яблочко, а трава по пояс. Тебе-то чего волноваться? Балюлисовы детки – Балюлисовы бедки. Почему бедки? Все еще кружит голову радость, не поблекшая за ночь, – дети приехали, наконец-то приехали!
Вот они при утреннем солнце, рассеивающем таинственность ночи. Взгляды Балюлисов – и Статкусов тоже – липнут к слоняющемуся Пранасу, словно потерял он что и не находит. Вроде запропала какая-то вещица, где положил, не помнит, а спрашивать не хочется. Бродит по двору все тревожнее, то присядет, то снова вскочит, будто крапивой обстрекался. Невестка скорее нашла себе место. Потоптавшись по гумну – острые каблучки ее туфелек накололи круглых ямок, – угнездилась на скамье под кленом. С книгой в руках, предварительно расстелив на широкой доске ослепительно белый носовой платок. Все обращают внимание и на платок, и на то, как подворачивает она под себя длинные, пожалуй, слегка худоватые ножки, подпирает кулачком иссиня-белое личико. Наконец-то очутилась в затишье, откуда не удастся ее выцарапать, и сама под ногами болтаться не будет. Ее тонкие, изящно изогнутые губки кривит небрежная, как бы извиняющаяся за уход в себя улыбка. Не только запах сена, но и запахи гниющих яблок, развороченных огородных грядок, распахнутого хлева слишком грубы для ее красиво выточенного носика. Всего ей тут чересчур много – деревьев, воздуха, потемневших, невесть что помнящих бревен; и она старается ничего не касаться, даже скамьи, на которой сидит, вернее, на которую опустилась, словно редкая бабочка.
– Невестушка, груши-то пробовала?… Невестушка, ранних слив с вершинки нащипал себе… Невестушка, – тщетно пытался подольститься Балюлис; за малейший знак благосклонности простил бы он невестке холодность и отстраненность.
– Как подаешь, неряха? На тарелочке надо! – пристыдила его Петронеле.
– Не лезьте вы к Ниёле, как шершни па сладкое, не любит она. Книгу, учтите, читает не нашу – испанскую. Не по нашим с тобой, отец, носам! – подскочив, заслоняет ее от отца сын и не без гордости поглядывает, видят ли ее, склоненную над книгой, Статкусы.
– Фу, некрасиво хвалить в глаза. – Ниёле лениво двумя пальчиками перевернула страницу. Пранас обиженно отпрянул и снова, как аист, ни за что не принимаясь, отрешенно вышагивает, не в силах придумать себе дела, неловко чувствуя себя в модном приталенном костюме из добротной шерсти. Не только пиджак, но и туфли стесняют, он с удовольствием разулся бы и прошелся босиком по траве, наслаждаясь не раз являвшимся ему во сне, но почему-то и сейчас недостижимым блаженством. Что запела бы Ниёле? Она-то еще ладно, но загудит и иерихонская труба матери. Ее городской сынок – босиком? Скрипнув зубами, сбросил на кучу досок пиджак. Ниёле издали сделала замечание, сложил подкладкой вверх, потом повесил на яблоньку сдернутый галстук, который запестрел там, как сойка. Освободившиеся руки – большие, с налитыми кровью ладонями – рылись, закапывались во взъерошенную бороду. Поседевшая, чуть ли не рябая, она больше подошла бы старому человеку, чем такому бравому молодцу, казалось, сорвал бы ее, как приклеенную, чтобы стать самим собой.
– Чужих лошадей и поить доводилось, и овса им задавать, – тишком, с хитроватой улыбочкой подкатился к скучающему сыну Лауринас. – А что твой драндулет любит, не подскажешь?
– Какой драндулет? – зыркнул на него Пранас, но лицо оживилось, он вдруг сообразил, чего тщетно искал все утро. Заблестели глаза светлой голубизны, под расстегнутой нарядной рубашкой задвигались комья мускулов. Да «Москвич» же! Что, если не этот чертов «Москвич», вызволит из ловушки, куда попал он как кур в ощип? Бросился к машине, открыл капот, принялся ковыряться в моторе, по раскрасневшемуся лицу градом покатил пот. Мастером он был неопытным, ободрал пальцы, каждое второе слово было «етаритай» или еще более сочное, трехэтажное. Уезжаешь на два дня, один съедает дорога, другой – ремонт… И ради этого стоило заискивать перед женой, умолять ее поехать? Но, явись один, старики решили бы, что снова разводится. Разве он тот развод придумал? Ангеле, змея подколодная, более денежного нашла… А, черт с ней!
Пранас вслух сетовал на свои беды, потел, хлебал воду прямо из ведра, однако Статкус не сомневался, что он доволен неполадками в машине, заслонившими дом, деревья, упрекающую, чего-то от пего ждущую тишину. Тут невозможно спрятаться от требующего покаяния материнского взгляда, избежать хитроумных, стремящихся приманить подходов отца, а он вовсе не собирается позволить им сыпать соль на свою рану… Старики догадываются, почему у него все из рук валится. А, не маленький уже, не просить же ему разрешения папы-мамы! Да и как тут не выпить? Отравляла жизнь одна вечными попреками и сказками о том, как другие живут, теперь другая травит постоянными требованиями жалости к себе, будто не пашей земли жительница, травит этой своей книжицей, которую, неизвестно, читает или просто листает, чтобы ею восхищались, этим сосущим под ложечкой «Праниссимо», будто он не взрослый человек, а несмышленыш. Борода не чья-нибудь, ее выдумка. Если не талантом, хоть бородой выделяйся из толпы, а сама ведь не какой-нибудь дирижер – методист Дома культуры, на пудовом аккордеоне пиликает.
– Сбегаю механика позову! – предлагал Лауринас, сын останавливал, уговаривал не горячиться, хотя сам кипел, нестерпимо хотелось выпить.
Все-таки пришлось кланяться механику. Красный тракторенок, синий комбинезон, полотняная шапочка – «Tallinn».
Не говоря ни слова, механик пошарил под капотом, постучал ногтем по аккумулятору.
– А где я новый возьму? Рожу, етаритай? – ухватился за бороду Пранас.
Механик ткнул большим пальцем в себя: вытаскивай, мол, аккумулятор и давай ему.
– Он что, глухонемой? – выпучил глаза Пранас, наматывая на палец волосы бороды.
– Когда ему болтать? – бросил Лауринас.
Механик кивнул, вскочил на свой трактор и укатил.
– Нет, не прощу я этому гаду доценту! – ярился Пранас, Ниёлино «Праниссимо!» прожужжало мимо, не достигнув цели. – Дай мне ружье! Я его, этого жулика!..
– Какое ружье? Что несешь? Прикуси язык-то! – ощетинился Лауринас и тайком огляделся по сторонам, не идет ли кто, не едет ли мимо. – Мало мы настрадались из-за этого куска железа? Я его давным-давно утопил. Забудь про ту гадость, забудь!
Звякнуло суровое и горькое прошлое усадьбы. Что, снова покатилось время назад? Пранас, выпучив глаза, не переставал орать:
– Дурак ты, что ружье утопил! Было бы оно у меня теперь!.. Ну, ничего, отлажу эту рухлядь, продам и на всю выручку – револьвер, етаритай! Попадись мне тогда на глаза этот доцент! Не простой, образованный жулик. Не успел домой пригнать – трах-трах – две покрышки. Лезу под машину – крестовина изношена. Тысячи не наездил – стал бензин подтекать… Мало того, аккумулятор полетел! Нет, в тюрьму сяду, а его, гада!..
– Праниссимо! – взвизгнул, словно режут стекло, голосок Ниёле, закованный в серебряные латы пальчик поднялся к побледневшему лбу. На этот раз надутая грудь Пранаса опала, плечи осели, в бороде мелькнули седые пряди – возле клена стоял теперь далеко не молодой человек, добродушный, никого не могущий обидеть… никого!
– Значит, не разрешаете ухлопать подлеца? – спросил спокойно, словно не громыхал только что. – Дайте тогда какое-нибудь дело, чтобы с ума не сойти!
– Отаву не смахнешь? Вон под навесом старая коса. Ой, как по тебе соскучилась! Как скрипочка заиграет, – манил отвыкшего от крестьянской работы сына Лауринас.
– Не смеши людей, батя! Сенокос-то когда кончился, а ты все по травинке выскребаешь.
– Старый я, Пранас. Понемножку, по клочочку.
– Ох, батя, батя! Привык крошки клевать. Никогда не умел по-крупному брать. Бригадиром не стал, председателем не выбрали, даже в почетные колхозники не попал… Не гонишься за почетом? Черт с ним. Вон сад ломится, горы витаминов погибают, а ты мне и себе косы правишь. Другой на твоем месте такой бы бизнес с яблоками провернул!
– Четыре ящика в районе продал, – похвастал Лауринас.
– Не смеши людей, батя. Тоннами надо, не ящиками. И не в районе – в Паневежисе, в Вильнюсе!
– Не дотянет Каштан. Даль-то какая…
– Ха, Каштан! А грузовики зачем? – весело выкрикивал Пранас, глаза у него блестели, борода ходуном ходила от учащенного дыхания. Видел большую торговлю, мешок денег. – Если Вильнюс завален, гонишь в Палангу, в Ленинград! Вот как люди делают.
– Вези сам, чего не везешь?
– Я человек служивый, бухгалтер, – развел руками Пранас. – Сверчок запечный. Вы, колхозники, другое дело. Вас даже призывают.
– Вези от моего имени. Копейки с тебя не возьму, спасибо скажу! – рассерженный Лауринас отвесил поклон сыну, показывая, как будет его благодарить. Никому не позволял над собой издеваться, не позволит и сыну, который пальцем не шевельнет – пускай гниет все и сгниет! – но языком молоть горазд, да еще чтоб посторонние слышали.
– А Ниёле моя, знаешь, что запоет? – уже оборонялся Пранас. – С базарным спекулянтом жить не стану! Правда, Ниёле?
– Праниссимо, ты сегодня невыносим! Уймись!
– Как вам наша парочка? – Петронеле ухватила за рукав прошмыгнувшую было мимо Елену.
Хозяйка просто искрила, как горящий факел. К такой и с добрым словом не подступишься.
– Вроде славный он, ваш Пранас, правда, шумноватый, – осмелилась высказать свое мнение Елена.
– Пранас? Нету никакого Пранаса.
– Как это нету?
– Не Пранас – Праниссимо!
– Все равно… не злой.
– Сама знаю: не разбойник.
– Вот видите…
– Что? Языком правду ищет, языком жуликов в прах повергает, и сам языком богатеет, все языком.
– И невестка… красивая.
– Ты мне, дочка, зубов не заговаривай, не слепая, вижу, что красивая. А зачем ястребиные когти?
– Наверно, красиво.
– Красотой горшок не прикроешь.
– Хозяйка, вы же сами говорили… Красота…
– Ты-то вот почему ногтей не отращиваешь?
– Стряпаю, стираю, полы натираю.
– А ей кто готовит, стирает? Кто? – испугавшись, как бы их разговор не услышала невестка, Петронеле отпустила рукав Елены.
– Праниссимо, ты сегодня просто невыносим. Трубишь, как дырявый фагот, – не преминула Ниёле выплеснуть свое возмущение.
– Слыхал, батя? – Пранас чуть ли не обрадовался выговору жены. – Учти, дырявый фагот для нее страшнее пестрого подсвинка… А у тебя руки не связаны. Не хочешь с яблоками возиться, что-нибудь другое придумай…
– Ты это всерьез, сынок, или опять языком мелешь?
– Абсолютно всерьез. Вон у одного моего приятеля папаша сторожем в сыродельном цеху. Обоим славно перепадает!
– С ворами я, слава богу, дел не имел и тебе не советую…
– Воры были при Сметоне, нынче просто оборотистые люди.
– Работать надо, сын, а не языком болтать. Паразитов и без тебя достаточно.
– Эх, батя, батя! Простых вещей не понимаешь. Кому какое дело, паразит ты или рабочий муравей? Приличное жалованье, премийка, утечка или утруска – и все тебе кланяются. А тут? Никакого приварка к пенсии, дергаешь осоку из болота. Такие-то дела, батя.
– Приехал в лицо мне плевать? – не на шутку обиделся Лауринас. – Мог бы повременить, пока к праотцам отправлюсь. Не горели бы у меня тогда уши из-за сына.
– Как тебя понимать, отец? – вспыхнул и Пранас, скорый на обиду и быстро отходивший. – Гонишь?
– Кто тебя, сынок, гонит? – прилетела, будто наседка на защиту цыплят, Петронеле, позабыв все, только что высказанное Елене. – Не слушай ты его, старого болтуна. Меньше языком бы трепал, скорее с сеном управился. А то все на дите валит!
– Балуй его, балуй. С самого детства так. «Не слушай старого болтуна!» – горячился Лауринас. – Мне, в три погибели согнувшись, осоку рубить, а бычок без дела пастись будет.
– Дите с дороги устало, а ты… – защищала сына Петронеле.
– Праниссимо! Не отвечай, не унижайся! – снова зацарапал под кленом голосок снохи, и всем стало ясно, что махание косой ничего не изменит. Пранас отрезанный ломоть, и не только по своей вине.
– Нет, я ему все выложу! – Пранас скрипнул белыми зубами. – Разве сбежал бы я из дому? Разве полез бы в тот дерьмовый кредитно-финансовый, кабы не ты, не твоя винтовка? Ненавижу всю эту бухгалтерию, расчеты… вонь захватанных денег!
– А куда бы ты подался-то, куда? – наскакивал отец.
– В летчики. Все бумаги уже готовы были.
– Ветрогон… В лет-чи-ки! Чего же не подавал?
– Еще спрашивает… Винтовка, твоя винтовка!
Снова винтовка… И Пранасу поперек пути встала, хотя никого, кроме Ниёле, не боится и, лишь храбрясь, грозился револьвер купить? Проклятого запаха той железяки вовек, наверно, не развеет время, сокрушенно подумал Статкус. А может, время и не движется, только поворачивается к нам то одной своей гранью, то другой?
– При чем тут моя винтовка? – У Лауринаса сел голос.
– Молчи, старик. Сынок прав. Всю жизнь нам твоя винтовка испортила! – сурово гаркнула на мужа Петронеле, а на сына глянула нежно, с мольбой. – Отец всегда отец, детка… Старый, едва ноги волочит. Не видишь, что ли?
– Кто это едва ноги волочит? Кто старый? Своими руками заработанный хлеб ем, не чужой! – подбоченился Лауринас. – Мне никто «Москвичей» не покупает!
– Один раз купил, сто лет попрекаешь!
– Праниссимо, починил уже машину? – выползла из тени на беспощадно жгучее солнце Ниёле. – Домой! Домой! У меня аллергия начинается… от запахов!
– Без аккумулятора домой? На ведьминой метле? – присел и тут же вскочил Пранас.
Ниёле снова шмыгнула в тень, беспомощная среди крепких запахов, среди грубых, не выбирающих слов людей.
– Не ссорьтесь, дети! – загудела Петронеле, пытаясь всех примирить. – Давал отец и дальше будет давать. Разве мы кого попрекаем? Истосковались, вот почему. И ты, старик, успокойся! – погрозила Лауринасу, который моргал, чуть не плача. Так ждал утра – поговорит с сыном, сделают по доброму прокосу! – Пойду обед приготовлю.
И ушла, волоча за собой тяжесть раздора.
– Так я ничего… Зачем собак на меня вешаете? – оправдывался Лауринас.
– Не сержусь я, чего мне сердиться, но скажу, – не сдавался Пранас, хотя и у него на глаза навертывалась слеза. – Хорошо отцу, когда конский хвост весь мир ему застит. В городе-то за каждый чих плати, за глоток воды! Нервничаю я, батя, пойми. Предложи какую-нибудь работенку, только не косу в руки. Спасибо, во как еще в молодости намахался…
– Если есть порох, вон гора дров неколотых.
– Пока не жалуюсь, пороху хватает. Топор-то наточен?
– Топор, что твоя скрипка. Колоть будешь, как смычком водить.
– Скрипка, смычок… Откуда это у тебя, батя? Ты же никогда музыкантом не был! – уже расползалось в добродушной улыбке широкое лицо сына, больше похожего на мать, чем на отца. – Наездником, говорят, знатным был, бабником, не сердись, тоже неплохим, но музыкантом? Среди нашей родни одна музыкальная знаменитость – моя дражайшая Ниёле.
– Работа, сынок… Когда работаешь с настроением, так и поет она в тебе, музыка. – Глаза Лауринаса прояснились, морщины на лбу разгладились. '– Молодые не умеют ее слушать. Жаль, бригадирша не сажает на «грабли», вот там музыка!
– Ну уж, батя, – проворчал сын, будто от насмешек защищаясь, но в его добрых светлых глазах замерцали искорки восхищения. Невзначай признал, что сам не такой работяга, хотя иногда руки чешутся при воспоминании о прокосах, вместе с отцом проложенных.
– Ладно, давай твой смычок!
Едва пристроился у штабеля между поленьями и козлами, как явилась Петронеле. Губы дрожат, в поднятой руке палка.
– Совести у тебя нет, Лауринас! Ребенок на один день, а ты его пнями завалил. Не слышишь, что ли, как тяжко дышит, городской пыли наглотавшись?
– Вот и полезно потюкать.
– Я сам напросился, мама, – поддержал отца Пранас.
– Полезно? Посмотри на свой горб. Хочешь, чтобы и ребенка скрючило? Ступай, детка, полакомьтесь яблочками с Ниёле.
– У нее от них изжога. Сырых не ест, печеные.
– Мигом испеку. Не слушай отца. Пошли, блинчиками с вареньем угощу.
– Топором помашет – блинчики сами в рот запрыгают! – пошутил Лауринас, разрывая руками надколотое полено.
– Слышите, это отец говорит! Родной отец! Да был ли ты когда отцом своим детям? – Петронеле причитала на всю усадьбу, не обращая внимания на сына, невестку и Статкуса. – Почему на старости лет одни-то остались? Скажи, старик, чего замолчал?
Пранас воткнул топор в колоду, обнял мать за плечи, она утонула в его объятиях, растрогалась.
– Не надо, мама, отца обижать. Какой уж там вышел бы из меня летчик? С машиной и то вот справиться не могу. Хочешь знать, почему из дому ушел? – Он говорил мягко, гладя ее ладонью и взглядом. – Чувствовал себя, как петух с подрезанными крыльями. Улучил момент – и через тын… Сколько таких петушков из деревни улетело, в городах кукарекает. Так надо было, мама. Новые времена, новые песни!
– Слыхала, мать? А ты все меня попрекаешь, – обрадовался изменившемуся настроению сына Лауринас. – Если и виноват, то лишь в том, что только двоих настрогал. Поболе бы надо. Глядишь, и не остался бы один в хозяйстве… Но тут, мать, твоей вины больше. Дети тебе молиться мешали.
– Иди ты, знаешь, куда? – несердито ткнула его своей палкой Петронеле.
Лауринас, хихикая, отпрянул.
– Думал, больными застану. А вы сердитесь, ссоритесь, значит, живы и здоровы! – искренне радовался Пранас. – Может, батя, еще и принимаешь по капельке?
– Праниссимо! Пра-нис-си-мо! – приподнялась было со скамьи и шлепнулась обратно Ниёле.
– Будет тебе капелька, будет! – весело подмигивал Лауринас. – Наколем дровишек, и будет.
…И была капелька – сбереженная для праздника поллитровка. И потому еще большая печаль, что нельзя вернуться назад, где малыш – взъерошенная головенка – и радость, и доверчивость, и самые светлые на свете надежды. Вот он, твой малыш, перед тобою: уже немолодой, крупный, располневший мужик, разгоряченный рюмкой и разговорами, с морщинами разочарования на широком добром лице. Приметы не такого уж далекого будущего, не за горами тот день – не дай бог его дождаться! – когда сам станет старым. Торчит клочьями трепаная, шутовская борода и ничего не скрывает, скорее обнажает, и, наверно, нет печальнее доли, чем видеть своего ребенка стареющим и мучительно гадать: а подаст ли ему кто стакан воды, когда сам не в силах уже будет дотянуться дрожащей, никому не причинившей зла рукой… Балюлисы видят в нем себя, и у обоих перехватывают горло жалость и чувство вины, которым не нужны доказательства: главная улика – родные черты этого обрюзгшего, заросшего волосами лица и тени от больших жестикулирующих рук на стене.
– Ешьте, детки, ешьте, – мечется ошалевшая, как ночная бабочка на ярком свету, Петронеле и старается отогнать от глаз лицо сына, столь похожее на ее старческое лицо. Хоть на миг, чтобы вместо бородатого улыбнулось личико с гладкими, как тетрадные странички, щеками. Но ей не удается. Лучше уж не смотреть, думать о том, что посуда на столе не такая, как в городе, глядишь, еще невестка побрезгует… Когда гость переступает порог их дома, старая всегда об этом думает и привычная забота отодвигает все другие. Пранас, не переставая громогласно рассуждать, уплетает сало. Ниёле пытается отодрать вилкой слой жира от кусочка мяса. Совсем не много этого белого – мясцо розовое, ломтик самой лучшей грудинки, какой только удалось отрезать, но невестке мешают есть мухи, вилка с отбитой костяной ручкой. Не косись ты на нее, жуй свое, чтобы не застряло в глотке, ибо невестка, чего доброго, не сдержится, отодвинет тарелку и выбежит. А может, каким-то чудом случится нежданное-негаданное, о чем ты разве что тайком мечтала: вместо того чтобы вежливо поклевывать, оскалит невестка зубки и брызнет искрами слез, жалуясь на большого и доброго мужа, краснобая и недотепу – сущее несчастье женщины, не отшлепаешь его, как ребенка, небось не молочко пьет. Разве она, Петронеле, не женщина, не поймет ее?
– Праниссимо! Забыл свое обещание? Больше никуда с тобой… Честное слово!
– Не пью, Ниёлите, золотце мое! Разве я пью? Так, капельку с батюшкой… Может, последний разок, кто знает? – Он даже не скрывает, что не выстраивает и не планирует свою жизнь, доверяясь неудержимому, не зависящему от человека бегу дней.
Пахнуло сладкой слезой печали, но ее расплескивает сам Пранас, вскакивая на ноги.
– Ну, батя, ты у нас молодец! Дай ус. Думал, сидишь себе, как сноп соломы, а ты нет, какой фортель выкинул: породистую собаку сторговал! Не знаешь, может, сучку привезут? Принесет потомство – деньгу зашибешь! Ныне пошли времена фокстерьеров!
Времен фокстерьеров Статкус проглотить не может. Благодарит за ужин и смывается во двор – проветриться. И чего это Елена там застряла? Не дождавшись ее, возвращается в горницу, нетерпеливо постукивает каблуками вокруг стола. В расстроенных чувствах натыкается на кровать Шакенасов, днем на нее даже глядеть не хочется. Наконец – кажется, целая вечность миновала! – раздается Еленин смех. Помолодевшая, в редко надеваемом белом платье, чуть-чуть хмельная от гомона застолья.
– Ну и свинтусы же эти Балюлисовы дети!
Смех Елены дробится, утихает.
– Что с тобой, Йонас? Вроде бы не пил.
– Со мной-то ничего. А вот что с тобой?
– Мне, представь себе, весело. Дождались-таки своей радости наши старики.
Однако уже ни в голосе, ни в глазах никакого веселья.
– Дождались! Эта фарфоровая кукла Ниёле, как она вилкой-то в тарелке ковыряла! И недотепа ее Пранас смеет еще отца упрекать, мол, не оборотистый! Не обольщайся, под шумок снова лапу протянет – дай еще!..
– Свой же ребенок, не чужой.
– Разве теперь дети? Мы-то ради своих от чего угодно отказаться могли, – гремит Статкус, словно на стройплощадке, где плохо слышно от грохота механизмов. Но сам чувствует, что возмущен не столько молодыми Балюлисами, сколько Еленой, хитро разрушающей обычное его поведение и ход мыслей.
– Кто отказывался, а кто…
– Ты уж, пожалуйста, без обиняков!..
– И ты не в казарме или на производственном совещании.
– Что ты сказала?
– Что слышал. Кому-кому, а тебе помалкивать бы…
Лицо Елены, только что молодо светившееся, грубеет и твердеет. Потрешься о такое, щеки обдерешь. А ведь была, была уже такой заледеневшей. Не тогда, когда хоронили отца, Еронимаса Баландиса, нет. И не тогда, когда он, Статкус, возвратился домой какой-то пришибленный, не признав средь бела дня своего лучшего друга… Тогда ни слова упрека: несчастному, полуживому готова была все простить, смотрела нежно, любовно. А тут – жестокая, толкающая в бездонную пропасть. Хотелось спрятаться, нырнуть в старую, давно сброшенную шкуру, от которой давно отвык, как от поношенного костюма, завернутого в газеты и забытого на гвозде. Так непримиримо выглядела Елена лишь однажды, когда постучался в их двери мальчик-несчастье. Ни в чем не виноватый мальчишка, вместо него на лестнице могла топтаться перепуганная женщина, старуха с красными от бессонницы глазами, загулявший, опоздавший вовремя возвратиться домой мужчина… Наконец, несчастье могло явиться в образе растерянной девочки, в каком хотите любом другом обличье, однако почему-то выбрало этого мальчика. Нормальный паренек – желтая майка «адидас», под мышкой в полиэтиленовом пакете ракетки для бадминтона, но глаза помертвевшие, залитые сероваточерной ртутью. А может, он сам, Статкус, был не в норме – перебрал в загородном ресторане с гостями из высокой инстанции: на волоске висел важный проект… И все-таки сразу не понравились, насторожили эти глаза съежившегося, дрожащего мальчишки. На что ни глянут – на перила, на дверной глазок, на твои, еще пахнущие травой загородного парка туфли, – все отвечает им мертвенным блеском. Екнуло сердце, будто выпорхнула, вырвалась из него на волю стайка трепещущих крылами пичуг, и крылья эти бились, царапали горло. Статкус даже не сразу сообразил, что задыхается. Что ему надо? Кто такой? Братишка Лины – подруги вашей Неринги! На мгновение меркнет разум. Неринги, его Неринги нет дома? Ночует где-то в другом месте? И от него это скрыли? Надо схватить, втащить мальчишку в квартиру. Но ведь это страшно, это значит впустить в дом несчастье – оно зальет пол, стены, вещи! На шум в прихожей появляется Елена. Смотрит на них и молчит. Шершавое, заиндевевшее бревно, а не жена, не мать его девочки. Какое отталкивающее лицо! Он, Статкус, бесконечно одинок, одинок, как когда-то прежде, нет, еще более одинок – лицом к лицу с несчастьем, которое не умещается в недетских глазах паренька. Хрупкий, большеглазый – и внушающий ужас? Заплатить ему любую цену, задобрить, чтобы серебряная чернь ртути не застыла узенькой траурной рамкой на последней полосе вечерней газеты! А Елена все так же безразлично чужда, хотя это ее долг, долг матери, расшевелить, обласкать мальчишку. Немо молчит, словно заранее знает судьбу Неринги, словно уже примирилась с ней. Приходится самому суетиться вокруг вестника беды, умасливать его, стараясь понять изгоняющим алкогольную эйфорию мозгом, что могут означать эти ракетки для бадминтона, не одна – две?! И нераспакованные, в целехоньком полиэтиленовом пакете? Зачем они? Орудие пытки? Малец и не соображает, что у него под мышкой, так не осознает змея, как смертелен яд ее жала. Сестра с Нерингой заперлись в спальне родителей, и он принялся бить ногами в дверь, тогда двери приоткрылись и в щели появилось это, новые ракетки в прозрачном пакете. В спальне родителей? А где же родители? Ах да, это же известно: мать Липы контролер на каких-то линиях, она вечно в командировках, а отец… Отец часто ночует у соседки-стенографистки. Я плакал, не хотел брать ракеток, а они успокаивали, целовали, только чтобы не мешал… не звал никого до утра. Лжец, гнусный лжец, а не честный перепуганный братишка какой-то одуревшей девки! Как же могли они тебя целовать, они же заперлись в спальне? Статкус, словно клещами, вцепляется в худенькое плечо, выпирающее из-под майки «адидас». Одурел? Кости ребенку переломаешь! Голос Елены, а губы не шевелятся. С ума схожу? Сам за нее говорю? Отвечай! Или… Не угроза, зубовный скрежет. Лина, Лина вытолкнула Нерингу… И та меня целовала, просила… Потом снова заперлись, маг пустили. Кого, кого пустили? Кто там еще с ними прятался? Отвечай! Магнитофон… Господи, как ужасно – и что сама Лина не вышла к брату, и что загремел магнитофон, а самое худшее – эти ракетки, новенькие, заранее приготовленные… Пичуги стая за стаей – точно скворцы из вишенника – вздымаются из неуспевающего сжиматься сердца, Статкус начинает отставать от паренька, они уже бегут. Давно бегут? Он, Статкус, мог бы легко обогнать этого хрупкого слабака, однако приходится передвигать не ноги – чугунные гири, язык не умещается во рту… А ведь целые полгода, до самого мальчика-несчастья, ему было так легко наслаждаться невесомостью. И работалось легко: играючи мотался по объектам, радостно и беспечно улыбался сотрудникам. Словно вознаграждал себя этой легкостью за вечную озабоченность, постоянное самоограничение. В конце концов, самому себе служил доказательством собственной мужественности. Освобождавшегося от множества забот и трудов, ждала его женщина, перед которой он не ощущал себя виноватым за то, что не стал художником или не обратился в мировую совесть. От не слишком уже юного не требовала чрезмерной молодости, не вызывала и отцовских чувств, хотя была молоденькой женщиной, вернее, девушкой, едва закончившей инженерно-строительный… Ничего, ничего не требовала от своего седого юноши, а вот сейчас душат петлей на шее пахнущие миндалем волосы – длинные волнистые пряди! – и не собираются отказаться от своего права: цепляться, лепиться к нему, быть там, где он, даже сейчас, в эти страшные мгновения, когда он скрежещет зубами… Нет, прочь! Прочь! А перед ним скачет мальчишка с ракетками для бадминтона, самыми жуткими орудиями пытки…
Зеленый огонек такси – остановится? – нет! – верно решил, что на середину проезжей части выскочил пьяный или преступник. Статкус закричал. Исчез, пропал, испарился запах миндаля, больше не щекотали губ, не лезли в легкие золотые нити… И словно не было той очаровательной девицы, ради которой стригся под ежик, чаще менял рубашки; больше не слышал ее милого – мой седой юноша! – ничего не требовавшего от него, тем более оставить семью! Всем своим изломанным, будто раздавленным тем такси телом он вдруг ощутил, что секунду назад отсек, отрубил от себя какую-то часть, не только приятные уик-энды, не только мгновения мужской страсти. И еще пронзила его мысль: ни в каком силуэте, походке, запахе женщины никогда больше не станет он искать той, неосуществленной, так не хватающей ему, никем не заменимой Дануте-Кармелы, грудь которой осталась для него недостижимой, как белые и чистые льды Арктики или Антарктики…
Молниеносно исчез сковывавший чугун, ноги, легкие и сильные, понесли вперед, в несколько прыжков обогнал беднягу мальчишку, да, беднягу, ибо паренек даже не представляет себе, каким был ужасным. Взлетел по лестнице бог весть на какой этаж, ворвался, как в свою, в чужую квартиру, могучим плечом высадил дверь спальни, потребовалось, голыми руками разрушил бы, разметал по кирпичику весь этот дом. Подушечки на ковре – по одной для каждой погруженной больше чем в сон девичьей головки, пустой флакончик из-под духов «Красная Москва». Спаянные общим горем десятиклассницы решили больше не жить, готовились к смерти, точно к празднованию дня рождения: парадные платья, духи, ракетки для бадминтона – подарок раззяве братцу. Кто же он, если не раззява, этот смертельно перепуганный младенец? Извини, паренек, что ненавидел тебя, словно саму смерть, извини! Красиво лежат обе в душистой полумгле – смежившие очи королевы из банальной сказки, только в сказках никогда не бывало бок о бок двух трупов. Трупов? Всех таблеток, неизвестно где взятых, они не осилили, половина рассыпалась, раскатилась по ковру, так бы и давил их, словно расползшихся скорпионов. Только что пожертвовал Статкус частью самого себя, тело еще продолжало кровоточить. Что еще оторвать, отсечь, чтобы дрогнули слипшиеся веки Неринги? Лина тихонечко поскуливает – будет жить. Пав на колени, Статкус тормошит, трясет Нерингу, дергает ее безжизненно откинутую руку, пока издалека, чуть не из-под земли, не доносится слабый стон, изо рта выхлестывается пена, заливает ее красивое платьице…








