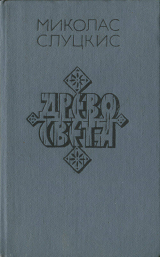
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Эй, батя! Это что за бабенка?
Новая порция перегара забила ноздри. Статкус сердито взглянул на клонящуюся в его сторону глыбу и притворился, что внимательно смотрит на экран. И раньше-то мало что соображал, а теперь и того меньше. Может, заснет?
– Кто она, а, мужик? Да не бойся, не съем, – сосед не собирался спать. Даже попробовал встать, плюхнулся обратно, выругался и уложил тяжелую лапу на плечо Статкуса.
– Что вам надо? – Статкус нервно сбросил его руку. Уже многие годы не доводилось сталкиваться нос к носу с подобными субъектами, почитай, с тех пор, как ездил в родные края.
– Жена, спрашиваю, или… подкадрил? – плечом и настырным шипением напирал парень, энергично обдавая его запахом смеси разнообразнейших напитков. Как ни выкручивай голову, хоть шею сверни, не избавишься от ядовитых паров. Волна за волной накатывала, душила тошнота. Статкус почувствовал: долго не выдержать, задохнешься, не успев сообразить, в какое дурацкое, почти иррациональное положение попал, уверовав в искренний порыв дочери. Рядом с каким-нибудь завсегдатаем кино пьяный наверняка бы блаженно уснул. А тут… Разве твоя вина, что его будоражит одна-единственная, ни на мгновение не отклоняющаяся в сторону мысль?
Трезво подумалось: ответить, что рядом дочь. Пьяного молодца бесило, что старик подцепил такую молоденькую чувиху, кажется, так называют они девушек. Такое уже случалось. Как-то Статкуса едва не избили на Зеленых озерах[9]9
Место отдыха в окрестностях Вильнюса.
[Закрыть], где прогуливались они с пятнадцатилетней Нерингой, а вслед за ними тащились занюханные длинноволосые юнцы и громко возмущались лысыми кобелями, уводящими самых хорошеньких девочек. Тогда он улыбался, настроение было лучезарное, а тут тяжело жмет сердце и мутнеет в глазах. Бросить, мол, дочь – нетрудно, но нализавшийся тип может решить, что это со страху. Ну уж пет! Чего никогда не было, того и сегодня не будет.
– Тише, – прошипел он и приложил палец к губам. – Вы в общественном месте, гражданин, не дома.
– Чего? Ты у меня пошикаешь! После кино встретимся… – Сосед отпрянул, словно его за шиворот дернули. Разумеется, недалеко, их локти соприкасались.
Во всем огромном зале нечем было дышать. Стучало в висках, в горле, в кончиках пальцев, словно у него, Статкуса, было множество маленьких, слабосильных, спешащих друг другу на помощь сердечек.
– Что с тобою, милый? – Неринга обернулась к нему, разинутый ротик ловил воздух. Глянула на соседа, который уже храпел, откинув голову. – Хи-хи-ха-ха!
– Смеешься… Тебе смешно?
Сжал зубы, чтобы не застонать. Болело сердце. Болела душа. Теперь Нерингу веселили не дурацкие кадры, насмешило глупое положение, возникшее в их девятнадцатом ряду, развеселила его растерянность, вернее, старомодное чванство. Показалось, что отец упорствует из упрямства, не желая пойти на компромисс с другой, несколько более грубой средой. Испортит наивную, ее самое смутившую игру – посидеть вдвоем в кино, как уже, может, никогда больше не доведется сидеть. Ни на йоту не отступит от своих принципов, от иллюзии порядочности. Согласен сидеть в кино, как в зале заседаний? Но, скажите, какое же кино без людей, без глупого хихиканья, без… приключений?
– Ну, милый. Ну, не хмурься! Скоро потопаем домой. Хи-хи-ха-ха!
Снова ее прохладные пальчики, на сей раз на влажных, слипшихся от пота волосах. Он бы обрадовался, даже, может быть, удалось бы глотнуть воздуха, но дочь смотрела не на него. Забыв об искрящемся экране, разглядывала храпящего соседа. Это был взгляд женщины, оценивающей мужчину – не так уж плох! – а не дочери, кипящей от негодования. Проследив за ее взглядом, он и сам увидел: рядом никакой не голиаф – современно одетый рослый парень. Кожаная куртка, джинсы, словно спутанные ветром ржаные волосы. Постричь бы его, причесать… Фу, конечно, набрался, но не так уж плох, а, папа? В глазах дочери, встретившихся с его глазами, мелькнуло некое неодобрение или что-то другое, чего он не понял. Нежность? Пожалуй, нет. Невесть что мерещится в этой духоте и мельтешне мерцающего света. А может, девочка права, не надо обращать внимания: ну, перебрал парень. Кто в молодости не переоценивает своих силенок?
Статкус вновь окунулся в пестроту экрана, кто знает, когда опять попадешь в кино? «Порше» метался по дюнам, напоминавшим Ниду, выписывал восьмерки. Калифорнийские пальмы, золотой песок пляжей… Золото и ультрамарин, хоть горстями черпай за свой полтинник. Любопытные вещи случается увидеть на экране, подумал Статкус, но, не успев улыбнуться, вздрогнул. Что-то опаляло его огнем, прожигало насквозь. Что это? Откуда? Искра, усилиями духа и тела высеченная, жуткий взгляд сбоку – почти вплотную, кажется, вот-вот капелька пота из чужих пор переползет тебе на висок, покатится по щеке. Пробудившиеся, прорвавшие пелену опьянения глаза упорно стремились понять, почему им приходится буравить чей-то морщинистый седой висок, чтобы пробиться к пока неясной, манящей цели. Что это там? Бурав взгляда соскользнул с чванливой физиономии, ткнулся в сочные – хи-хи-ха-ха! – смеющиеся губы. Вот она, цель! Девчонка – люкс, а кадрится с этим бухгалтеришкой или докторишкой, который еще осмеливается учить его, как сидеть в зачуханном кинозале…
– Ты? За дверью встретимся! – почти дружески подмигнул, нашел наконец способ, как разрешить недоразумение.
Неужели такому… придется бить морду, чтобы защитить честь дочери? Покосился на широкие плечи, кулачищи на коленях, потом на Нерингу. Ее одновременно занимали два фильма – один на экране, второй здесь, совсем рядом: к отцу пристал и выпендривается славный, хвативший лишку парень. Хи-хи-ха-ха! Жаль, папа принимает все слишком близко к сердцу, поэтому ее лапка, рука бывшей лучницы, сочувственно похлопывает его по колену. Он дрожал от гневного напряжения.
Загорелись люстры, зрители засуетились, казалось, готовы снести стены – скорее бы вырваться отсюда к своей будничной жизни. Поднялся и Статкус – лицо побелевшее, сердце стучит с перебоями. Слава богу, больше не увижу этого распаленного кинолюбителя, вздохнул он, когда в распахнутые двери хлынул мощный сквозняк. Уже десяток шагов отделял Статкуса от устья зала, от сулящего бодрость и влагу неба, от спасительных, как и он, истосковавшихся по дождю лип.
– Не смоешься. Я же предупреждал, побеседуем наулице! – послышался злорадный шепот. Парень одним прыжком загородил путь – предусмотрительно намеченный им путь к отступлению, выход в левые двери. Теперь им с Нерингой придется двигаться вправо, в направлении, почему-то выбранном его противником, проталкиваться, слыша за спиной его сопение.
Сердце забилось, куда-то нырнуло. Ноги – свинцом налитые. Не от страха. Ничего на этой земле Статкус не боялся, хотя не был уже таким смелым, как в молодые годы. Грубая сила помышляла сломить его, превратить в избиваемый кулаками манекен только потому, что рядом оказалось свободное место, потому, что какому-то нализавшемуся наглецу взбрело в голову заглянуть в киношку, когда он – раз в сто лет! – явился туда с дочерью. Самое худшее, что эта бессмыслица происходит на глазах девочки, той самой девочки, которой в детстве снился «Стрелец» Чюрлёниса, а ныне она готова лопнуть от смеха, не чувствуя ни малейшей тревоги, даже не думая о его больном сердце. Страха Статкус не испытывал, но не покажется ли он действительно смешным с размахивающими руками, в то время как крепкие кулаки будут профессионально дробить ему челюсти? Слава богу, противник пьян. Мелькнула надежда каким-то образом обвести его вокруг пальца, а если не удастся избежать столкновения, ударить так, чтобы тот потерял равновесие. От этой перспективы, графически четко возникшей на потухшем экране, подогнулись колени, Статкус приостановился и, пропуская поток, приник к откинутому сиденью. Словно бы попал в нишу. Его маневр, вопросительно приподняв плечико, повторила Неринга. Не ожидавшего такого поворота событий парня по инерции пронесло мимо, пространство между ними тут же заполнилось народом. Какое-то время он маячил впереди, громко и удовлетворенно что-то бормоча. Ведь он отрезал жертву от ближайшего выхода, теперь не уйдет! Гениальный план, если учесть степень его опьянения…
Но вот кожаная куртка втянулась в устье дверей… Не успеешь и глазом моргнуть – исчезнет, как мыльный пузырь. Увы! Напрягся, угрожающе покачиваясь из стороны в сторону. Сейчас повернется и в два прыжка восстановит прежнее положение, когда гнал их, как рыбешек в вентерь, наслаждаясь их беспомощностью. Статкус лихорадочно искал выход: закричать, позвать на помощь? В толпе явно нашлись бы защитники, но каким ничтожным покажется он своей девочке, вопя во всю глотку! Малышкой на все вопросы о том, кто бы мог сделать то или иное, без раздумий отвечала: папа! Ее папа по утрам, как все папы, торопился на службу, но по вечерам под его кисточками возникали дома, дороги, коровы. Папа заново создавал мир, значит, с легкостью может сделать все, что пожелает ее маленькое чуткое сердечко. И Статкус решился: рванул вперед, дрожащими руками ухватил ненавистные кожаные плечи. Толкнул изо всех сил… Звеня, покатился по ступенькам портфель, следом за ним, изрыгая проклятия, тяжелое тело… В глазах темно, только бьют во тьме молнии, грудь разрывается от боли. От удара болело бы меньше.
– Хулиган! Где милиция? – истерически завизжала какая-то женщина.
– Давай удирать, папа! Фирменно приложил! Законно врезал! Хи-хи-ха-ха! – Праздновать победу было некогда, сейчас сбитый с ног очухается и, взбешенный, бросится искать обидчика. Они бежали по громыхающему полу опустевшего зала к противоположному выходу, прошмыгнули в уже притворенную дверь. По улице торопились прохожие, сновали автомобили, приближался зеленый огонек. Стой, стой! Такси проехало. Ну и бог с ним! Статкусу вдруг захотелось продолжить приключение, в мозгу зароились мысли, о существовании которых, давно распрощавшись с риском, он и не подозревал. Внезапно обрел смысл и целесообразность путаный кроссворд улиц. Опасность уже не держала за горло, растаяв, слегка кружила голову, нашептывая всякую чушь. – Теперь я снова верю, папа, что ты ездил на крышах вагонов. Я горжусь тобой!
Слова дочери были для Статкуса, как капли дождя для иссохшей земли, но в тайне от Неринги он все-таки посасывал нитроглицерин. Разве потерянное вернешь? Да еще таким безжалостным способом, вырывая сердце из грудной клетки? И все-таки отцы, теряющие взрослых дочерей, тащите их в кино, годится любая дрянь, своя пли зарубежная!
Так было или выдумываю, приукрашивая прошлое? Было! Так или несколько иначе, но было. После целого месяца надежд, хрупких и неуловимых, как все надежды, когда казалось, что я вновь обрел своего Нерюкаса – свет моих очей! – впорхнула дочь. Красивая, сияющая, пахнущая сиренью. Не буйной летней – той, что зацветает еще в зимние морозы, одной веточки ее достаточно, чтобы ты уверовал в совершенство человека и природы.
– Валдас! Ну, Валдас же! Это папа, будьте знакомы. Впрочем, вы, кажется, и так знакомы? Хи-хи-ха-ха!
В дверях переступал с ноги на ногу давешний любитель кино: кожаная куртка, джинсы, модная прическа. Не такой огромный, каким показался в давящей темноте зала. И не такой грозный. Похожий на сотни и тысячи фирменных парней.
– Ну, папа! Ты ведь разъяренного быка не испугался, а тут перед тобою барашек, постриженный и причесанный. Что ж ты потерял дар речи?
Сердце Статкуса на мгновение остановилось.
– Ну, что с тобой? Не бойся, отныне он будет лакать только лимонад и минеральную. Слово, Валдас?
– Yes! – тряхнул Валдас общипанными космами.
– Слышал, папа? Слово его, как гранит!
От невидимого землетрясения должна была бы сорваться люстра или дать трещину панель перекрытия. Однако ничего, абсолютно ничего не произошло.
– Примите мои покорнейшие извинения, эсквайр! – осклабился Валдас, и лицо его стало почти приятным. Широкие ноздри, в непрячущихся нагловатых глазах искорки разума.
– Не удивляйся, папа, Валдас не грузчик, проливает пот в реставрационных мастерских. Один год изучал английский, – прокомментировала Неринга и, конечно, рассыпала свое хи-хи-ха-ха.
Статкус разинул рот – что сказать? – забыл самые простые слова. Имя дочери забыл. Кто она, эта скалящая белые зубки девица, сошедшая с рекламного плаката?
– Не стой столбом, поздравь дочь, – сказала Елена, и он вспомнил, кто эта белозубая.
– Вот и хорошо, папа, что ты не устраиваешь трагедий, – поспешила суммировать его первые впечатления Неринга и вдруг, пусть на мгновение, ошарашила необыкновенным сходством с Дануте-Кармелой, возможно ли большее кощунство? – Ни с человечеством, ни с родным нашим краем никакой катастрофы не произошло, не так ли? Остается мне лишь официально объявить: Валдас будет жить в моей комнате. Он беспрерывно дымит, но все мы любезно попросим его оставить дурную привычку, и он согласится. Бросишь курить, милый? Хи-хи-ха-ха!
– Только через мой труп! Только через мой…
Он хотел повторить еще и еще раз, чтобы поверили в непоколебимость решения, но дрогнул потолок. Пришел в себя среди белых стен, белых халатов, белых лиц.
– Только через мой… только… через… мой…
Не слишком связно, зато понятно.
Стучали, падая на землю, яблоки, но не свидетельствовали ни о всемогуществе природы, ни о вечной ее жажде обновления с помощью созревшего и сорвавшегося с ветки плода. Статкус слышал, как ворочается от этого стука Балюлис. Пока не сморит сон, будет пощипывать брови и раздумывать, куда девать яблоки. Соберешь в кучу – гниют. Чернуха жрет, но не столько же. Не раздадутся ли за окнами какие-нибудь иные звуки, вслушивался Статкус. Иногда лосиха приводит лосенка в бураки или похрюкивают кабаны, лакомясь картошкой. Никаких звуков, кроме ударов падающих плодов. Распад… Деревья, словно кто их заставляет, спешат избавиться от лишней ноши. Кто-то и с тебя сдирает кожу и мускулы вместе с одеждой, отбирает куски жизни. Одно, другое мгновение – и ты уже будешь лежать нагой, обрубленный, как тот человек на пляже в Паланге…
…Высокий, прямой, в немного вызывающем под летним-то солнцем темном костюме. В руке палочка, но, вероятно, так, ради щегольства – помахивал ею, а песок попискивал под твердыми и словно вбиваемыми в землю шагами. Вдруг остановился, аккуратно опустил у ног поблескивающую никелированными застежками импортную сумку. Подчеркнуто четко нагнулся, расстелил полотенце. Широкое, в крупных желтых и красных маках. Палка воткнута в песок, на нее повешена соломенная шляпа, в шаткую ее тень брошены блеснувшие на солнце темные очки. Теперь черед хорошо пошитого пиджака, по складочке уложены брюки, поверх брошены яркие, в цветных ромбиках носки. Угловато, все так же не сгибая опины, опускается на песок, не обращая внимания на снующих туда-сюда голеньких, визжащих детишек. И, покосившись на собственную тень – толпа курортников ему по-прежнему безразлична, – начинает отстегивать правую ногу. Несколько привычных движений, и – нога в руках, неживая, блестящая, отражающая солнце. На том же ярком, веселом солнечном свете оказывается и корявая культя… Что еще отстегнет этот вдруг уменьшившийся человек, составленный из отдельных частей, некогда, вероятно, до войны, бывший здоровым и неделимым, как все люди? Пока Статкус стоял, парализованный увиденным, его не покидало ощущение, что человек может отстегнуть голову, положить ее на колени или на кучку одежды. Он машинально даже ощупал свое тело, проверил, на месте ли все его части. Не сомневался, что и сам обрублен, живо представлял, как пальцы вдруг провалятся в пустоту, еще помнящую упругость мускулов…
– Ничего не слышишь? – шевельнулась рядом Елена.
– Что? Где?
Он все стоял на том мрачном пляже, а она прислушивалась к боковушке. Стоны! То едва слышные, то раздирающие голову и сердце. Казалось, за стеной умирает человек и никто не наклоняется, не спрашивает, что с ним.
– Сон какой-то видит. – Ему хотелось, чтобы это было сном.
– Страшный, если это действительно сон.
– Разбуди-ка, Елена, капель каких-нибудь дай.
Сам не двинулся. Казалось, встанешь и упадешь: вместо ног пустота.
Елена поднялась, завозилась у двери. Щеколда. Повсюду эти щеколды Матаушаса Шакенаса. Сам кузнецу заказывал, сам ковать помогал. Их бряканье мертвого бы подняло, но то ли сон, то ли не сон Петронеле не нарушило.
Голос Елены. Зовет далеко ушедшую вернуться:
– Хозяйка, а хозяйка! Слышите меня? Хозяйка!
– Не на-да! Не на-ада!
– Лекарство подать?
– Не на!.. Кто тут? Ты, что ли, дочка?
– Плохой сон приснился, матушка? – Ласковый голове Елены, что живительный предрассветный ветерок, раскачивающий тяжелую, облитую росой ветку. – На левом боку заснули, вот и привиделось.
Слышно, как, обняв Петронеле, помогает ей повернуться на другой бок.
– Все одно и то же снится, доченька. – Нежность старухи необычна. – Всю жизнь одно и то же. Вроде бы наша усадьба, и кусты, и деревья, да только подует ветер, сомкнутые ветви расходятся, и вижу: притаились в кустах, винтовки рядом сложили. Белый день, куры по двору бродят, а они подстерегают…
– Кто… они?
– Да эти вот, с винтовками! Сидят, выжидают. Зайдет солнышко – выскакивают и шасть внутрь…
– В избу? – У Елены пересохло во рту.
– На сеновал, в кухню, в хлев. В горницу набьются. Шкаф нараспашку, обои со стен дерут…
– Зачем?
– Как зачем? – удивляется Петронеле. – Жеребца Жайбаса им подавай!
– Так ведь у вас к тому времени Жайбаса-то уже не было? – Елена забывает, что ей рассказывают сон.
И Петронеле тоже забывает.
– Где там, еще в самом начале оккупации реквизировали. Мы двух лошадей держали. Жайбас, конечно, уже не тот был, но в работе незаменимый. Нам старую кобылу оставили, а жеребца увели. Мол, ограбленному большевиками хозяину. Старику квитанцию сунули, что забрали…
– А тем квитанцию не показывали?
– Как же! Только не помогло. Утаиваешь! Коли не жеребца, то Волка своего. Упрут винтовку в грудь и… – Слышно, как шарит ладонь Петронеле, ловит руку Елены и прижимает к хрипящей груди.
– Во сне, значит?… – пытается Елена вернуть Петронеле к разговору о снах. Может, там меньше ужасов, чем в жизни?
– Не разберу, милая. Стара стала, все в голове путается. Видеть видела, а вот когда да где, да что, не помню. Кажись, дуло это мне наяву в грудь наставили. Лауринаса – к стенке, и меня гонят, показывают, чтобы рядом на колени пала… А тут – цок-цок! – прискакал Жайбас. Винтовки-то – пиф-паф! Жайбас с копыт… Жуть, горло перехватило, у него из брюха, как из бочки какой, собака выкатывается. Кричу: да не наша эта! Нашего уже застрелили! А они животы надрывают от хохота и ну палить по собаке… А тут Казюкелис наш, мертвый, без кровиночки в лице, к нам через поле руки тянет…
– Сын?
– Старшенький, доченька, старшенький. Его и искали, все вверх ногами переворачивая. Не Жайбаса, не пса, не винтовку ту проклятую – его! Теперь хорошо помню. Все помню. И одни ищут, и другие ищут, – снова уже не про сон окрепшим, будничным голосом, не таким подавленным, но не менее скорбным повествует старуха. – Тихий, боязливый, все пичугам скворечники ладил, где уж ему с винтовкой-то шастать? Выдумка Лауринаса, гордыня его та винтовка!
– Недавно рассказывал, что утопил…
– Утопил! Как змеюку поганую, утопил. А кто поверит? Кому докажешь, что выбросил? Хоть из-под земли достань, а подай! Головой отвечаешь! Если не сам, близкие твои… ребенок.
Снова о ребенке, о Казисе, которого нет и который, может, только потому лучше всех, ближе материнскому сердцу.
– Почует, бывало, этих, с винтовками, и опрометью в лес! Через поля, луга, реку. Никто ничего еще не знает, а он: пойду, мама, погуляю. Прихватит краюху, сала кусок и прямиком к реке. Легок на подъем был, но как-то раз обмишулился – не выплыл. В водоворот угодил, закрутило, занесло под колоду. Вместе с ней и вытащили. Не поверишь, дочка, обрядили, как живой лежал, словно прилета грачей ожидая… Белый-белый, волосики льняные… Красивый!
Красивый. Сказала, точно припечатала. Красивый. Богатство, удача, здоровье – все меркнет перед красотой, которая и примиряет с потерей, если вообще возможно с ней примириться.
– Иди, доченька, иди ложись. Подремлю чуток. День-то не задержится, развиднеется – вставай.
– Вы все-таки таблеточку валидола пососите. Что было, то было. Не вам одним довелось… Теперь что, теперь люди и ко сну спокойно отходят, и встают без страха. Другие-то вон и знать ничего не знают про то, что было… Было – не было. Где-то, с кем-то… – утешает Елена, прикрывая одеялом, думая уврачевать словом открытую рану, долго скрывавшуюся за суровой нахмуренностью бровей, за постоянным ворчанием и покрикиванием. – Живете, никому ничем не обязанные. Это ведь счастье, матушка, дождаться старости там, где свет увидел, рос…
– Кто перечит? Могли бы жить. Да все старик мой, гордыня его. Поперву Жайбас, потом Волк несчастный… А нынче вот настоящего дьявола, Люцифера лютого, вместо собаки завел. Ну зачем он нам? Ох, чует сердце, накличет он беду на нашу голову.
– Это маленькая-то собачонка?
– Не говори так, дочка. Я ему хлеба с маслом, а он – клыками!
– Глупый щенок. Привыкнете. Живое-то существо, оно всегда живое.
– Ладно. Иди-ка ложись. Весь день на ногах, и ночью тебе покоя нет… Иди! – Петронеле окончательно избавилась от кошмара.
По молчанию Йонаса, по тому, как заботливо подставляет он плечо, Елена понимает: слышал. Не сдержавшись, тихонько всхлипывает, поминая собственные потери. Самая горькая – сестра Дануте, не любившая своего имени, требовавшая, чтобы называли Кармелой. Ее, как и Казюкаса, вытащили из заболоченного озерца, в котором окрестные жители топили котят. Никаких следов насилия, сама забрела, привязала на шею камень и шла до тех пор, пока, как говорили люди, зыбучий ил не затянул на дно. Не просто с обезумевшими глазами кинулась: надела праздничное материнское платье – темно-синие горошины на белом поле, глубокий вырез на груди, вплела в волосы красную ленту. Светлая и красивая, отражалась она в воде, окруженная белыми облачками. О чем думала, когда брела по топкому дну, разгоняя пугливых рыбешек?
По лицу Елены пробегает судорога боли – ведь обещала себе не огорчать Йонаса, и она рукой отирает лицо. Лучше не рассказывать ему, почему сестра покончила с собой.
До тошноты опостылело Кармеле переходить из объятий в объятия под отвратительное бульканье вонючего самогона. И еще пугала возможность подхватить дурную болезнь. С минуту Елена беззвучно рыдает, хоть глаза ее сухи; кладет ладонь мужа на свой пылающий лоб.
– Скажи мне «мамочка», и я успокоюсь.
– Вроде неудобно как-то.
– Хочешь, чтобы завыла в голос?
– Ну хорошо, мамочка, давай спать.
Повернулся на спину, хрипло вздохнул, словно проваливаясь в сон. А в голове бились давно осмеянные мысли: разве Кармела совсем не любила меня? Ни в начале… ни под конец? А может… только меня одного? Может, и ушла из жизни, чтобы не погубить меня? Вдвоем погибли бы… А сейчас? Сейчас каждый сам по себе…
– Спи… Зажмурился, но не спишь. Когда уж там что было. – Елена провела ладонью по его потному лбу.
– Когда было? Ведь сама мне постоянно внушаешь, что все еще есть. А что есть? Мамочка-то, знаю, промолчит. Может, Олененок отважится?
– Ох, как не хочется тебя расстраивать. Кармела ждала ребенка. Очень не хотела его.
– И ты знала?
– Да.
– От кого?
– Разве важно? Она и сама не догадывалась, от кого.
Он сел, ловя воздух открытым ртом.
– Тебе не кажется, что ты… я… все мы виноваты перед ней?
– Я никогда по-другому и не думала. Спи, Йонялис!
Так и не удалось Статкусу заснуть, из каморки хозяина плеснуло наружу электричество. Слизнуло черное покрывало со словно облепленной желтыми комьями «антоновки». Затявкала собачонка, вначале испуганно, будто ее пнули, потом стервенея все сильнее. Свет тут же белой кошкой скользнул вниз, дерево вновь почернело; зазвякали щеколды – одна, другая, заглушая обычные шорохи старого дома. Хозяин сполз со своего узкого ложа – топчана времен Матаушаса Шакенаса, – выбросил щенка прочь. То ли человеку что-то приснилось, то ли собаке?
Обрадовавшись, что появился предлог прекратить объяснение, Статкусы тоже выбрались во двор. На скамье, сгорбившись, сидел Балюлис, подпирая кулаком голову. К ножке скамьи жалось кудлатое, испуганное, не меньше хозяина растерянное существо.
– Только закроешь глаза, клацает зубами. Точно железкой о железку лязгает. Весь сон разогнал.
– Страшно в чужом-то месте. Его же по-городскому растили, – вступилась за собаку Елена.
– Чего ему тут бояться? Ну, яблоко оземь ударит, пичуга сквозь сон пискнет. В городе-то беспрерывно грохочет, – не согласился Лауринас.
– Может, твердо ему спать?
– Два мешка подстелил. Человеку и то удобно было бы. Хлеба с маслом не взял, на Петронеле кинулся…
Не изнеженность собаки волновала Балюлиса, а Петронеле.
– Кричала… разбудила вас, я-то слышал. Завсегда так, увидит что во сне и – ну вопить. Собачонки испугалась. Сроду трусиха. Всего боится: ох, гости нагрянут – не сваривши заранее, пирогов не испекши, чем кормить будем?… и скотины получше не заводи – не прокормим, обожрет!.. или вон дети – как бы в комсомол не вступили… беды не оберутся, как ты, отец, со своей формой стрелка, с винтовкой этой… А ведь когда что было!
Когда было, а не изгладилось и никогда не уйдет из памяти, как трясся он в Абелевой тележке, отворотив голову от яркого солнца. Казалось, и само светило помоями обдали, и над ним темнота человеческая надсмеялась, вознамерившись одним ударом его, Балюлиса, с ног сбить и, как барана перед стрижкой, по рукам-ногам связать. Хуже того, чтобы охолостить, словно норовистого жеребца, чтобы забыл ржать да скакать, чтобы обратился в такого же домоседа, как все они, Шакенасы, как Петронеле его, что от дома и на три шажка отойти не осмелится! Перед его глазами мотался повыщипанный местечковой ребятней куцый хвост клячи, дрожащими пальцами раздирал Балюлис жирную спинку сельди, ломал хрустящую булочку и не ощущал их вкуса. Весь мир – от небесных высей и до густой пыли проселка – провонял помоями. Даже на белого тонконогого жеребенка, резво носившегося по зяби, не поднял глаз, хотя Абель, стараясь развеять его хмурость, заливался, помахивая кнутиком:
– Конечно, другого такого коня, как у господина Балюлиса, не сыскать, но и этот, белошейка, как подрастет, летать будет, ой-ой, как будет летать!
– Не охолостят, так полетит, – горько усмехнулся Лауринас.
– Это так, – согласился Абель.
Лошадка его со стертой хомутом холкой едва тянула, тележку лениво бросало из стороны в сторону. Абель заворачивал то на один, то на другой придорожный хутор. Извините, господин Балюлис, несвежих-то булочек никто не купит, а мука взята в долг…
– Ну и конь у тебя… огонь! – упрекнул Лауринас хозяина, когда тот слишком, по его мнению, долго задержался в усадьбе побогаче – застекленные сени, два ряда туй, ветряной двигатель на мачте.
– Еще бы – чудо, не лошадь! За двадцать пять литов у живодера дохлятину сторговал. А ведь подлечил, поставил на ноги. Только зубов не вернешь. – Абель, как и его кобыла, тоже беззубый.
– Утешил, нечего сказать.
– Ах, господин Балюлис, никогда не бывает человеку так плохо, что не может быть еще хуже. Не знаю, есть ли кто там, – седобородый Абель ткнул кнутовищем в небесную высь, и его покрасневшие глаза вдруг засинели от сияющей голубизны неба, – но, пока человек жив, здесь вот, – он прижал кулак с кнутовищем к сердцу, – здесь что-то есть, что-то трепыхается… Человека можно унизить, растоптать, но здесь все равно будет что-то биться, подниматься вверх вместе с жаворонком… Но, дохлятина!
Это вот биение сердца, это стремление вверх и осквернили в Балюлисе. Представлялось, что жил им, дышал, а тут… Позабыл Лауринас, как вскипавшая кровь без всякой причины и раньше гнала из дому. На коня – и вперед, не разбирая дороги, не обязательно от Шакенасов удирая, от самого себя, вдруг разонравившегося. А теперь никуда не убежишь, хоть и порвал путы, ни в каких водах не отмоешься от позора, никакими мылами не ототрешь вонь тех помоев, часть собственного существа должен будешь оторвать, отрубить от себя, остатки в новую шкуру втиснуть, чтобы ничем старую не напоминала, надежно от новых унижений прикрывала.
Потому-то Лауринас вернулся домой не тогда, когда приплелся к Абелю тесть, согбенный, с печально повисшим длинным носом, пришел якобы за папиросными гильзами (втихомолку приторговывал куревом собственного изготовления), а на самом деле с ворохом векселей за пазухой: с этого дня – твои, зятек, все до одного – твои! – и не тогда, когда, постанывая, босиком прибрела Петронеле, таща за руку Казюкаса, пала ничком на кухне у Абелене… Лежала и не осмеливалась поднять глаза на сидящего у стола мужа, дотронуться до его вздрагивающего колена – сам не замечал, что оно дрожит. А лицо ее без кровинки, белое, как вымоченный домашний сыр, в щелках глаз поблескивают две застывшие капельки. Такой будет, когда постареет, – тяжелая, выцветшая. Не дай бог так быстро состариться, не дай бог! Повернулся к Казюкасу – в узком вороте рубашки пульсирует жилка на тонкой шейке… Здесь, в этой цыплячьей шее, все его тепло, вся жизнь. Кто теперь защитит мальца от безжалостных тисков жизни? Лауринас кашлянул, как бы невзначай помогая сыну сглотнуть слюну, но постарался придавить жалость, словно жучка сапогом к полу. Приказал, чтобы встала, пусть, мол, поедят селедки с Абелевыми булочками и возвращаются домой.
Вернулся на хутор много позже, когда портной облачил его в новенькую, поскрипывающую ремнями форму члена Союза стрелков.
– Вот теперь ты форменный наездник! – хвалили Лауринаса мужики в таких же мундирах, окружив его и похлопывая по плечу.
В этой форме, да еще с винтовкой он и пришел, вернее, приехал домой на одолженном у Акмонаса Орлике. Ремни поскрипывали, сапоги – тоже новехонькие сверкали. Сполз с седла несколько скованный, словно скакать верхом ему уже не в радость. Пружинил ногами, пробовал каблуками сапог землю, озирался. Не понравится что, рассердит – махнет обратно в седло, и поминай как звали!
Казюкас не осмелился сунуться под истосковавшуюся отцовскую ладонь, не соблазнила его даже аппетитная, в серебряной обертке ярмарочная конфета. Младший, Пранюкас, позволил приласкать себя, даже на руки к отцу залез, он обслюнявил карман форменного кителя, за что получил по попке и разревелся. Тесть хлопотал возле чужого, исчерна-черного коня – зачерпнул овса дырявым гарнцем, по дрожи рук можно было понять, что от былой его силы осталось совсем ничего, пень трухлявый, едва держащийся на источенной ножке старый гриб. Может, неплохим человеком был бы, кабы не она, ведьма старая, мелькнуло у Лауринаса, сторонившегося пропахшей пирогами тещи. Правда, и та не всегда исподлобья смотрела, не всегда ворчала. Такие другой раз вкусные пироги да булочки пекла, а уж хлеб у нее даже лучше матушкиного получался. Ей-богу, ничего не пожалел бы сейчас Лауринас, чтобы их, вот таких пришибленных, хлопочущих вокруг него, увидала родимая матушка, так не хотевшая отпускать любимого сыночка в дальние края, к неизвестно каким чужим людям.








