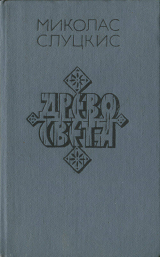
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Пожалуйте в дом, господин Лауринас. Хе-хе, не знаю даже, как теперь и величать-то вас, – стелилась теща.
В словах ее почудилось Балюлису ядовитое жало, он выругался. Обошел двор, заглянул на гумно. Покрасовавшись эдак, неизвестно перед кем повыламывавшись, приказал подать одежду. Рабочую, потом его пропахшую, неясными надеждами на будущее.
– Кому сказано? – прикрикнул, хотя домашние и так были тише воды, ниже травы, любой жест, подергивание усиков ловили. Ох, нет! Опять кто-то нацеливается захомутать его трепещущий, не согласный с серостью жизни дух. Только не поддастся он! Сгреб в охапку Петронеле с детишками, что боязливо косились на прислоненную к лавке винтовку.
– А она… не выстрелит? – выдавила Петронеле непослушными губами. Не доводилось еще ей видеть винтовку так близко.
– Сама-то? Эх ты, глупенькая, – Лауринас ладонью прикрыл ей рот, а сердился на себя: зачем породнился с железом, которое не пашет, не жнет, а ежели и сеет что, так… Да нет, не породнился, для игры эта железная палка, игра маневрами именуется – соберется с их волости горстка мужиков, но разве думают они этими ружьишками мир потрясти? Так, ворон попугают – слишком много их развелось.
– Боюсь я тебя, Лауринас. Что ни скажу – все невпопад.
– Не нравлюсь в форме? Сам начальник полиции должен будет теперь честь отдавать, когда при полном параде выеду! – похвастался. Да только и самого это не грело.
Горделивое чувство вскоре совсем развеялось, и он уже твердо знал: ни за какие деньги не согласился бы натянуть на себя эту форму, кабы не то надругательство Шакенасов, едва не сунувшее ему в руки топор, да не угрозы Стунджюсовых дружков не допускать больше на скачки в гражданском.
Ночью горячо ласкал Петронеле, утащив ее из избы на сеновал. Стыдливая, сдержанная – мир ведь создан на вечные времена, и не нам, кротам земным, изменять его! – она дивилась мужу, а еще больше себе, словно не мать семейства, а деваха-дуреха, во что бы то ни стало решившая отбить чужого мужа.
Динь-динь – доносится издалека, уж не с неба ли? – и от торопливых этих ударов нагревается раннее солнышко, лучам которого нелегко пробиваться сквозь путаницу ветвей, листвы и плодов. Может, даже и не удалось бы ему прорваться во двор, когда б не звон отбиваемой у дровяника косы, не столбик дыма над кухонькой, откуда тянет шкварчащим на сковороде салом. Мычит отдавшая уже молоко Чернуха, мяукает прокравшийся через стерню на усадьбу чужой кот – ширится, растет новый день, мерцание земли сливается с сиянием неба.
На скамейке белеет литровая банка, прикрытая крышкой. Выдоено, процежено, разлито по крынкам и бидонам. Не забыты и городские господа: литр для них. Значит, ожила Петроне? На дворе, как обычно, похрюкивают, иногда заставляя потрескивать слеги загона, свиньи, в своей загородке копаются, поквохтывают куры, утки полощутся в корыте. На загородке болеет свежая заплата – заделана нарезанными механиком досками большая брешь, сквозь которую куриное племя разбредалось куда и когда хотело. Не поскупился Лауринас? Никому не жалеющий яблочка или кружки молока, он всегда жмется, расходуя материал – каждый трухлявый обрезок старается приспособить, строгает, прилаживает, кривые ржавые гвозди выпрямляет… А уж новую-то доску, прежде чем в дело пустить, так оближет, словно она сахарная. Все, как обычно. Если и не хватает чего, когда осмотришься, так это привычного ворчания Петронеле.
В окне кухоньки бьется-жужжит оса, но никто ее не гонит, не клянет назойливую тварь.
– Ну и денек – чистое золото! А, хозяюшка?
Интуиция подсказывает, что не к добру это молчание Петронеле. Да и о здоровье после таких неспокойных ночей осведомляться не следует.
– Хозяйка-то с рассвета хлопочет, а мы, лентяи, завтрак проспали.
Снова ни ответа, ни привета, но дверь кухоньки скрипнула. Елена гнет свое:
– Конечно, куда нам торопиться? Взять хотя бы моего благоверного, – она готова даже слегка кольнуть Статкуса, спускающегося босиком, с ведром в руках со ступенек крыльца. Он даже солнцу не улыбается после бессонной ночи. – Прочтет в газете об увеличении продуктивности коров и считает, что оказал посильную помощь сельскому хозяйству! Что, может, неправду говорю?
Губы хозяйки не дрогнули, хотя шутки она понимает.
Тщетны потуги развеселить Петронеле. Все равно что пытаться жердью отогнать набухшую тучу.
– Ох, дочка, чуть курицу не задрал. Что же теперь будет? – выпевает вдруг обычно хриплый голос. – Что будет? – вместе с вопросом звучит жалоба. И, хоть не ждет сочувствия, высовывается через порог кухоньки. Под тяжестью грузного тела дугой изогнулась палочка.
– Что случилось? Ястреб, что ли? – Елена не догадывается: может, действительно что-то страшное произошло, а может, пустые страхи навеяны одиночеством. Сквозь синевато-серую черточку губ протискивается не только упрек, но и знание чего-то, о чем другие не разумеют. А может, и злорадство по поводу их слепоты.
– Забыла разве, какую сволочную собачонку старик привел? Зверя, ирода! – Петронеле выпучила глаза.
– Когда же… курицу? Вчера?
– Где там вчера! – Старуха скрещивает руки на палке. – Нынче утром, вы еще спали. Утром этот чертов…
– Может, играл? Щенок же. – Елена старается не поминать его имени. – Все малыши любят играть.
– Говоришь, маленький? Кровопийца он с зубастой пастью! – Хозяйка сама разевает беззубый рот и, размахивая палкой, показывает, как нападал хищник, как разлетались куры. Скрюченные ревматизмом дрожащие пальцы изображают собачьи клыки, палочка выскальзывает из рук, укатывается в сторону. И не спорь – не переубедишь! Застывшие глаза уставились на воображаемую жуткую картину.
– Все-таки, кажется… – слышит Статкус несоглашающийся голос Елены. На такое, сдается, в свою пору осмелился бы только Олененок. – Я, конечно, не видела, но подумайте: разве справился бы с курицей такой малыш?
– Хорёк куда меньше, а кур душит!
– Хорек? Так нету вроде на усадьбе хорьков.
– Хорей-то нет, другого зверя дождались, другого хищника!
Елена упорно не желает соглашаться, пытается даже вызвать жалость:
– Ну какой он там зверь. Глазенки, как пуговицы. Смешной такой!..
– Мне этот, с пуговичками, чуть глотку не перегрыз! Глотку!
И, не дожидаясь, когда подадут ей откатившуюся палочку, отворачивается от покрасневшей, словно ей пощечину дали, Елены. Теперь снова затаится на своей кухне и начнет по привычке дудеть вслух, повторяя и свои, и Еленины слова, все больше ожесточаясь, с ноющим от ужаса сердцем. А день на редкость ясный, будто начало лета – не конец его. Листья лип в медвяной росе, пламенеет на солнце огромным подсвечником клен, над ним ныряют в синеве ласточки, небо поднимается все выше и выше, приглашая ввысь и душу человеческую, только необходимо, чтобы ты сумел оторваться от своих бед и болей – действительных или надуманных.
Четырехугольный косматый нос обнюхивает только что вытесанный кол. Вельс-Вальс-Саргис не только хозяйку разгневал, но и хозяина. Надоело гоняться за непоседой, вот и привязал. Теперь можно передохнуть, одно скверно: не знаешь, какую шутку он еще учудить может. Как бы не удавился – к привязи-то не привык. Хмурые взгляды Лауринаса нет-нет да и жмутся к кухоньке. Воинственное настроение старухи после бессонной ночи не обещает ничего хорошего. Тем временем веревка уже натерла собачонке шею, она дергается, подвывает, царапает землю.
– Всегда так. Не желает к новому привыкать. Что человек, что животная на дыбки встает, – переживает Лауринас. И сердится, и жалеет. – Покормить с руки, шелковым бы стал. Но чем, скажите, кормить? Может, знаете?
После беспокойной ночи и у хозяина синие круги под глазами, нездоровый румянец на скулах. В руках молоток и дощечка. Снова будет долбить шляпку гвоздя, неизвестно что в свои удары вкладывая.
– Поди разберись, чем его, дурачка, кормить! Молока не лакает, сала не жрет! – все злее ударяет Лауринас по гвоздю.
– Так ничего и не ел? – озабоченно спрашивает Елена.
– Хозяйка его плитку шоколада оставила, так проглотил.
– Шоколадом, значит, кормите?
Статкус задал свой вопрос под руку, молоток соскочил со шляпки, саданул Лауринаса по пальцу.
– Не дождется! Не дождется он шоколадов-мармеладов! – подул на ударенный палец, неизвестно кому погрозил им. – Мяса не жалко, молока. Но чтобы конфетами? Что я, болван какой? Я колхозник, я за лен Почетную грамоту имею. Волк, бывало, за зиму целую кучу мослов сгрызет. Кто не знает – животное кормить надо. Но шоколадом? – Помолчал и, несколько успокоившись, попросил Елену: – Не сварили бы вы нам супчику?
Елена варила с косточкой, морковкой, картошкой, как человеку. Горстку крупы добавила, зеленью сдобрила. Супчик издалека щекотал нос. Собака сунула морду, поскользнулась, переступила и перевернула мисочку.
– Ах ты! Эдак, значит, барское отродье? – взвыл Балюлис. Умел и он свирепеть. Прихватил веревку и поднял пса в воздух вместе с колом. Сейчас тряхнет оземь изо всех сил трахнет, не смотри, что уже восемьдесят, что ноги слабы и одышка мучает – ручищи-то железные, все время имеют дело с молотком да косой. Прибавьте еще упорство, с возрастом не убывающее! Нет. Перехватил веревку и только несколько раз ударил ею. Правда, сильно. – Это тебе за супчик! Варил человек, старался, а ты, сукин сын!.. – выговаривал он пищащему комку шерсти. – А это за шоколад, чтобы не привыкал! Ничего, наголодаешься – свиное пойло жрать будешь!
Неизвестно, чем бы закончилась эта экзекуция, когда бы не послышался из-под горки скрип велосипеда.
Лауринас мрачно уставился на ведущую к усадьбе дорожку, на поднимающуюся по ней женщину. На сей раз он не шибко тосковал по гостям. Но ведь свой человек – Акмонайте! Не ее же стесняться. По имени не кличут: Акмонайте, или Почтальонша. Замужем не побывала – к пятидесяти уже, на щеках никому не нужные ямочки. Черные, сросшиеся над переносицей брови, большие серые глаза, носик в щеки, точно в тесто, провалился. А ведь прямым был, красивым.
– Спорим, дяденька Лауринас, не очень-то сегодня тебя мой приход радует, – осклабившись, свалила она с велосипеда кучу газет.
– А кто ты такая есть, дождик долгожданный, что ли, чтобы тебе радоваться? – Все-таки появление женщины развязало Лауринасу язык.
Ее привычки – резать в глаза правду-матку и этого вот спорим, да и немалой силушки многие опасались. Тем паче женихи. Но задирать задирали. Молодая была, здоровая, громкоголосая. Позабыты ныне те колхозные толоки, но и сейчас красиво поблескивают собранные на затылке в пучок черные, как у давнего дружка Акмонаса, волосы, сколько уже годочков пасущего коней на лугах Авраамовых. Потому и не вышла замуж его старшая, что после гибели отца вынуждена была тянуть младших братьев и сестер. Подрастали, выпархивали кто куда – в мелиорацию, в город, а она продолжала ходить за хворой матерью, надрывалась на ферме, пока не повесила через плечо почтовую сумку.
– Что, красавица, столбом встала? Приехала и катись дальше, – попытался выдворить ее Лауринас.
Странно, но сегодня в нее не вцепилась даже Балюлене, хотя должна была ухватить и не выпускать. Из своего поднебесья – Акмонайте не только в кости широка, но и вверх вымахала – немало видит она, кочуя с хутора на хутор, так что Петронеле, и носа со своей усадьбы не казавшая, целую педелю после ее визита смакует страшные или смешные случаи. Приходится верить.
Покосилась Акмонайте – пороховой погреб, а не кухонька. Подошла, подергала осторожненько – изнутри заперто.
– Теть, а теть, слышь? Цельную охапку приветов тебе притащила. Спорим, не угадаешь, от кого!
Молчание.
– Ладно, скажу, не буду мучить. От Морты. Морта Гельжинене передать просила. Не ждала, а?
Молчание. Только тяжелое дыхание за дверью, словно кто меха раздувает.
Что? Уже и Морта Гельжинене не интересует? А ведь прошлый раз расспрашивала неотвязно. Конец света!
– Слышь, тетя Петроне? Морта от племянничков в дом для престарелых удрала. Пенсию туда перевела и сама в Шукачай переселилась.
Слышит! Как голосок Акмонайте, стены пронизывающий, не услышать! В другое время ухватилась бы – не оторвешь: что, как, где да почему? – а тут ни звука. Что случилось в Балюлисовой усадьбе, где всегда можно было малость передохнуть? Балюлене не интересуется Мортой, самой Мортой! Балюлис кривится, словно муху проглотил. Уж не из-за этого ли щенка?
– Какого зайца пасете? Где у него глаза-то? – прорвало Акмонайте, смирившуюся с тем, что не удастся нынче отведать тающего во рту здешнего сыра.
– Саргис это, – не хотел вступать в беседу Лауринас.
– Сторож? Бесхвостый? Так ведь и на собаку-то не похож!
– Ты, Акмонайте, тоже с заду на девку не похожа, только спереди, а ведь до се девка.
– Эка важность, дяденька. Все равно ухаживать не станешь.
– Лучше уж за жердью, чем за тобой.
– Во-во. Вместо девки – жердь, вместо собаки – блоха! – не сдавалась Акмонайте, привыкшая точить лясы и нисколько не обиженная. – Постой, где же я таких обрубленных видела? – шлепнула себя по лбу. – Точно, около Бальгиса! Профессорша там одна с дочкой отдыхает. И художник, малость чокнутый… У них целая свора этаких-то.
– Ладно. Езжай, езжай! – Балюлису все не удавалось спровадить незваную гостью. – Не кажи чужим людям, сколь мозгов в голове осталось.
– Мне хватает. А у тебя, дядя, хоть ты и семи пядей во лбу, не выгорит с собачонкой.
– Это почему?
– Не будет она тебе сторожем!
Уперлась на своем Акмонайте, как в молодые годы, когда какой-нибудь парень намеревался поприжать в темном уголке, а она рвалась на свет. При батюшке с матушкой целуй! Не словом, так силой отобьется: одному кавалеру, говорили, руку вывихнула. А сейчас подстегивали ее жара и разочарование: Петронеле в кухоньке затаилась, сыра на дощечке не режет. Балюлис яблочка не предложит, а ведь свои они, Балюлисы, дядя-то Лауринас, пожалуй, единственный, кто отца добрым словом поминает. Жалеет о нем.
– Будь спокойна, заставлю! А не послушает – шкуру спущу.
– Не научишь козла быком реветь. Не будет он тебе сторожем! Ведь этим бесхвостым кудри шампунем намывают, сама видела. Художник тот одну в корыте полоскал. А чем кормят, слышал? У тебя волосы дыбом встанут…
– Ну и что же они, бедолаги, любят? – с хитрецой уставился на нее Лауринас.
– Спорим, не поверишь! Свежие сливки. Подогреют и – в блюдечко. Своими глазами видела!
Странно, но Балюлис поверил.
– Лучше шкуру с него спущу! Точно спущу, – горько повторял он, забыв, что умеет отшучиваться. Даже жалко его, упавшего духом, стало.
Акмонайте уже выкатывала велосипед со двора. Зацепила головой ветку, посыпались яблоки. Ни одного не подняла, торопилась.
– Мало им хлопот! – вздохнула она, да так, что эхо отозвалось. – Рехнулся, что ли, Балюлис?
Когда вскоре заглянул к ним Линцкус в ядовито-желтой праздничной рубашке, нечего было и спрашивать зачем. Раззвонила новость Почтальонша.
– Где же твоя хваленая собака, етаритай? А ну, покажь! – нетерпеливо и радостно озирался он, словно на пожар прибежал. Увидел, взмахнул руками, разинул рот. – Ну и ну! Вот это да! Вот это, можно сказать, експанат! – дивился он, грудь раздувалась и опадала. Посмотреть издали – подпрыгивает на месте мягкий желтый мяч. – Ну и порода!
– Значит, считаешь, хорош, а, Линцкус? – в голосе Лауринаса надежда.
– Хорош – не то слово! Екстра, етаритай! Люкс! Такие на выставках сплошь золото и серебро лупят. Со знаком качества, дядя!
Балюлис не мог сообразить: радоваться ему или печалиться.
– Спрячь кол да веревку с шеи скорей сыми, – советовал Линцкус. – Против охраны природы действуешь! Так и знай, дядя Лауринас, она, етаритай, шуток не любит, охрана. Вон Жаренас косулю, во двор забежавшую, ломом угостил, так знаешь, на сколько сотен инспекция его штрафанула?
– Какая инспекция, какие сотни? – рассердился Лауринас, только что во все уши внимавший спасительным речам соседа. – Как хочу, так и привязываю. Мой!
– Твой-то твой, но порода! Охотник, етаритай! Кто же, дядя, охотничью веревкой давит?
– Раз охотничий, пусть сам о жратве и заботится. – Балюлис дрожащими пальцами распутал узлы, отшвырнул ногою кол. Щенок встряхнулся, сунулся туда-сюда, что-то вынюхивая, принялся рыть в одном месте, потом в другом. И так взрыкивал, что Линцкуса радостный трепет пробирал. Погнался за ним, вот-вот схватит. Собачка отскочила, Линцкус грохнулся, но все к ней тянется, тут Саргис как лязгнет зубами – едва успел руку убрать.
– Етаритай! С таким плевое дело – лисицу, кабана возьмешь! Кого угодно! Только вот кусаться бы не след. Чуть палец не отхватил. Что, дядя, с таким зверем делать станешь?
– А ну его к лешему, Линцкус! Не знаю пока, – пожимал плечами Лауринас, вперив лихорадочный взгляд в кленовую крону. Могучая листва искрилась и мерцала под полуденным солнцем, как проточная вода. Воспарила было душа, жаворонком в небо взвилась с этой собачкой и через нее же – камнем вниз…
– Слышь, дядя? А ты мне его отдай. Я в охотники записаться хочу, а без дельной собаки… Отдай! – Линцкус надулся, попрыгал на месте. – Уступи. Я его поганой веревкой душить не стану, а тебе, глядишь, десятку подброшу!
– Вон! Вон с моего двора! – вскинулся Лауринас, сроду ни единого человека не гнавший. Напуганная его криком собачонка метнулась в сторону.
– Ты кого гонишь, етаритай? Меня? Больше в жизни не загляну. Марципанами не заманишь… Марципанами!
– Пошел ты! Вместе со своими марципанами! – брызгали слюной посиневшие губы Лауринаса. – Куси его, Саргис! Взять, взять!
Корвалола всего несколько капель осталось, манка кончилась, не подскочить ли за покупками? Вот смех – шоколадные конфеты Елене потребовались! Ладно бы для себя – для собачонки, всем поперек горла вставшей, без вины виноватой; затесалась бедняга в спор меж двумя стариками, в противоборство, невесть когда возникшее, под бременем лет, несчастий, болезни, старости… войны и всякие перемены, рост и разброд детей пережившее. Вельса-Вальса-Саргиса впутала судьба в историю, круто просоленную не только горькой солью бытия, но и любовью, недолюбленной до конца, ничего, даже мгновений слабости или дури не прощающей. А может, вообще нет тут никакого смысла? Просто жалеет Елена изголодавшееся существо, вот и приходится катить в пыльное местечко.
– Собирайся, Йонас. Быстрее!
Отвыкший от руля Статкус медлил.
– Как бы аккумулятор не сел.
– Сейчас ключи тебе принесу.
– Сам, сам.
Не спешит он покинуть усадьбу, накрытую необозримым, льющим свет небом. Здесь можно дождаться того, чего не ожидаешь, даже если во всех других местах ничего бы не менялось. Сюда свободно, словно сквозь широкие ворота сеновала, проникает прошлое – поглазеть на настоящее.
Машина Статкусов под кроной огромного клена, чьи ветви широко раскинулись и вверх и по сторонам. В иных местах глаз притягивают валуны, рожью или ветлами окруженные, а здесь это дерево, которое говорит и тогда, когда позабылись уже слова, срывавшиеся с губ в последние мгновения на смертном ложе, стоящем в не согреваемой потрескиванием свечей чистой горнице. Тут, бывало, укладывали гостей, укладывали и путников, готовящихся уйти в страну мертвых. Сейчас в горнице гора чемоданов, валяются книги, тюбики с губной помадой. Не ищет их Елена, а может, перестала краситься? Статкус заставил замолчать бубнящий транзистор, будто рот ему заткнул. С непривычки не очень ловко открыл скрипнувший ящик комода. Где они тут – техпаспорт, ключи? Запахло прохладным полотном, почерневшим от старости дубом, который, это уж точно, слышал когда-то, что шепелявили непослушные губы хозяина – Матаушаса Шакенаса:
– Детки… в мире и доброшердешии… в мире и доброшердешии, детушки…
Стоявшие плечом к плечу Лауринас с Петронеле целовали леденеющие пальцы батюшки. Растроганные последними словами, искренне обещали ему то, чего не в силах будут выполнить за всю жизнь, сами не понимая, почему так, и не подозревая, что, исполнив обещанное, перестали бы жить, а начали бы считать мгновения, отделяющие их от прохлады чистой горницы.
Статкус осторожно прикрыл за собой дверь. Хлопнешь – можешь нарушить торжественный покой.
С трудом раскочегарил мотор машины, облепленной пухом и мошкарой. Словно она только и ждала этой минуты, появилась Петронеле.
Что с ней? Все еще воюет с собачонкой, которая и сама несчастна? Лицо старухи – уже не лицо, раскопанное картофелище. Истоптанное, морщинами изборожденное. Едва ли показалась бы, кабы не поездка Статкусов. Никто не смел покинуть ее дома без проводов. Хотела, чтобы вернулись.
– Масла не покупайте. Только-только свежее сбила. Может, не погнушаетесь нашим?
– Ну что вы, хозяюшка!
– И яиц не берите. Сегодняшних дам.
– Ладно. Вам-то чего привезти?
Не ответила.
– Хлеба?
– Булочку белую, коли в булочную заглянете. Вот копейки.
– Да не утруждайтесь! – Елена отвела ее руку с монетами.
– Мои денежки, дочка, не краденые, заработанные. – Снова упрямо совала ей кулак Петронеле с зажатыми медяками, словно спорила с кем-то. – Сколь я этого льна передергала, когда на колхозные работы еще ходила, сколько бураков… А думаешь, с курями просто?
– Знаю, хозяйка, знаю.
– Чего знаешь? – обрезала ее Петронеле, решившая сама над собой посмеяться. – Разве кто что знает? Все было, да быльем поросло.
– Может, вкусненького чего из магазина? – Елена поторопилась закончить разговор.
Петронеле молчала, плотно стиснув губы, чтоб ни звука не вырвалось.
– Конфет, может, печенья?
У старой шевельнулись губы, но не разомкнулись, еще глубже запали.
– Скажите, матушка, что нужно. Не стесняйтесь.
– Спокойствия бы мне… Может, продают его в городе? Спокойствие?
Ежели бы сейчас кто-то, пав сверху, неожиданно хлопнулся у их ног и разлетелся в осколки, это меньше потрясло бы Статкусов.
– Успокоительных таблеток? – переспросила Елена, ошарашенная не меньше мужа. – Без рецепта вряд ли дадут. Справлюсь на всякий случай. – Она нервно нащупала ручку дверцы. – Слыхал? Колом по голове. Ну, поехали!
Переваливаясь с боку на бок, машина миновала крест, выкатила на бугорок. Тень лип не хотела выпускать ее, мягкая колея всасывала колеса.
– Если здесь нету спокойствия, то где же? – Елена защелкнула ремни безопасности. Сначала свой, потом его. – Гляди на дорогу, ладно?
Статкус не отозвался, машина подпрыгивала на корнях, еще малость, и повело бы на толстую, ободранную ель. Кое-как вывернул, спустился на проселок – в колдобинах весь и ухабах, бог весть когда грейдером причесанный. На неровностях лязгали зубы и железо. Не притормозил перед поворотом, машину снова занесло. Руки срывались с руля, на них уродливо выступили жилы. Бессознательно стремились они увести его подальше от усадьбы, от грохочущего в голове взрыва.
– Не спросила, куда едем, хотя ей и небезразлично. Тебя это не смутило?
Оба думали о Петронеле.
– Деревенские в душу не лезут.
– Нет. И так поняла, – Статкус не позволял себя успокаивать.
– Что поняла?
– Что бежим, как от тифозных.
– Не выдумывай. В местечко и обратно.
Обогнал желтый «Жигуленок», порыв ветра взъерошил Статкусу волосы. Вот так же молниеносно сверкнет что-нибудь в усадьбе, пока они попусту тут спорят.
– Разве плохо? Вырвались на минутку, – оправдывалась Елена, словно они оставили на дороге сбитого человека.
– А мне все кажется… – Йонас странновато улыбнулся. – Такое чувство, будто везем Петронеле с собой…
– Шутишь?
– …везем ее недоверие, ужас. – Он старался не глядеть в зеркальце, опасаясь увидеть откинувшуюся на заднем сиденье Петронеле.
– Пугаешь? – Елена скривила губы в бодренькой, столь нелюбимой им улыбке.
– …страшные ее воспоминания… тяжкие сны…
– У тебя что, галлюцинации? Я-то надеялась, что ты совсем здоров. Ну-ка, притормози! – Она положила руку на руль. – В таком мрачном настроении и машину разбить недолго.
– Не галлюцинации. За Петронеле страшно. За Лауринаса… – Он сбросил ее руку.
Некоторое время молча катили по ровной дороге.
– Не сердись. Забыл о своей болезни, чужой заболел. Давай прямо домой, а?
Статкус не ответил.
– Вещи потом заберем, – убеждала Елена. – Глядишь, без нас старики скорее помирятся? Станут жить, как жили.
– Ни в коем случае! Хозяйка уже сегодняшние яйца для нас собирает… – Дальше говорить не мог, слышал безнадежные вздохи Петронеле.
Елена устало кивнула. Бодренькая улыбка соскользнула, углы губ сковали две скобки-морщинки.
– Если хочешь знать, мне тоже начинает казаться, что мы везем с собой Петронеле…
…Этой дорогой, где знакомы все повороты, каждая поблескивающая после дождя рытвина, ездила она редко. Было время, Лауринас вывозил – чаще всего в костел, не ради кадильного дыма, конями похвастаться, упряжью. На колхозной кляче не покрасуешься, но и теперь иногда по большим праздникам ездили в костел. Собственными же ногами мерить эту дорогу довелось Петронеле дважды. Разумеется, если не считать тех давних случаев, когда девушкой бегала по ней на спевки, не чувствуя, раскаленная или стылая земля под ногами. Но где те молодые годочки? Как ветром сдуло. А повзрослев, в семье завязнув, лишь дважды добиралась до волости пешком. В первый – слезы глаза застили, ничего кругом не видела, как клещами ухватила ручонку Казюкаса. С попутных телег зовут: подвезем – не отзывалась, бросалась прочь. В дороге каждой тени пугалась, в местечке – обветшалых, облезлых еврейских домишек. Идет в них чужая, непостижимая жизнь, что, вошедши, скажешь? Иное дело – лавочка, ее двери кто хочешь толкает, звякает колокольчик, помещение пропахло леденцами и вызывающим слюну селедочным рассолом. В базарный день еврейки за полы хватали бы, каждая бы к себе тянула, а тут самой придется стучаться к незнакомым – даже не католикам! – и грозить, как мать учила: Отдайте мужа, а то в полицию пожалуюсь! Батюшка советовал другое: Падай в ноги, обними сапоги и не отпускай! Нет, она по-своему скажет: Не очень ли тебе тяжко, Лауритис? Конечно, если губы и язык не одеревенеют.
– Ой, какой красивый у вас мальчик! – похвалила взопревшего Казюкаса черноволосая женщина. Довольно еще не старая, на носу с горбинкой какой-то нарост: прыщ не прыщ, бородавка не бородавка… Абелене? Нарост пугает, но все-таки наконец она среди людей, не в пустыне. Удивляется Петронеле: молодая, а Абель-то ее совсем старик, седой как лунь.
Абелене быстро обмахивает подолом длинной юбки табуретку.
– Садитесь, в ногах правды нет. Может, чайку? Ваш-то на лесопилке, бревна кантует. Вот-вот вернется.
Сунула Казюкасу подгоревший бублик, такой же грыз его ровесник – босые грязные ноги, тоненький, что гороховый стручок, нос. Казюкас откусить не осмелился.
Долго прождала Петронеле мужа, так долго, что забелели в волосах седые нити. Может, и раньше пробивались, но в тот раз впервые обратила на них внимание, едва не уткнувшись лбом в мутноватое, с отколотым краешком зеркало. Нетронутый чай остыл.
– Я вам так скажу, – Абелене провожала гостью по заросшему мать-и-мачехой, лебедой и крапивой двору. Дальше терять время смысла не было, ввалился Лауринас и как топором отрубил: не вернется, ни ей, ни матери этого ведра помоев не простит, лучше бы сердце вырвали и бросили собакам на съедение! – Горяч, ой, горяч господин Балюлис, но отходчив, а доброе сердце рано или поздно оттаивает.
Оттаивает? Как ледяной ком на пашне, как сосулька под стрехой по весне. Какой же радостный и чистый звон раздается, когда, сорвавшись, падает и разбивается острая ледышка! Верится, что зима кончилась не только на этот раз – на все времена. Хрупкая, как звон сосульки, затеплилась надежда, глубоко затаилась в сердце, хотя уносила Петронеле, уходя, куда большую тяжесть, чем принесла с собой. Тяжко. Но разве ей одной тяжко? Легче ли этой костлявой черноволосой женщине, народившей целую избу детей старому Абелю, который чаще всего встречает рассвет в пути? А ведь дарит она надежду, вселяет веру. Но разве поговоришь об этом откровенно? Да и подобает ли ей, католичке, хозяйской дочери, беседовать о любви с местечковой еврейкой? Лучше бы прихватила из дому курочку, эвон сколько детишек у бабы! Позже через соседку послала Абелене откормленного гусака. Пусть натопит горшок жира, будет мазать соплякам на хлеб зимою, может, добром помянет. Жаль, не случилось самой отвезти… Совсем посторонняя Абелене, а, пожалуй, осмелилась бы поговорить с ней о том, о чем дома и не заикнешься. Кто в деревне, кроме девок, о любви шепчется? Казалось Петронеле, что, отведав чужого хлеба, Лауринас стал ласковее, хоть и не сразу вернулся – целая вечность прошла, совсем было угасла надежда, зажженная в ее сердце Абелене. Другим вернулся, нежели ушел: более внимательным к ней и детям, но и каким-то печальным. Как вести себя? Что делать, когда хмуреет, молчать или стараться разговорить, а может, косу в руки и рядом, на прокос? Мать гудит: не батрачка, хозяйская дочь! А с Абелене так больше и не доведется встретиться. Минует год, другой, Казюкас в подростка вытянется, а от Абелей в городке и духу не останется. Одногодок Казюкаса, в свое время весело уплетавший бублик, правда, не пропадет, но жить станет в другом месте – прошедший фронты мужчина.
Автомобиль Статкуса катил по асфальту через местечко. Куда ни глянь, знаки для машин и сами машины. Ни тебе какой-нибудь хилой клячи, ни детишек, собирающих конские яблоки для свиного пойла. Чему ж тогда удивляться, что Петронеле охотнее не бывала тут, чем бывала? Известно, первый ее поход в местечко не принес удачи. Увидела Лауринаса – жив, здоров, но ясно стало и другое: еще не отлип от той бабы, от распутницы, осмелившейся на глазах всего честного народа вешаться ему на шею. Запахи еврейской избенки – свечного воска, мытых полов, приправленного чесноком, кипящего на треноге варева – не могли перебить дух отсутствующей женщины. Еще опутывали Балюлиса ее чары, хотя давным-давно должен был бы уразуметь, что погибель они ему несут, а не счастье. Может, не кокетство и обольщения красотки были тому виной, просто пал на нее луч небесного света, вспыхнула под ним случайно, когда опьяненный победой Лауринас не ощущал земного притяжения? Может, и думать о ней не думал, забыл, какая с лица, мало ли у него было о чем думать, но луч не гас, мерцал, светился. Что случилось бы, ежели бы я тогда… или, может, попытаться? А тут вдруг заявляется жена, сынишка, запахи дома… Тебе очень тяжко, Лауритис? – так ведь и не смогли выговорить этого губы Петронеле, хоть и видела: плохо ему, что с того, что не поддается ни хитростям родителей, ни ее любви. Очень и очень ему плохо…
Когда мужики уходят после работы с лесопилки, до того муторно, хоть провались. Ни пиво тоски не разгоняет, ни песни орущих рядом выпивох. Разве по зряшному поводу мучается, не находя, где приклонить свою бедовую головушку? Разве ему, пахарю и садовнику, жалеющему каждое деревце, место возле циркулярки, кромсающей живые, еще брызжущие соком стволы? Повидать ее, глянуть хоть разочек на тот Маков цвет – и все поймешь, все ясно разглядишь, как дно пруда сквозь тонкий прозрачный ледок. Запутавшемуся, ему важно было даже не объясниться. Привлекал риск, непримиримый враг пахаря и садовода, привлекала хрупкость мира, когда, казалось, треснул он надвое, а ты висишь над трещиной, и по твоему желанию может она сомкнуться или стать пропастью. Пьянящее состояние сгорает, как молния, не оставляя даже пепла. Но ведь не может сгореть все, без остатка! Хотелось убедиться, так ли это, и потому нетерпение, с каждым разом увеличивающееся, погнало его однажды из дома Абеля.








