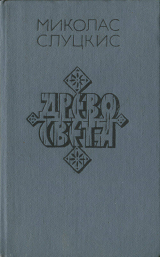
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
– А я думал… на танцы уже ходишь, – смеется он над девочкой, на четвереньках подбирающей свои каштаны, хотя в груди теплеет от хрупкого чувства узнавания и он рад, что не придется одному топать по мощенной воспоминаниями, увы, лишь воспоминаниями улице. Приятно смотреть на большеглазую девчушку с каштанами, такой могла бы быть младшая сестра, которой у него нет. Могла быть и не одна – все умерли. Словно прихваченные ранними заморозками, никли дети его матери, на их чердаке всегда была в запасе освященная восковая свечка. Очень-очень жалел мать, после очередных похорон она не скоро приходила в себя, однако по умершим сестренкам-братишкам не тосковал. Не больно-то хотелось, чтобы фамилия Статкусов распространялась, разрасталась, как сорняки на унылом дворе отчима.
– А я знала, что вы сегодня приедете! – Чистый, певучий голос лучше подошел бы старшей, более зрелой девушке.
– Не врешь?
– Когда я вам врала, Йонас?
– Дядя Йонас, – посмеивается он, стараясь разгадать: сама прибежала или послана той, о которой он и спрашивать не решается?
Ее глаза широко расставлены – едва умещаются на лице.
– Вы не дядя Йонас.
– Статкус?
Распахнутое и таинственное сердечко под платьицем, из которого уже выросла пятнадцатилетняя, угадывает: парень не желает иметь ничего общего со Статкусом. С отчимом, фамилию которого носит.
– Статкус, Олененок, или не Статкус?
Но Елена молчит, поскрипывают каштаны, зажатые в ее кулачке, подрагивают дешевые ленты, вплетенные в жиденькие светлые косички. Садится солнце, и как было бы здорово, если бы оно не исчезло, заглянуло закатным лучом в какое-нибудь невыбитое окно.
– Может, и Статкус, не знаю. – Ее пристальный взгляд тоже старше ее. – Одно хорошо знаю: кем будете.
– Да? Глупости ты болтаешь, Олененок! – ворчит он, хотя охотно, как какой-нибудь подросток, сунул бы ей ладонь, чтобы погадала.
– Художником. Настоящим художником!
Солнце, черкнув по заткнутым тряпками оконцам изб, скользнуло и по глазам Елены.
– Кто же тебе такое сказал? – небольно дергает за косичку, пахнущую аиром. – Уж не прошлогодняя ли кукушка, накуковавшая мой приезд?
Елена утирает выдавленную солнечным лучом слезу, пристально вглядывается в небо: тот ли это, приезда которого она так ждала?
– Нет, приснилось мне, – отвечает серьезно, без каких-либо сомнений. – А что будете художником, я чувствую. – И, чтобы выглядело убедительнее, прижимает ладонь к своей едва наметившейся груди.
– Ну, теперь и мне остается видеть сны! – шутит Статкус, озабоченный тем, солидно ли он выглядит. – Ах, Елена, Елена!
Он грозит пальцем и удаляется, таща буханку хлеба и портфель, нагруженный бутылками растительного масла, – гостинцы дому, который не считает своим. Не оглядываясь, видит, как девочка колеблется: идти за ним или убежать? Ах, если бы на ее месте была Дануте, ее сестра!
Звеня боталами бредут из болота в местечко чернопестрые и буро-пестрые. Женщины встречают своих кормилиц. Садящееся солнце торопит Елену домой, не дает поглазеть на редкую птицу – Йонялиса Статкуса.
– Йонас, Йонас! – доносится ее голосок, приглушенный сумерками. – Я бегу! Корову доить! Придете к нам посидеть?
Ах, как же ждал он этого приглашения! Но почему доить нужно ей, такой маленькой? Золотая девчонка. Обещал купить ей конфет, забыл. Когда снова соберется приехать, заранее припасет… От этой мысли стало хорошо на душе, будто уже угощает ее конфетами.
– Придете, Йонас? – голос тревожный, почти как у взрослой. Может, привезти ей какую-нибудь книжку?
Девочка удивлена его молчанием. Прислушивается и местечко, встречающее, разбирающее, подгоняющее коров.
– Не знаю…
– Кармела сказала… Увидишь Йонаса Статкуса – пригласи!
Может, есть еще один Статкус? Где там! Теперь фамилия ему подходит, очень подходит. Сама Кармела?
Солнце вываливается из трясины облаков, плавит крест на костельной колокольне, во все стороны брызжут золотые струи. Вспомнить бы это сияние, когда будет темно и уныло в большом городе. Нет, ты уложишь в сердце все, нельзя забыть и мелькнувшую под ногами лужу, и грязь, и нищету, и тесноту местечка… Кармела? Из-за нее и притащился сюда, хотя воспоминания о местечке, вместо того чтобы трогать, раздражают. С закрытыми глазами дошел бы до того холма, до дома с мезонином, белыми ставнями и туей. Холм за околицей – к серым избенкам местечка усадьбе аптекаря льнуть не пристало! – притягивал его голодный взгляд с самого детства. В высоко примостившемся гнезде жили редкие птицы: вежливость, смех, красота. Там можно было послушать радио, игру Кармелы на пианино – не только перезвон костельных колоколов. Его будет ждать Кармела – не Дануте? Захотелось прогнать недовольство. Не чьим-то капризом, самим собою: как смеет он противиться красивой, никого не задевающей и никому не мешающей фантазии?
– Спасибо, Йонас, не загордились, не побрезговали нами!
И вздох облегчения, и тихий смех. Статкус понимает: с Дануте – ведь при крещении нарекли ее Дануте, не Кармелой! – ничего плохого не приключилось.
Чернеют сгустками тьмы туи, хотя до глубокой ночи еще далеко. Волнующе пахнет яблоками, парным молоком и судьбой, спускающейся к ним с недосягаемых высот. Нигде больше не чувствует Статкус этого веяния судьбы – ни дома, откуда вырвался, ног не обогрев, ни в институтских коридорах, где полно воздыхающих девиц. Только здесь ощущает таинственный разговор человеческих глаз, деревьев, камней.
– Что ты, Кармела! А давненько мы не виделись. – Если ей так хочется, он согласен называть ее Кармелой. Дрожащими пальцами пожимает сухие, горячие пальчики, но она вырывает их с ловкостью пугливого зверька.
– Я не Дануте, я Елена…
Если бы не упругая стена туи, отшатнулся. Колючие веточки царапают затылок. Какие-то колючие заросли, а не живая, радующая душу зелень. Среди ветвей засунута какая-то рухлядь. Ржавая тяпка. Ступа. Крышка от кастрюли. Готов сунуться в этот завал, лишь бы скорее забыть, как собирался обнять голос. Так схожи голоса? Сестры. Его руки тянулись не для рукопожатия. Лишь один-единственный разочек позволила Дануте обнять себя и назвать настоящим именем, не выдуманной Кармелой. И то оберегала локтем грудь, чтобы не посмел коснуться, извивалась и выкручивалась, хотя сама разрешила обнять.
– Дануте пошла делать укол одной старушке. Скоро вернется. Заходите, заходите, Йонас. Дома все здоровы? – совсем как взрослая, спрашивает Елена, помогая ему прийти в себя, забыть позорную, как он считает, ошибку. В темноте Елена уже не девочка с каштанами – вытянувшаяся, повзрослевшая. Не будь огорчен своей промашкой, понял бы, что обознаться совсем нетрудно.
– Здоровы, все здоровы.
О здоровье не расспрашивал, а может, не слышал жалоб. Дома, в покосившейся избенке, втянул горьковатый, не похожий на тминный запах матери, оторвал ее лицо от своих огрубевших рук и – в двери. Ох, эта проклятая привычка! Он любит мать, но ее рабская покорность противна. Еще раз припадет к руке, и его преданность превратится во враждебность. Хотя за что ее ненавидеть? За то, что стал он Статкусом и пребудет им до конца своих дней? Что не раздобыла ему настоящего отца? Но ее же саму выгнали вон, как приблудную сучку, чтобы не наплодила щенят, и не кто иной выгнал, тот, кто нужен был Йонасу больше всех, родной отец. Как можно скорее уноси ноги отсюда, где ты вынужден сгибаться в три погибели, чтобы не стукнуться головой о косяк, где все – крест-накрест рамы окошек, лавка у степы, прикрытая ситцевой тряпицей тренога на шестке – приспособлено для коренастого, будто топором вырубленного отчима. Он не обернулся, когда ввалился Статкус, обтесывал на полу кусок бревна, оседлав его своими короткими ногами. Опохмелившись, кидается подбирать и готовить материал для трехкомнатной избы с кухней. Никогда он ее не поставит! Стар уже. А мать, как ни странно, после стольких родов могла бы еще понести, и это предчувствие, больше, чем все остальные, бередящие душу, гонит из дому, который для него, Йонялиса Статкуса, никогда не был родным. Перевезенная из сгоревшего хутора и перестроенная для жилья банька пахнет, как сдается Статкусу, чужими постирушками, чужим потом, чужим дымом. В минуты откровения он не раз признавался матери Дануте и Елены, что понимает, как это бесчестно: считать дом родной матери чужим. Но не может привыкнуть ни к прочно сколоченному столу, ни к искусно выпиленной полке для ложек – отчим-то умелец.
– Заходите. Может, парного молочка?
Елена не спрашивает, почему удрал он из дому, не высушив башмаков, и ему приходит в голову, что надо остерегаться этой слишком сообразительной девчонки – даже не смутилась, когда принял ее за старшую сестру! Посыпанная дробленым кирпичом дорожка, глаза увядающих роз меж деревьев и зелени, металлическая сетка для чистки подошв возле цементных ступенек… Таинственным миром веет из ежегодно освежаемых масляной краской дверей – таков ли он, как прежде, этот дом? Никто, даже сам Йонас, не мог бы сказать, что именно сулили ему мгновения, когда он скреб о сетку башмаки, а высоко подвязанную проволоку, по которой было пущено кольцо с цепью, сотрясал черный и яростный, как паровоз, кобель. Днем пес обычно дремал, опустив свою страшную морду между лапами, а ночью превращался в огнедышащего зверя.
– Где же ваш Трезор?
Нет его больше, разве не свидетельствует об этом тишина, разлившаяся над холмом, тишина, вздрагивающая от малейших шорохов, доносящихся из болота? Приедешь через день-другой, можешь недосчитаться не только свирепого собачьего лая. Многого больше не будет, и от этой мысли под сердце проникает холодок, словно для него – крепкого, молодого, которому нечего терять, – началась уже пора утрат.
– Трезор?
Одновременно с душным запахом увядших роз Статкус чувствует, как съеживается Елена, как хочется ей стать маленькой, укрыться в тени взрослых, пусть даже под крылом где-то запропастившейся Кармелы.
– Задушили беднягу. Воры. Ничего, мы привыкли, – рассказывает она уже отдалившимися от жуткого происшествия словами взрослых.
Он кивает, гневаясь в душе на насильников, возмущенный глухой тишиной местечка. Коровы подоены, загнаны в хлева, ни единый колоколец не звякнет.
– И отец говорит, что без этого зверя спокойнее, и…, – И Дануте?
– Что вы! Оплакивала, как человека. Даже траур надела, свечки ставила…
…И забыла? Как обо мне? А ведь носилась с Трезором по полям. Пугала пасущихся лошадей и коров. Задранных зайцев или куропаток укладывал он к ее ногам. И забыла?
– Сейчас зажжем лампу. Будет веселее! – говорит Елена.
Лампу? Ту, с зеленоватым матовым абажуром? Этой их большой яркой лампе он всегда завидовал больше, чем железной крыше, чем туям. Хотя пахнет тем же керосином, что и их коптилка. Этим керосином отдавали его тетради, так что лампа не такое уж великое чудо. И все же Статкусу приходится брать себя в руки, чтобы не растрогаться. Мало помогали мозоли на ладонях – вчера на станции ворочал чугунные чушки! – и знание того, что вскоре он навсегда распрощается с этим местечком. Чувствуешь себя большим, многих здесь уже переросшим, но приходишь сюда не один, приводишь и себя вчерашнего.
– А, уважаемый! Здравствуйте, юноша! Что-то в этом году и носа не казали. Уж не болеть ли изволили? – берет Статкуса в оборот Еронимас Баландис, все еще пахнущий лекарствами, а возможно, воспоминаниями о них.
Пиджачок из домотканого сукна со стоячим воротником, облипшие глиной и навозом клумпы – где же его халат? Запах лекарств, если еще и сохранился, сильно разбавлен хлевом. Спутывал корову, чтобы не брыкалась, пока Елена своими неопытными руками опорожняла ее ведерное вымя? Странно видеть всегда столь аккуратно одетого аптекаря – белая рубашка, темный галстук, седые бакенбарды – в крестьянской шкуре. И внешний вид все сильнее смахивает на крестьянский, и речь.
– Мои предки из рода в род землю пахали. Дед, крепостной, был умелым кузнецом. Ворота для костельной ограды такие выковал, что на их кружева вязальщицы из шерсти соседских приходов ахали. Господа помещики его один у другого, как жеребца-производителя, выкрадывали. Были же люди, а?
Смеется гортанно, прищурив маленькие глазки, страдая от изменившихся времен и ударов судьбы – недавно умерла жена, мать девочек.
– Где пропадали, молодой человек? Что свершили? Статкус принимается было рассказывать, хотя похвастать ему особенно нечем, но тут на веранде слышен стук и грохот. Врывается Кармела, нет, еще до нее влетает в дом веселая песенка. И кто теперь посмеет назвать ее Дануте? Черные, рассыпавшиеся по плечам волосы, оттененные густыми бровями глаза, огненно-красная роза в вырезе светлого платья… Не Кармела – Кармен с провинциальной сцены! Скорее всего роза сунута чьей-то нетрезвой рукой, обжигает Статкуса ревнивая догадка. От сверкающих глаз, от матовой кожи так и сыплются искры – эй, чего скисли, пошевеливайтесь! – пусть и не подскочил, взвизгивая и стараясь лизнуть в лицо, погибший Трезор.
– Привет, мальчик! – невесть почему бросает она Статкусу по-русски. – Докладывай, что сделал, что совершил?
А ты, что ты делала? Не поверю, что только уколы от радикулита соседке. Забыла свое обещание ждать? В тот раз с неба за ними следил месяц, поражая своей близостью и огромностью. Однако не призовешь его в свидетели. Истончился и прячется за тучами… Лучше всего не обращать внимания на Кармелу, пусть комната и полна искр, от которых вот-вот могут вспыхнуть занавески. Продолжать беседу с Еронимасом Баландисом, с Еленой, которая снимает с комода лампу и обеими руками несет к столу, заставляя расти тени присутствующих.
– Кажется, тут и по-литовски понимают. – Рядом с яркой Кармелой Елена – невзрачный подросток, однако она отважно вступается за обиженного Статкуса. Когда его обижали, прибегал сюда. Здесь ждали акварельные краски, кисточки, баночка с водой И нежная, ободряющая улыбка матери девочек. Рисуй, рисуй, Йонялис, станешь художником, не забывай нас! В местечке не звали ее госпожой аптекаршей – наша учительница! – но на одной вечеринке в школе чуть не застрелили за монтаж из стихотворений Янониса[4]4
Юлюс Янонис (1896–1917) – литовский революционный поэт.
[Закрыть]. Когда она звонким девичьим голосом декламировала «Кузнеца», грохнули выстрелы и в зале посыпались стекла. В другой раз из рукава ее пальто выпала дохлая мышь и записка: «Канчай балшевицкую агитацию, а то даканаем!» В том, что семье Баландисов оставили дом, после того как национализировали аптеку, заслуга матери. А доконал ее рак, подкравшийся коварнее, чем малограмотные анонимщики. Теперь портрет Сигиты Баландене смотрит со стены устало, но весело, словно только что закончила она клеить охапку бумажных бород и корон для очередного школьного спектакля.
Спасибо за подарок, Йонялис. Веселой нарисовал. Не боюсь умереть. Боюсь скиснуть!
И весело рассмеялась. Рассмеялась пунцовыми губами Дануте и задумчивыми глазами Елены, открывая перед Йонасом пугающий и непонятный мир, начинающийся тут же за кругом, освещенным зеленой лампой, и с его собственным миром пока не соприкасающийся.
Разве я приехал собирать осколки прошлого? Воспоминания о лампе, молоке, дружбе превращают в мальчишку. Нет! Я должен быть суровым.
– Какой важный товарищ! – Это снова сказано по-русски. – Или нечем хвастать?
Дануте прохаживается около него, словно вокруг торчащей посередине комнаты вещи. И он вынужден вертеть головой, ловя ее взгляды и неспокойное дыхание. Ему дурманит голову запах раскаленного девичьего тела и еще какой-то подозрительный, то ли самогона, то ли скверной водки.
– Кажется, Вильнюс ты не удивил, как, впрочем, и наше занюханное местечко!
– Не удивил… – пересохший голос выдает и горечь, и стремление выбраться из неловкого, двусмысленного положения.
– Дай человеку очухаться, – принимается наводить порядок Еронимас Баландис. – Налейте ему молочка. Парного молочка. Скоро забудем, каково оно на вкус, коровье-то молоко.
Елена разливает парное молоко по зеленым чашкам с белыми кружочками. Слушал и слушал бы это уютное бульканье. Над влажным лугом их детства, над потемневшей от дождя коровьей спиной поднимается парок. Над их мокрыми головами – радуга.
– Пока не удивил, но и не сижу сложа руки. – Статкус обращается к бывшему аптекарю, к отцу своей такой желанной, но сейчас ехидно над ним насмехающейся девушки. – Работаю, дядя Еронимас!
– Где же, в какой-нибудь канцелярии?
– На стройках, на вокзале. Где придется.
– Энтузиазм? Газеты пишут, а я-то не верил… Если так, прекрасно! Не канет, значит, в небытие привычка наших предков честно трудиться. – Похвала человека, у которого отняли аптеку, едва ли искренна. На одной телеге вывезли аптечную посуду, шкаф и весы, на другой кресла.
– Приходится зарабатывать на жизнь и учение.
– Ну и как, удается?
– Не особенно, все проедаю.
– Не лучше было бы пропивать?
Это Кармела, закинувшая ногу на ногу. В ее тоне и облике что-то неприятное, словно оборвалась и то и дело зудит какая-то струнка. И улыбается большим ртом, не стесняясь того, что виден потемневший зуб. Собиралась поставить коронку, помешали перемены.
– Ты смотри, не бросай учебу. – Баландис задумчиво оглядывает Йонаса. Может, совсем и не думает о своей аптеке, размышляет о судьбе этого парня, связывая его со своими дочерьми.
– Не знаю, как оно будет, ничего не знаю, – горько вырывается у Статкуса.
Когда шел сюда, знал, а вот теперь не видит ближайшего поворота дороги, не представляет себе, как выдержит еще четыре года. Влечет жизнь, кипящая там, где тебя нету, вот ты и гонишься, и гонишься за ней, не успевая перевести дух. Месить глину жизни, чувствовать, как она поддается твоей силе и задумкам. Каждый день, всегда. А вместо этого запорошенные пылью веков своды, проповеди преподавателей, натурщицы с отвислыми животами; а ведь за окнами каждый день иной, ну не каторга ли? И к тому же приступы тоски – родное местечко, дом на холме, шепот Дануте при лунном свете: «Целуй шею… грудь не трогай…»
– Послушай, любитель парного молока. Может, ты тоже неудачник, как и я?
Статкус встает, его большое тело, как бы распаренное теплом дома, о котором он столько мечтал, пошатывается. На что надеешься? Ведь она даже не отвечала на письма. Кончить… закрыть эту страницу… И он, круто повернувшись, уходит. Кажется, земной шар повернулся вместе с ним – деревья и крыша торчат не на своих местах.
– Не сердитесь на Дануте, Йонас. – Елена провожает его сквозь колючие, хищные туи. – Несладко ей. Снова не приняли в консерваторию. Один отцовский приятель по студенческим годам обещал замолвить словечко, а потом испарился.
Статкус молчит.
– Я все успокаиваю Дануте. Мы же, говорю, счастливые, в своем доме остались. Живем там, где родились, выросли. Где мамина могила.
Обидно, что не Дануте это говорит. Закипает злоба.
– Эй, сколько тебе лет? – Он трясет Елену за плечо. – Пятнадцать?
– Шестнадцать… скоро.
– А говоришь как старуха.
– Мне сестру жалко… и всех людей.
– А меня?
– И вас тоже… Но вы крепкий, сильный.
– Хочу быть сильным!
– Будете.
– Тогда художником не буду. Или ты железный, каменный, или…
– Понимаю. Одни выражают себя красками, другие кулаками… да?
– Откуда ты это знаешь? Из книг?
Не плечо бы ей сжимать, а погладить высокий, белеющий в темноте лоб. Нет. Неосторожно. Глаза девочки старше ее самой. И гораздо проницательнее.
– Вы не отчаивайтесь, Йонас. – Елена по давней привычке виснет на калитке, по-детски раскачиваясь, но детство ее кончилось, как и многое другое под этим небом. Над ними высится дом, который не отпускает ее ни на миг и его тоже едва ли отпустит, если не сделает он решительного шага… В каком направлении? Ах, знать бы!.. Обманчиво светится зеленоватый прямоугольник окна, обманчиво весело выводит рулады сольфеджио Кармела. – Сестра не всегда такая невыносимая. Вчера вон помогла корову доить.
– Почему она не отвечает на мои письма? – Перед Еленой не стыдно унизиться, ведь ее тоже унижают, и не кто иной – он сам. Странно, но мелькнуло какое-то предчувствие.
– Она говорит: на что мне надеяться? Пианино увезли вместе с аптечной мебелью. Дояркой или свинаркой могу стать и без диплома. Ничего не буду читать, пера в руки не возьму, так им и надо.
– А я? Что она обо мне думает?
Выпотрошили бы меня – ничего другого во мне не нашли бы. Стою голый перед ребенком… И хорошо так стоять.
– Сейчас Дануте обижена и несчастна. Но она придет в себя, поверьте, Йонас. Не сердитесь?
Все глубже в прошлое проваливается Статкус и лихорадочно пытается ухватиться за что-то прочное, чтобы не очутиться в таком мраке, откуда нет пути назад; ему необходимо, совершенно необходимо – он обещал! – написать воспоминания о вчерашнем дне, до которого рукой достанешь, ясном, как дважды два. Надо что-то делать, надо спасаться; и все же так падать – пусть это страшно, пусть против всех твоих правил и привычек, характера, убеждений – так проваливаться приятно; слушаешь давно отзвучавшие голоса, растворяешься в своей собственной искренней слезе… Неринга – вот кто может прервать это бесцельное погружение. Его Нерюкас…
Опаленный солнцем, охрипший от споров и ветра работал тогда на строительстве гигантского комбината на севере республики и совсем забывал запахи родного дома. Вырвавшись на денек, бросался, как собака, вынюхивать свои остывшие следы. Шарил в ящиках письменного стола, расшвыривал книги, одежду и не мог найти то, что искал. Пока метался, разбил глиняную вазу, в будни в ней стоял цветок, в выходные букет. Елена с траурным видом подбирала осколки.
– Где Неринга? На тренировке?
Он замерз и никак не мог согреться, отхлебнул чаю с коньяком. Знал – жена, конечно, тоже, – что перестанет стучать зубами, как только Неринга уткнется ему в грудь. Почует он ее запах, и испарится усталость, пройдет неприязнь к превращенной в хаос долине, которой еще долго суждено пребывать в таком виде, пока комбинат не впишется в природу и не станет свидетелем его усилий.
– Нет. – Елена привыкла, что он осведомляется не о ее здоровье или делах.
– Гм, не ждали?
– Нет, думали, что приедешь. Неринга еще утром объявила: «Сегодня увидим папу!»
– Постой, разве я вам звонил? Вроде бы…
Да, собирался, но все время что-то мешало, а потом зарядили дожди и котлован залило. Пришлось вытаскивать оттуда технику руками.
– Откуда же она?… – Статкус виновато заморгал. Под этим небом действуют, видимо, другие законы.
– Спроси у нее.
– Телепатия?
Елена взглянула на него, словно он был жителем другой планеты.
– И преспокойно убежала? К подружкам?
– Никуда она не убегала.
– Смеешься?
– Она у себя в комнате.
– Не желает видеть любимого папочку? Чем он провинился перед ней? Уж не твои ли это козни? Оказывается, и ты, Елена, как все… Работа у меня, проект, пойми. Попробуй не мотаться по объектам, все пойдет к чертям собачьим!
– Я же тебя не упрекаю. – Опустив глаза, Елена ссыпала в помойное ведро осколки вазы.
– Новую куплю. – Стало жалко жену, подошел поближе. Но не ощутил в себе трепета, который обычно обжигал его радостью обладания. Оба думали о том, что ваза снова будет стоять, раз обещана, конечно, это будет другая ваза и едва ли придется по сердцу. Разбитую Елена купила за несколько рублей у одного дипломника-прикладника. – Значит, у себя?
Неринга лежала лицом к стене. Фотографии Кордильер, Тянь-Шаня. Никогда не бывала в горах, но восхищается вершинами? А это что? Рысаки с выгнутыми шеями, жеребята на пастбище… Горы были и раньше, лошади – что-то новое.
– Что ж ты не просишь? Сложим вещички и – в горы. Ты и я.
– Нет, папа. Втроем.
– А может, подождем немножко и… вчетвером?
– Нет, папа. Я никогда не выйду замуж. Так люблю тебя и маму, что не выйду.
Подобный разговор был у них, когда Неринга училась еще в пятом классе. Пятиклассницы многое понимают. Почти все. Статкус присел рядом с ней, растрепанной, как-то неловко свернувшейся. Уже десятиклассница и не желает оставаться ангелочком, которого я люблю пощекотать небритым подбородком? Отвыкла от отца? Что ж, им обоим придется снова привыкать друг к другу. Статкус сидел, умиротворенный ее тихим, почти неслышным дыханием – Нерюкас тут, ничего с ней не случилось, – сидел и раздумывал, удрученный-нескладной встречей: мир необъятен, всего в нем много, один только комбинат строят сотни людей, послушных моим чертежам, однако Земля со всеми своими стройками лишилась бы смысла, если бы не было ее, этой девочки, которая появилась на свет не слишком желанной и которую я не сразу разглядел среди мягких игрушек…
Двенадцать минут протекло в молчании. Статкус заметил время. Лучше всего он чувствовал себя на строительной площадке, где можно выкричаться. Не выдержав, погладил руку дочери. Возможно, слишком неожиданно. Неринга вздрогнула, словно от удара.
– Горы заслонил туман, да?
Она сдержала дыхание.
– Что случилось, Нерюкас? По-дружески, по-товарищески, ну? – Его ладонь снова погладила ее руку, на этот раз осторожнее.
– Не прикасайся ко мне! Не прикасайся!
Он никогда не слышал, чтобы она так истерично кричала. Случалось, взвизгивала от счастья, увидев радугу. Или держа на ладони божью коровку. А тут… Откатилась в дальний угол дивана, локтем прикрывая грудь. Маленькую, пугливую грудь.
– Не трогай! Мне противно… противно!
– Так я же соскучился по своему Нерюкасу, и он мне совсем не противен. – Статкус не мог сообразить, чем это он так страшно провинился. Конечно, следовало бы звонить почаще. Он не оправдывал себя, но и каяться, бить себя кулаком в грудь тоже вроде было не с чего. Болезненное влияние матери – не иначе.
– Не трогай, не смей!.. Выброшусь… в окно выброшусь! – Руки у нее дрожали, плечи тоже, и больше всего на свете хотелось ему сейчас крепко-крепко обнять свою девочку, чтобы она почувствовала его силу, чтобы настоящие и придуманные ужасы убрались как можно дальше. Но естественное отцовское желание отступило перед этим истерическим криком. Он больше не пытался прикоснуться к дочери.
– Хорошо, исчезаю. Успокоишься? Обещаешь?
Неринга уткнулась лицом в мягкую спинку дивана. Все ее тело судорожно дергалось.
– Что с девочкой? – Статкус схватил Елену, встряхнул. – Больна? Врача вызывала?
– Она не больна.
– Что с ней? Где ты была, куда смотрела? Из-за вазы чуть не хнычешь, а…
– Не знаю, как тебе сказать… Тренер…
– Что, прогнал? Только-то и беды!
– Напротив. Хвалит. Говорит, перспективная, сулит лавры. Хорошо сложена и так далее.
– Не болтай ерунду, выкладывай факты.
– Какие еще факты? Слишком ласков… не понимаешь?
– Приставал к ней? К моему Нерюкасу?
– Успокойся. – Елена высвободилась из его тисков. – Хорошо, вовремя в зал зашли люди. Неринга и раньше мне жаловалась, что тренер ее гладит. Ну, показывая, как делать то или иное упражнение… А сегодня подкрался, когда она, наклонившись, надевала тапочки…
– Убью негодяя! Где он? Где?
Статкус хрипел, выпученные глаза ничего не видели.
– Не кричи! Еще больше напугаешь девочку. Неужели из-за этого слизняка в тюрьму садиться? Ей, как понимаешь, еще нужен отец. Я же тебе объясняю: ничего не случилось. Люди…
– Я кричу?
– Орешь! Ой, наделаешь глупостей!
Статкус выскочил на улицу.
Елена догнала, вцепилась в него. Он отшвырнул ее, бросился к машине.
– Прочь! – закричал, когда она навалилась на капот. Лицо его сквозь стекло казалось страшным.
Дорога была путаной, как никогда. Полно каких-то новых, противоречащих друг другу дорожных знаков. Хаос улиц, домов, машин. Стиснув зубы, продирался он сквозь сизую дымку, сквозь слепящее сверкание и рев. А ведь любил этот город! Теперь город был врагом.
– А, товарищ Статкус? У меня для вас хорошие новости. Ваша Неринга очень перспективна! – встретил его темноволосый мужчина с помятым худым лицом, в зеленом спортивном костюме.
– К сожалению, вы не перспективны!
Статкус ухватил протянутую ему руку клещами своей левой, а кулаком правой ударил в лицо. Тренер упал, акробатически вскочил и выругался. Он был сильным, хорошо тренированным, но и Статкус еще не забыл уроков бокса в офицерском училище. Пропустив удар, от которого зазвенело в голове, он вторично сбил противника с ног. Не даст ему подняться, будет пинать, топтать, как собаку… Ах, если бы видела это она, его девочка, свет его очей!.. Нет, пусть не видит. Пусть только знает: он будет топтать, избивать всех, кто посягнет… На свете много гнусного, но, к счастью, он не научился его бояться, никогда не трусил и не будет трусить…
– Очнись! Захотелось тюремной похлебки?
Елена. В эту минуту он ей не менее противен, не менее отвратителен, чем тренер. Об этом говорили ее глаза, да не ее – дочери! Их души умеют сливаться воедино, он же способен лишь неистовствовать и гордиться этим…
Противник воспользовался заминкой. Оторвался от пола и ударил Статкуса сразу двумя кулаками. Пришлось снова волтузить его, не испытывая большого удовлетворения, только ощущая головную боль и усталость.
– Улыбается, будто вот-вот на шее повиснет, дразнит, а потом… жалуется! – Тренер вытирал рассеченный уголок губ.
– Бедный вы, бедный, а еще беретесь учить детей, воспитывать. – У Елены серое, как земля, лицо. – Даже не предполагаете, что воспитатель способен вызвать и более благородные чувства.
– Ну и пасите сами своих сексуальных телок! – выкрикнул тренер и закашлялся, брызгая кровавой слюной.
– Я тебе попасу, кобель! – Статкус вновь замахнулся и увидел выпученные от страха темные глаза, прыгающие над разбитой губой фатовские усики.
Елена выбежала. Опустил кулак и Статкус.
Покачивались дома, небо над ними, город, недавно вставший на дыбы, освобождался от хаоса – снова тянулись аккуратные потоки машин и пешеходов, простирались реальные расстояния. Моя девочка, мое счастье, возвышенно подумал Статкус, но доброе чувство не захлестнуло. Понял, что силой кулака собирался добиться большего, чем всей своей жизнью. Хотелось, чтоб его пожалели, хотелось оправдываться: таких типов красивыми словами не проймешь! И никакой вины за собой не чувствую! Не желаю болеть чужими болезнями! Не ждите этого от меня…
Балюлисы не завтракали, как обычно, в кухоньке, весело и миролюбиво препираясь. Врозь пошамкали беззубыми ртами и работать отправились тоже каждый сам по себе. Лауринас решил поменять подгнившие доски в воротах гумна. Прежде всего снял ворота с петель, потом упорно, как дятел червячков, вытаскивал ржавые гвозди. Лицо Петронеле раскалилось от пламени плиты, кряхтя, двигала она с места на место кастрюли и чугунки, разгребала уголья. Заглянувшую па кухню Елену схватила за юбку.
– Вот обмахну гусиным пером, тогда и будешь сидеть, как барыня, – грубовато заворчала, смахивая ладонью с табуретки муку и вовсе не собираясь разыскивать гусиное перо. Да его и не было. – Теперь не бойся, не замараешь своих пестрых перышек!








