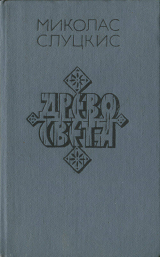
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Иду корову перевести, слышу, шуршит кто-то в траве. Думал, медянка или еж, а тут… – почти как Статкусу, доложил он. Голос неуверенно задрожал.
– Знаю я, куда ты лазил. К Каволене. В этот кошачий и собачий рассадник! – разом пресекла его увертки Петронеле.
Избенка Каволене стояла за лесочком, между механическими мастерскими и шоссе. Дырявая крыша, почерневшие стены, ни на одном окошке не белеют занавески… Во дворе лишь несколько разрозненно сунутых яблонек, зато живности всякой, собак да кошек множество, лезут детишкам под одеяло, вылизывают их тарелки.
– Чего мне туда ходить? Что я там потерял? Повстречалась Каволене, топить несла. Мирта пятью ощенилась, другая сучка ждет. Разве прокормить вдове такую ораву? – пытался Лауринас успокоить жену, крепко ухватившуюся за свою палку и трясущуюся всем телом от едва сдерживаемой ярости.
– Тащи, откуда принес. Мне собак не надо! – не стала она разговаривать. – Вон скамейку загадила. Как после этого гостя посадим, как угощать станем? – Она передернулась от отвращения.
– Так крохотный же… младенец, можно сказать. Капелька, велика беда. Сейчас выдраю эту скамью.
– Ногти лучше надрай, когда пойдешь корову доить!
– Сама дои, если мои ногти тебе грязные.
– Могла бы сама, за версту тебя к вымени не подпустила. Суставы крутит, пальцы, что зубья бороны. Еще смеяться будет… старый неряха.
– Ну и не топорщи гребешок, коли кукарекать не можешь. А мне нужна собака. Такая усадьба, такой сад, другие не одну держали бы!
Действительно, почему без собаки живут? Раньше Статкусу это не казалось странным, теперь удивился. Сад, что твоя роща, а лая не слышно? Не обязательно должна бегать овчарка. Но не лишнее – виляющий хвостом сторож. Оповещал бы, что старики живы, особенно зимой. Статкус попробовал представить себе усадьбу под снегом, но мешала вставшая перед глазами городская картина: громоздкая, исписанная непотребством трансформаторная будка, ободранные столбы фундамента – место детских игр… Истоптанный снег, ледяное крошево, и горит вмерзшая в это месиво апельсиновая корка. Нет, лучше не думать, как Балюлисы шебуршатся среди сугробов, придавленные серым, низким небом. Лучше побыть в лете. А летом что, разве плохо, если будет кататься, путаясь в траве, такой клубочек? Мягкое, милое существо, спасенное из мешка Каволене?
– Без собаки все кому не лень в сад лезут! – гнул в пользу собачонки Балюлис.
– Кто влез, кто?
– Глухая! Тебе из пушки в ухо стреляй – не услышишь! Идет кто мимо или едет, обязательно трясет. Вон все сладкие груши ободрали.
– Трясут ему. Ребенок проходил – яблочко сорвал, велика беда. Куда денешь, все равно сгниют!
– И пускай гниют. Мой сад, мой! – разошелся Балюлис, беспорядочными движениями рук показывая, сколько и каких деревьев посадил он под этим небом, когда-то опасно чужим, а теперь таким своим, что, сдается, все его измерил ногами, как землю, каждый год с задранной головой топчась вокруг деревьев – есть ли плодовые почки, не вымерзли, завяжутся ли плоды?
– Ежели твои, выкапывай и уноси! – выкинула Балюлене свою козырную карту, которую приберегала на особый случай. На сей раз ее выпад не выдавил у Лауринаса слезу, он не прекратил пререканий, и она пожаловалась на мужа жильцам: – Видали, какой? Зубы проел, а ума не нажил. Собака, видишь ли, ему понадобилась. Зверь!
– Говорю: надо, значит, надо! Плужок вон на току подхватит какой-нибудь бездельник и в лес. Чем картошку окучивать буду? Такой ни за деньги, ни по знакомству не достанешь. Брат Абеля за пшеницу ковал. Теперь такого удобного, легкого никто не сделает. Вон их теперь сколько, бездельников да воров, развелось!
– Не води дел с Каволене, никто твоего плуга не тронет! Абеля, покойника, вспомнил… Хорошо, что вспомнил, – не лезла за словом в карман Петронеле, и вся усадьба, казалось, вторила ей. – Только все ли вспомнил? Все ли?
Статкусы кивали и тому, и другому, но в мелодии тишины действительно не хватало одного мотива – собачьего лая. Неожиданным был и другой мотив – гнев Балюлене, ее ненависть к собакам. Тем более что на этой усадьбе собак прежде держали. Возле дровяника торчит полусгнившая конура.
– Чтобы тут и духу ее не было! – Палка хозяйки стукнула по скамейке, щенок задрожал и взвизгнул.
– Как же я верну? – пал духом Балюлис, выпросивший у Каволене щенка. Удар палки предупредил строже, чем слова: будет, как сказано. Ласково шептались листья на деревьях, им посаженных и выращенных, однако грудь снова холодела от пустынности чужого края, от которой некогда, теперь уже в незапамятные времена, отбивался он коровьей цепью. Не дождавшись сочувствия, покусав губу, пригрозил: – Пожалеешь, баба, что прогнала. Не хотела ласкового щенка, злого пса заведу… Зверя, как ты говоришь!
Балюлене не шелохнулась. Стояла темнее ночи, как не зазеленевшее после зимы дерево, которому чужда любая радость, чужд шелест липких, едва раскрывшихся листочков.
– Куда ты меня тащишь? – ощетинилась Елена, которую уводил муж.
– Домой. Останутся одни, скорее разберутся. Старики.
– Они не старики.
– Что? Мы с тобой старые, а они…
– Мы – да. Они – пет.
– Что с тобой, Елена? – Статкус удивлялся все сильнее. И ее словам, и ее нетерпению.
– Ничего.
Гвоздь вонзился в покрышку, и вонзился не сегодня, не вчера, а давно, когда еще катило колесо по большим и малым дорогам…
После длительной командировки возвратился он до смерти уставший и как-то необычно истосковавшийся, больше всего по щебетанию Нерюкаса. Бранил погоду, которая была ни при чем, снабженцев и прорабов, а в действительности гнал прочь раздражавшее ощущение, что полные напряжения и суматохи дни сгорают, оставляя после себя лишь горстку пепла. Дочка не выбежала навстречу, была у учительницы музыки.
– Что, у нее, шельмы, музыкальные способности? – Елена ждала, пока муж нашумится, и спокойно готовила ужин. Сидевшего без дела Статкуса вдруг кольнуло подозрение: его дом, которым так приятно гордиться и который он ничтоже сумняшеся выключает иногда из своей жизни, как выключают электричество, может измениться, перестать быть тихой, залечивающей все раны пристанью? – Ты интересовалась? У нее действительно способности?
– Учительница говорит: абсолютный слух.
– Что, им не хватает вундеркиндов? – Хотелось взять реванш, расшатать в доме, где он всего лишь гость, единовластие Елены.
– Музыка не помешает. Уж лучше музыка, чем…
Все внимание Елена сконцентрировала на носике чайника. Оттуда цедилась густая ароматная струйка, пахнущая забытым домашним уютом. Неужели все ложь – и красивая сервировка, и тоскующая по нему Елена?
– Что еще? Не слишком ли много сюрпризов?
Схватил ее руку, струйка брызнула на стол.
– Прости. – Она бросилась вытирать, менять салфетку. – Может, и сюрприз, Йонас, только не знаю, приятный ли.
– Говори прямо. Что случилось?
– Не знаю, должна ли дурить тебе голову. Видишь ли, она…
– Можешь не дразнить? Устал как собака! – Он закрыл глаза, выдавая, что не столько устал, сколько раздражен.
– Не волнуйся. Девочка здорова. Она…
– Что с ней? – Статкус догнал ускользающий взгляд.
– Ничего. – Небрежный жест Елены подчеркнул, что не все тут подвластно его настроениям. – Почти ничего. Помнишь? В последний раз сели вы с ней рисовать, и она твоей ручкой играла. Так вот: с тех пор так и не выпускает ее. Рисует ею картины, не позволяя мне притронуться. Это папины картины! Разговаривает, советуется с тобой, словно ты сидишь рядом, закрывшись газетой. За столом. – Елена тихо усмехнулась, призывая усмехнуться и его, – требует, чтобы я ставила прибор и для тебя.
– Не может быть…
Горло сжала радость – мой, мой Нерюкас! – и сразу же спустилась под сердце комком страха. Холодным и влажным, как побывавшее в чужих ладонях мыло.
– Я никогда не лгала тебе, Йонас…
– …но подготовила сюрприз? Ты, ты ею прикрываешься! Думаешь, я не понимаю? Не можешь придумать, как бы покрепче меня привязать, приковать…
– Я? – Елена прижала ладонь к губам, жест из прошлого, из тех времен, которые уже ничего не могут дать, разве покачаешь головой, вспомнив: какими глупыми были, начиная совместную жизнь, какими по-детски неопытными, хотя уже и не первой молодости.
– Ладно, ладно, но скажи, что делать? – проворчал Статкус, извиняясь за истерические нотки.
– Ничего. Думаю, ты достаточно сильный, чтобы вынести любовь единственной дочери.
– Да, черт побери, да! – Но уверенности, что странности дочери не выдумка Елены, не было. Уже давно подозревал: какая-то часть сущности жены должна ненавидеть его независимо от ее воли, от продолжающей действовать привычки сохранять рабскую покорность ему. – Только не травмируй девочку, не заражай ее своими комплексами!
– Не понимаю. Какие такие комплексы? Объясни.
Ее лицо приблизилось, стало большим, невыносимо откровенным. Не то что ненависти, даже неприязни нельзя усмотреть на этом лице, и надо было отпрянуть или хотя бы откинуться назад, если бы он вдруг захотел ударить по этому лишившемуся тайн и все же таинственному, раздражающему своей бесконечной доверчивостью лицу.
– Не понимаешь? Глянь в зеркало – увидишь! – выпалил он, словно нечто остроумное, и рассмеялся, а внутри все оцепенело от еще различимого мерцания предательской мысли. Ударить? Ее? Это же все равно что ударить свою мать, которой давно нет… И все-таки ей тоже… следовало бы стать более гибкой. Да, да, но с каких это пор недостаток гибкости – комплекс? Он горько усмехнулся уже над самим собою.
Ни прыжков через ступеньки, ни шумного дыхания, хотя приближается Нерюкас, свет его очей. Вот уже она в дверях, несколько запыхавшаяся, с потными волосами. Но где животворный крик: папа, папочка, папуленька, который пронизывал его всего, поднимал над землей?
– А, папа, – она улыбнулась глазами и тут же потупилась, будто увидела не его – другого. Постояла на одной ножке, не решаясь ни подбежать, ни как-либо иначе выразить свои чувства, и на ней же упрыгала на кухню. Зашумел кран. Долго и жадно пила воду, словно утоляла иную жажду. Нисколько не соскучилась? Вот тебе и сюрприз… Чуть не бросился за ней – сдержался.
Стесняется? Слишком горда, чтобы по-детски качаться на отцовском колене? Нет, нет, тут что-то другое! Не хочет милости, говоря по-старинному, подаяния? Желает сделать ему больно, чтобы саднило? Как бы там ни было, но пришлось удовольствоваться взглядом, предназначенным тебе, равно как и Елене, а может, вазе с печеньем. Что-то изменилось в ней, в ее больших голубых глазах. Не отказываясь от прав на него, она сумела отгородиться. Девочка устала – школа, музыка; настроения подростков, как порывы переменчивого ветра. Так что же меня огорчает? Надо радоваться – пошатнулся чрезмерно взлелеянный культ отца. Он как мог утешал себя, помешивая ложечкой остывший чай, спеша наполнить дом своим существованием. Бежит время, дочь растет быстро, и кто знает, каким в ее детских глазах запечатлевается образ отца. Поймет, наверняка поймет, – во имя семьи я жертвую всем, забываю себя и ее. Не сомневаюсь – поймет! Теплая волна унесла дорожную усталость, и он почти нежно притянул к себе Елену, так и не объяснив, что такое комплексы.
Балюлис не сказал, куда ходил. Покашливал и испуганно прислушивался – легкие у него были не особенно крепкими. Встревожившаяся Петронеле заварила чай. Балюлис подул на чашку, пахнущую малиной, и вытащил из тумбочки бутылку – она стояла початая со дня приезда Статкусов. Выпил маленькую рюмку, разохотившись – вторую. Стало жарко, вышел на воздух проветриться.
– Посидим, – поманил жильцов, пошлепав распухшей ладонью по скамье, уютно поблескивающей под лучами закатного солнца. Забрызгав розовым небосклон, большое солнце падало в ельник, из усадьбы механика доносились визгливые звуки. Электропила? Все-таки смастерил, как и собирался? Обобьет дощечками стены, расширит окна, чтоб изба и без электричества светилась. – Не сбежал в город за сладкими пирогами и не жалеет. Будет жить не хуже, чем в Паневежисе, – похвалил Балюлис механика, чье озабоченное личико бесовски поблескивало под крышей тракторишки. Стариковскую похвалу пронизывала горечь – собственные дети не зацепились за землю.
– Отпугивает от деревни тяжелая работа. Раньше всех встаешь, позже всех ложишься, – заступилась за крестьян Елена, вспомнив детство.
– Человек без работы всюду ничто. – Не город грыз сердце Балюлиса. – Поносил, погрел за пазухой, глядишь, и отцепиться не хочет, коготки выпустила, – не выдержал, вспомнил собачонку. Статкус прислушался: сунул в безжалостные руки Каволене, задобрив трехрублевкой, или сам бросил в воду? – Живое существо, что дитя малое. Только дитя вырастет и умчится с ветром, а собака льнуть будет к тебе, пока не околеет…
Теперь Балюлиса было жалко. Подрагивали на коленях натруженные, отдающие землей и сеном лопаты, неужели ими убивал?
– Было время, и я держал собаку! – внезапно распрямился и выкрикнул он, да так, что даже грудь загудела. – Не просто собаку – овчарку. Видели бы вы только этого пса! – И вот в полумраке распускает хвост иной Балюлис – любитель похвастать, лихой наездник, бравший в уезде первые призы на скачках. – Цепь, как нитку, рвал!
– Со злой собакой и хозяевам беда, – вклинилась было в разговор Елена (в детстве разных собак насмотрелась), однако Балюлис не позволил.
– Скот у меня был что надо. Если лошадь, то жеребец, производитель, если собака, то овчарка. Настоящий волк. Волком и звал. Стоило крикнуть: «Волк!» – на брюхе приползет, а клыки, что твои вилы.
– Куда же наш Волк подевался? Подох? – Елену интересовала не столько овчарка, сколько маленький дрожащий щенок.
– Застрелили! Всех нас тогда чуть не постреляли! Чего глаза пялишь? Рассказывай, хвались, старик! – грянуло с крыльца.
Это Балюлене, соскучившаяся по голосам или гонимая своей тревогой, выползла во двор, который пока не был охвачен мраком, сдвигавшим в кучу строения и заполнявшим просветы между деревьями. Утварь и всякие другие предметы, разбросанные по усадьбе, уже не бросались в глаза, но еще трепетала красная, отколовшаяся от солнца полоска, как раскаленное железо, брошенное остывать над зубчатыми елями могучей неземной силой, будто напоминание о страшных бедствиях, которые то ли поблекнут в высях, то ли, наоборот, упадут к ногам и подожгут землю. Нежная, твердая рука взяла Статкуса за локоть и потянула за собой, словно осенью сорок седьмого, когда он, скаля в улыбке зубы, ввалился в дом ее родителей, тоже стоявший на высоком месте в окружении густого сада. Однако и тот дом был беспомощен перед железным гребнем времени. Потянула, и он успел сообразить, что тосковал не по этой руке, когда спешил туда по пустым, вымершим полям, хотя ей, этой руке, бесконечно доверяет. Был немного разочарован, но не огорчен – придет время, и встретит та, пусть потом в доме, при свете безжалостно станет над ним издеваться. По правде, даже доволен был, что пожатие в темноте не роковое. Чему я тогда радостно улыбался? Радовался, что свободен, как ветер, и все, в том числе и исполнение мечтаний, впереди? Что влечу, пощебечу в ритме «Марша энтузиастов» и улечу прочь – птица не сего гнезда? А она, которую обещал когда-нибудь увлечь в пьянящие просторы, та птица, сумеет ли она взлететь и парить? Об этом совершенно не думал. У Статкуса заколотилось сердце, будто и теперь, в этот самый миг, гребет он по жизни, ведомый бессмысленной отвагой.
Не почувствовав ответного тепла, Елена отдернула руку. Он пришел в себя и не очень расторопно дотронулся до нее, уже не девочки – женщины, к которой испытывает нечто гораздо большее, чем доверие, хотя уже не понимает порой ее простейших слов и жестов.
– Нашел время, – осудила шепотом, смахивая со своего колена его руку, будто не первая попыталась пробиться сквозь заносы времени.
– Выкладывай, старик, все, как было, коли начал! Язык проглотил? Что-то больше тебя не слышно, – упорно и как-то радостно подначивала смущенного Балюлиса Петронеле. Она не собиралась садиться с ними, покачиваясь, бродила вокруг, и высоко над головами сидящих колыхался колокол гнева – одно слово неправды, и посыплются громящие удары.
– Ишь ты, электропилу заглушаешь, труба иерихонская! – посмеялся было Лауринас, а когда она сурово махнула рукой, ничего лучше не придумал: – Голос велик, а умом и трубки не набьешь.
– Застрелили! Собаку застрелили и нас могли бы… как твою собаку!
Ткнув Лауринаса локтем, чтобы подвинулся, старуха плюхнулась рядом. Откинулась, касаясь затылком теплой стены дома, дрожащие руки сложила на палке и впилась глазами – хорошо видящими глазами! – в красную, начавшую уже тускнеть и крошиться на куски полоску на западе.
– Не слушайте, что баба болтает, – пытался обесценить ее слова Лауринас. Не удержавшись, шепнул ей на ухо: – Приснилось тебе! Путается у тебя в головушке!
Петронеле не обращала на него внимания, отворачивала голову, как от надоедливой осы. Ей не надо было ничего слышать, не надо было ничего видеть. Волк все еще оставался для нее живым, и его убивали. Собака с разинутой пастью, закусившая огонь… Прыжок, мужская ругань, и тут же – ни пса унять, ни перед гостями извиниться не успела – три выстрела. Громкое эхо прокатилось по полям, заставляя вздрагивать сердца под соломенными крышами и холщевыми рубахами, – избы еще были крыты соломой, а люди еще носили холстину. Не раз и Балюлисам пронзали сердце выстрелы в темноте, и они гадали, где и почему стреляют, но грохот раздавался где-то в другом месте – то в соседней усадьбе, то в Шпионской роще, а теперь вот порушили тишину их двора, и, кажется, надвое разорвана их жизнь. Как рухнула собака, оглушенные грохотом хозяева не слышали. Увидели уже лежащей на боку. Пламя ее ярости превратилось в вываленный, не уместившийся в пасти язык. Балюлис опустился на корточки, чтобы погладить, поднять. Хлынула кровь, он отпрянул. Заставил себя оттащить Волка в сторону, чтобы чужие не топтали теплую кровь. А может, чтобы не окровавились белые поленья, как бормотал он ночным гостям, – днем наколол и не успел снести в сарай. На дрожащую руку, гладившую мертвого пса, наступил кованый сапог.
– Нарочно науськал? Сознавайся!
– Что вы, что вы… – скорчился Балюлис в капкане.
– Собаками травишь, Балюлис?
– Что вы, гостюшки, – бормотал он, не поднимая головы и избегая смотреть на собаку: поднималась тошнота, как бы не заблевать черные хромовые сапоги! – Уж такая настырная собачка, и все.
Капкан отпустил руку, Балюлис даже не решился растереть кисть.
– На мужиков, всегда на мужиков бросается, – с трудом ворочал он пересохшим языком. – На ребенка и не тявкает. Бабу тоже не схватит, но шевельнуться не дозволит. Раз соседку полдня продержал, пока мы из костела не вернулись…
– Костел вспомнил. Набожный, вишь, а гостей собаками травит.
Ночные гости все знали про Балюлиса. Не был он набожным, лишь по большим праздникам выбирался в костел для отвода глаз или чтобы упряжку, лошадь свою показать. Иное дело Петронеле, у нее в костеле постоянное местечко было откуплено.
– Настырная собачка, на мужиков бросается… – упрямо твердил Балюлис. – Разве ж я нарочно, вон на проволоке держу, не спускаю!
– Не заливай, Балюлис! Сам настырнее пса. Уж больно высоко нос дерешь. Всю жизнь больно высоко.
– Так я ж, гостюшки, никому ничего…
– А ну марш к стенке!
Он не понял команды, хотя в свое время был на военной службе; один из подручных отдавшего приказание – все лица виделись, как сквозь туман, – толкнул его в спину чем-то твердым. Балюлис покачнулся и чуть не упал, попав каблуком в липкую кровь уже холодеющей собаки.
Петронеле, еще прыткая тогда женщина, бросилась целовать властно указующую руку.
– Пощадите, барин! Во имя бога отца, бога сына и бога духа святого! Его тут ничего нет, ничегошеньки… Меня… меня накажите! Примак он, все знают, что примак! Не хозяин… Я… меня…
– Правду баба говорит, – заступился за нее голос, привычный лошадей понукать, а не людей пугать. Человеческая нотка наполнила Балюлене надеждой, как весна наполняет соком березу, и, стремясь разжалобить гостей, она не переставала поносить мужа:
– Не стой, как столб! Моли, проси…
– Слыхал, что баба говорит? Заруби себе на носу! Думаешь, хам, погарцевал в уезде на кляче, так можно теперь никого ни во что не ставить?
– Так я же ничего… ничегошеньки… – Балюлис едва шевелил онемевшими губами, трусливо отрекаясь от завоеванного потом, умом и отвагой права называть этот дом своим домом, это мглистое, иногда сверкающее ко всему равнодушными звездами небо своим небом. Снова лоб и щеки обожгло дыхание чужого края, снова сковали ужас и холод, будто не он чуть не на цыпочках обихаживал каждое деревце, собирал звезды, как другие калужницы, и складывал их в Большую и Малую Медведицы, в Млечный Путь. От множества деревьев, от их говорливого роста веселее светилось огнем небо, а светлее всех – Утренняя Звезда, издалека приманившая в этот край, столько всего сулившая… Сверкнула и погасла его звезда в мертвом, остекленевшем собачьем глазу.
– Выскочкой ты был, выскочкой и остался. Собака – предупреждение тебе, деревенщина!
Балюлис кивал головой, не переча грозному голосу, даже шея заболела, и не глазами, затылком узнал наконец в заросшем щетиной лице другое – чисто выбритое, с царапающими, как железная гребенка, глазами и перебитым широким носом. В свое время неосторожно нагнувшегося владельца этого лица угостила копытом норовистая кобыла. На скаковой дорожке этот человек жег ему затылок свистящим, выдающим страшное презрение дыханием и грязной руганью. Прочь с дороги, гад, нищий! Падаль твой жеребец, и сам ты падаль! Тогда Лауринас подпускал заливающегося потом и задыхающегося от проклятий соперника совсем близко, почти на полкорпуса. И тут взрывалась под ногами Жайбаса земля, взвивалась пыль, и словно кто-то отбрасывал назад сквернословящий рот – в сторону старта, не к финишу. Там, где Балюлису доставались первые призы, этот тип, прильнувший к шее рысака, вынужден был довольствоваться остатками. Балюлис скакал на орловце-полукровке, соперник – на немецком тракене, выписанном из Ганновера, однако очевидное превосходство кровей не спасало последнего. Поставить бы обеих лошадей рядом – тракен Патримпас победил бы по всем статьям: и высоким ростом, и гордой посадкой головы, и отличным каштановым окрасом. Но на дорожке Жайбас – маленький степной повеса – бывал послушнее и точнее. Его грива и хвост развевались, как крылья. Достаточно было шепота, чтобы он исправил ошибку, решился прыгнуть, зависнуть над внезапно возникшим препятствием. «Вперед, Жайбас!» – и он легко, грациозно подогнув тонкие ноги, перелетал барьер. И не приходилось Балюлису оглядываться: не сбита ли планка, вперед, к цели! Во всем остальном хозяин тракена был первый, и не один или два дня в году. Уволенный из артиллерийского полка за спекуляцию лошадьми, женился он на дочери хозяина электростанции, другими словами, на больших деньгах. Разочаровавшись в тракене, выпишет коня другой породы! Тем более что у тракена одышка. Не только Балюлис слышал за спиной хрип взбешенного наездника. Слышали и другие, но кто осмелится сказать это в глаза высокомерному барину? Уступали ему дорогу все, кроме крестьянина, примака в серых, из домотканины галифе.
– Смотри, Балюлис, кончай свои фокусы. Еще раз перебежишь нам дорожку, не пожалею пули. Как твоему Волку. Ну, мужики, вперед. Яблок никогда не пробовали, что ли? Вперед, говорю!
– Ржавое сало жрем, а тут такие яблочки, Балюлисовы, – отозвался спокойный пахарь, предотвративший экзекуцию. Теперь он смачно хрустел яблоком, и разносились милые, человеческие звуки. – Не повредят людям витаминчики, господин Стунджюс.
– Я тебе не Стунджюс, а командир!
Стунджюсу, и никому другому, он, Балюлис, вечно встает поперек пути, застревает костью в горле. Уж теперь бы Стунджюс свел с ним счеты, кабы не этот пахарь… этот Акмонас. А ведь тоже, словно муха в сыворотку… Храни его бог, хороший человек… Балюлис стоял и смотрел, как побрели прочь вооруженные, укрытые туманом. Светлело небо, среди деревьев плавали белые комья тумана, пропахшие окровавленной щепой, и превращались в лишенные запаха, прозрачные тени, которые сольются с тревогой будущих дней и ночей, даже с забвением далекого будущего, чтобы внезапно ожить во сне первозданным ужасом или открыть свою мрачную тайну постороннему человеку.
– Да, настрадались люди, – сочувственно поддакнула Елена, мысленно побывавшая в другой, похожей усадьбе, стоявшей среди болотистой равнины на единственном во всей округе холме. Босые и озябшие ноги, волосы влажны от росы и дождя… Нет, нет, отмахивается Статкус, усмиряя колотящееся сердце, нет там больше ничего, лишь небо, какое было, простирается над местом той усадьбы, а на земле, среди широко колышущихся полей торчит сгнивший сруб колодца, груда камней да куст одичавшей сирени. Из окна автобуса узнает она следы своей, и его юности, путано переплетенные. Вот камни… наши камни, шепчет она, когда кругом мерцают бесконечные поля, деревья, дома и стада коров; и он никак не может понять, каким это образом Елена отличает свои камни. Может, это чужие, не их? Может, там могила, в которой никто не похоронен или похоронены чужие останки, высматриваемые кем-то другим из другого автобуса, несущегося по тому же маршруту Вильнюс – Паланга? Когда-то здесь был холм, ныне – бугорок среди широких осушенных полей…
– Да не слушайте вы Петроне. Наплела, напугала, не уснете теперь, – словно очнулся наконец Балюлис и заскрипел прочно сколоченной скамьей. – И не особо страшно-то было. Подумаешь, пса застрелили. У других вон головы летели, усадьбы горели! Не рассказывала, как ее обливную тарелку разбили?
– Какую еще… тарелку? – разинула рот забывшая обо всем, кроме собаки, Петронеле.
– Какую, какую. Да зеленую же, с отбитым краем. С ярмарки я ее тебе в подарок привез.
– Ишь, какой смельчак! В подарок привез. Даритель! Раскукарекался петух на навозной куче! – Балюлене встала, стряхнула его слова вместе с сухим листком, упавшим с яблони ей на плечо. – Сколько я из-за него горюшка хлебнула, а он меня расписной тарелкой попрекает… Эх, старик, старик! – И ткнула в мужа узловатым пальцем. – Чего же до сих пор собаки не завел, ежели никого не боишься?
– Слыхали, слыхали? – Балюлис расхрабрился. – С руганью щенка прогнала да еще издевается… Заведу! И не такого!
– Я те заведу!.
– Вот, ей-богу, приведу пса! – божился Балюлис. – Сад как лес. Соскучился по собачьему лаю, кажется, сам скоро залаешь.
– Ты и так дни напролет тявкаешь! – кольнула Балюлене.
– Это ты, ты всю жизнь тявкаешь. Кончено, теперь будет гавкать пес!
Оба подбоченились и ни с места, словно в их жилах все еще текла горячая кровь и по-прежнему было важно, кто возьмет верх – дочь крепкого хозяина, унаследовавшая целый волок, или один из сыновей многодетной семьи, примак-голодранец. Словно перед ними разлилось море времени и не дошли они еще до порога, за которым подобает уняться, сдвинуть плечи и радоваться последнему теплу дарованных мгновений. Неужели жизнь этих старых, но еще не дряхлых людей продолжает катиться в будущее, хотя все, казалось бы, умещается в прошлом? Один все еще строит какие-то планы, а другая упорно противится им, будто не все равно, залает ли собака в этой усадьбе или нет. Да и долго ли проживет здесь какой-нибудь Саргис или Кудлюс, если в один прекрасный день и притащит его Балюлис? Уже вечерняя зорька, да что там зорька, последние закатные сполохи догорают. Или Балюлисы не поднимают глаз в небо?
Темнота беззвучно прихлопнула последний светлеющий прямоугольник окна. Одним ударом срезанная, исчезла отягощенная антоновкой ветка. Это Лауринас погасил свет, выключил свой приемничек и забрался на узкое, с потрепанной обивкой ложе. В противоположном конце дома – в маленькой боковушке возле горницы – вертелась с боку на бок Петронеле. Помолилась, свела все счеты с минувшим днем, однако нет-нет да и не выдерживала:
– Собаку, вишь, заведет!
Или еще короче и тягостнее:
– Со-ба-ку!
Сквозь густую листву пробивались яблоки. Статкусы с опаской ловили привычные звуки, на которые уже было перестали обращать внимание. Может, заглушат они все дружнее всходящий посев тревоги? Не прислушиваясь, слышали, как лопаются, проклевываются ядовитые семена, дождавшиеся своего часа, как прорастают сквозь трещины времени терпко пахнущие сорняки. При свете дня цветов мрака не разглядишь. Запах выдает их больше, чем разгоревшаяся из-за щенка ссора двух стариков, крепко друг с другом спаянных, ни огонь, ни железо не разъединят, не разлучат, разве что могила.
– Не соскучился еще по дому? Может, поехали, а? – вырвалось у Елены, когда Петроне снова громко помянула собаку. Голос жены был не глухим, а чистым и молодым, лишь слегка подрагивал от страха: как бы неожиданно свалившийся со своего поднебесья Йонас Статкус не исчез вдруг, словно порыв ветра, растрепавший зацветшие в саду астры.
Голос бывшей Елены, хитро от него прячущейся, так хитро, что он давно поверил в исчезновение той, изначальной. Ее тогдашние слова он, к сожалению, забыл. В ту пору, когда она звонко ворковала, у Статкуса не было своего дома и он не испытывал по нему тоски. Однако и летуну необходим уголок, где бы его ждали, где ловили бы каждый его взгляд и слова, не ставшие плотью, ценились бы не меньше, чем воплотившиеся. Свой плащик, несколько книг и блокнот с рисунками швырял он где попало, чаще всего в общежитиях. Трепетание юного сердца, какие-то неясные обольщения и разочарования – были и они, хотя он больше жил будущим, чем настоящим днем – настоятельно требовали внимательных глаз, элементарного сочувствия. Впрочем, тогда так не думал… не понимал того, что понимала она, хотя была много моложе. Долгое время была она для него не Еленой – просто осколком доброжелательного, льстящего самолюбию зеркала, в котором видел кого-то похожего на себя и, разумеется, лучшего.
– Что ты сказала?
– Ничего, спи.
Елена зевнула, а ему нужен был ее бывший голос, вздох несозревшей еще груди. И впрямь существует не только нынешняя, толково организующая его быт женщина с белым перышком возле пробора? Молоденькая, пугливая и отважная Елена – Олененок – тоже жива? Не дай ей ускользнуть, исчезнуть!.. Тогда не приходилось гоняться за нею. Возникала на дороге, как твоя тень… Вот на базарной площади… Под раскидистым каштаном, заменяющим их местечку зонтик. Йонялис Статкус притащился на расхлябанном, работающем на чурках грузовичке. Вместе с железной бочкой керосина и ящиками с мылом. Маленькое, серое, побитое войной местечко, и девочка, радующаяся малости, поблескивающим в горсти каштанам. Она зарделась, застигнутая врасплох, каштаны рассыпались.








