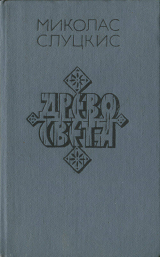
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Вам, кажется, сполна заплачено? Этим сказано все, не так ли?
– Она меня выгоняет? Кто такая? Я не потерплю… Ах ты, грубиянка! – завизжала дама. – Да знаешь ли, кем был мой муж? Академиком! Меня никто не смел обижать, никто!
– Не кричите, пожалуйста, – поспешил па помощь жене Статкус. – В доме тяжелобольная.
– Больная? Чем болеет? Может, тиф? – ужаснулась дама. – Неудивительно, всюду грязь… Виктория, Иоганнес, поехали! А ты, старик!..
И, бросив собаку, она побежала к машине.
Следом плелась Виктория с Иоганнесом.
Лауринас смотрел на свежую колею и бормотал:
– Пустяки, мне и не такие грозили… Пустяки!
– Поехали, Балюлис!
– Куда, господин Стунджюс?
– Форму, винтовку в охапку и!..
Стунджюс не на жеребце верхом – на мотоцикле, и не один – в коляске парень в гимназической шапочке. Жарища. Оба подвыпивши, с белыми повязками на рукавах.
– Так я…
– Ну и ну! Как сыр в масле катаешься. Не скажешь, что босяцкое хозяйство – барское имение! Обсажено все, ухожено… Но выше пупа не прыгнешь, Балюлис, и не старайся! – На минуту Стунджюс забывает, зачем явился. Сползает с мотоцикла, пружинит на кривых ногах наездника, озирается по сторонам, прищурив глаз. – Ну, поживей!
Не только на треке преследует лохматая голова Стунджюса, этот прищуренный глаз. Кажется, слышно, как ржет его конь, норовя куснуть Жайбаса. Гнался и вот догнал, хотя и не свистит в ушах рассекаемый воздух.
– Так я же… мне…
– Не отговаривайся, Балюлис. Родина зовет, мы должны защищать ее.
– Так я же… Косу вон отбил.
– Отставить разговоры! Думаешь, мы в игрушки играть собираемся? А еще обходил меня, шельма. Не очень-то легко бывало обойти, а?
Для него и теперь скачки – кость в горле, отхаркивается, а выплюнуть не может. Всего добился, всего вдоволь – с верхом, сполна вернул, что в сороковом власть отобрала и раздала беднякам! – но быть первым на скачках не довелось, и многие видели, многие помнят, как он с досады своего тракена по морде лупил. Если бы еще равный нос утер, а то ведь лапотник, если бы на чистокровном рысаке, а то ведь на метисе, из плуга выпряженном! Многие знают и про то, как сошлись они однажды в базарный день… Оба без коней, Стунджюс в шляпе и Балюлис в шляпе, посредником подвыпивший Акмонас. Стунджюс чуть не на коленях молит уступить Жайбаса, полторы тысячи сулит и серебряный портсигар в придачу, у Балюлиса усики дерг-дерг, деньги нужны, да как такого быстроногого, такого прыгучего в чужие руки отдашь. Уселись вдвоем, вернее, втроем под пальмой в ресторане «Три братца». Стунджюс заказал дорогие кушанья и ликер, Балюлис белую и селедку, пьет много один Акмонас, мешая белую с коричневым медовым ликером, дразнит попугая, привезенного хозяином из Каунаса. Дряхлая птица кричит «дур-рак!», соперники, трезвые как стеклышко, бледные, прячут сталь взглядов под тяжелыми веками. Стунджюс: «Продашь, Балюлис, я тебе заем в банке выхлопочу, земли гектар-другой прикупишь». Балюлис: «Не совсем я еще круглый дурак!» Хорошо бы, конечно, пахотной маловато, когда сад добрый гектар занимает, но коня в чужие руки, в безжалостные руки, мысленно добавляет Балюлис, а Стунджюс снова свое: «Не продашь, шиш в банке получишь – не заем! Последним дураком будешь!» Заколебался Балюлис не тогда, когда ему угрожали, а тогда, когда Стунджюс ни с того ни с сего проговорился оттаявшим, не покупкой озабоченным голосом:
– Эх, Балюлис, Балюлис. Смотрю я на тебя и думаю: счастливый ты человек, так бы и поменялся с тобой местами!
– Несколько гектариков песка – не сладкий пирог, господин Стунджюс.
– Не называй ты меня господином. Думаешь, большая радость чучело вместо жены?
Не чучело, высокая худая женщина с горячечным, пронзительным взглядом. Никому ни «здрасте», ни «до свидания», но, повстречав детишек, кидается к ним поговорить, приласкать, сладостями угостить. А те, схватив конфеты, бегут прочь от горящих глаз, от тонких пальцев с поблескивающими красным лаком ногтями. Чего только не мелют люди от зависти к свалившемуся в золотую яму Стунджюсу. У его жены, мол, под шелковой косынкой колтун… Тьфу, просто баба по детям тоскует, потому что нет у них, а волосы, если распустит, красивые, темные, шелковистые! И все-таки жутко было бы возле такой, мелькает у Лауринаса, видел он ее как-то на опушке леса с этими красивыми блестящими распущенными волосами… Бежала, разметав пряди волос, и выла «и-и-у-у-а-а!». Что причинило ей такую смертельную боль, почему так бежит, так страшно рыдает? Не успел подойти, спросить, что стряслось, не укусила ли бродячая собака, примчался в бричке Стунджюс, с помощью батрака поймал жену и увез.
Съежился Лауринас и, впрямь почувствовав себя счастливым, совсем уж было собрался ляпнуть: «Если так надо – берите лошадь», – но Стунджюс расхохотался.
– И тебе, конечно, не во всем позавидуешь. И ты небось на свою-то подушку бросаешь, когда… ха-ха!
Это он про Петронеле так?! Мне она по душе, пусть не всегда к ней хорош был, смеяться не позволю!
И нашла коса на камень.
В дым пьяный Акмонас метался между ними, пытаясь связать оборвавшуюся ниточку переговоров, пока с копыт не свалился, а они расстались еще большими врагами, чем встретились. Правда, прощаясь, Стунджюс помедлил, стояли они уже на ступеньках, лицом к лицу, разгневанные, окруженные любопытными, которых привел сюда слух, что Балюлис продает Жайбаса.
– Через год за твою лошадь и тысячи не дадут. Ты, Балюлис, богач, не я. Такие деньги – в болото!
– Мой Жайбас, мое и болото, господин Стунджюс.
– Ты, ты господин, не я. Как благородного человека, покорно прошу… Так что?
– Да нет…
Балюлис видит, как дернулся на шее соперника кадык, как в потемневшем глазу загорелась мстительная искра. Видел, хорошо видел – и двух стопок белой не выпил, – что Стунджюсу не рысак нужен, хотя именно его торгует, а что-то такое, чего у него нот и быть не может, а ведь денег и власти по горло! На миг стало жаль соперника – тоже примак, как Балюлис, правда, в пуховые перины свалился, а не на полволока супесей, но тоже никогда не будет полноправным хозяином, хотя на деньги, полученные в приданое за нелюбимой женой, все, что душеньке угодно, может купить. Вновь и вновь приходится человеку доказывать себе, что власть его настоящая, невыдуманная, что он, вчерашний изгой полка, не бесправный примак, а всеми уважаемый деятель и командир уездных стрелков. Может, ему вовсе и не нужен Жайбас, может, плевать ему на метиса, потребуется, английского или арабского скакуна выпишет, но все равно гнет его, Балюлиса, в бараний рог, готов и заискивать и угрожать. Как человек человека Лауринас понимает его, но ведь и ему Жайбас не просто любимый конь, жующий сено и лишь перед состязаниями получающий сырые яйца из тех, что теща копит для базара. Уступив, не отдашь ли тем самым и этого своего права стоять как равный с равным на ступеньках ресторана? Не отдашь ли вместе с конем красотку в вуалетке и все, что после того было и не было, пусть пользы от твоих художеств как с козла молока? Человек не скотина, сеном не накормишь! Отдав коня, сердца бы себя лишил… так что понимаю тебя, Стунджюс, но и себя мне жалко…
– Язык проглотил, Балюлис? – Насмешливо-жесткий голос возвращает в лето сорок первого, когда утомленные жарой деревья низко клонили свои ветви и слышно было, как шуршит ржаное поле. Стунджюс без фуражки – жарко, – но ремнями перетянут и револьвер на поясе; что, не будет больше соблазнять ссудами и портсигарами? Куда больше уверен в себе – не блеснет искорка слезы, не жди! – хотя и по сей день не забыл он того унижения.
– Так конь… не подкован. Может, завтра! Послезавтра?
Конь? Перекосился Стунджюс, заскрипели его ремни: опять колет глаза своей проклятой клячей? На полторы тысячи наплевал, так теперь невесть что из себя изображать будет? Ну, покажу я ему, как таких гордецов укрощают, терпение, пока еще не время, вот не останется от большевиков и духа, тогда… Все-таки интересно, где прячет Жайбаса, хитер, гад, в болоте, наверно. Скоро братья-литовцы все друг от друга прятать станут, не только от пришлых. Не испортил бы коня, куда загнал его, болван! Не такие дела привели сегодня, но и на жеребца взглянуть не отказался бы, на комки мускулов под светлой бархатной шкурой, на гриву до груди, блестит ли, курчавится ли еще…
– Шутить изволишь, Балюлис? А ну, живее на заднее сиденье! Кляча твоя на сей раз не требуется.
Балюлису кровь в голову ударила.
Стунджюс прищурился, от глаза осталась щелка. Черная недобрая железка, бритвенное лезвие, а не глаз. Так же возле «Трех братцев» щурился, руки на прощание не подав. Что, получил? Захочу, козой твоего рысака обзову. Что ты мне сделаешь? Гимназист смеялся, запрокинув голову. Попрыгал бы ты у меня, кабы не дело…
– Не кляча у меня, господин Стунджюс. – Балюлис уже не красный, белый как полотно. – Жеребец.
– Ни кобылы, ни жеребца. Видишь, и я без своего тракена, – сбавляет тон Стунджюс, тоже сдерживается, чтобы не позволить втянуть себя в прорубь старого спора. Сущее проклятие – это его упорное желание любой ценой завладеть тем, что однажды привлекло, будто без этого ты не человек. Перешагнуть, как через раздавленную кошку на дороге. Через любую падаль перепрыгнуть! Пусть хоть повесится этот беспорточный наездник! Пожелаю – не такие кони у меня будут, и не одни только копи…
И Стунджюс говорит, похлопывая Балюлиса по плечу, сильно, пожалуй, даже слишком сильно:
– Прочь мелкие склоки. Позарез нужны мужики для важного дела. Крепкие мужики, Балюлис!
– Так рожь на носу. Погодка что порох.
– Правильно говоришь, Балюлис, – расхохотался Стунджюс, настроение у него улучшилось. – Пороховая погода!
Другое хотел сказать Балюлис. Погода самая подходящая для жатвы. Так палит, что, кажется, волосы смахнешь вместе с утираемым потом. Сквозь деревья сочится жаркая желтизна полей, и слышно, как шуршит высыхающая рожь.
– Отпустим, Балюлис, через день-другой. Войне, думаешь, продовольствия не надо? Придется поддерживать защитников сальцем, пока они Украину не взяли!
Дороги тонут в пыли невиданной белизны и густоты – от машин, танков, орудий. Разрывы бомб и выстрелы усадьбу, слава богу, обошли. На третий день войны над лесом покувыркалось несколько самолетов, один загорелся и упал где-то вдалеке. Как-то зашли напиться два измученных советских солдатика, отбившихся от своей части. Все перематывали да перематывали свои обмотки. Есть не просили, но, когда Петронеле отрезала хлеба и сала, умяли за милую душу.
– Давай не выкручивайся. Приказ! За невыполнение, знаешь, что? – перевесившийся из коляски безусый гимназистик потряс карабином. Повстречайся они в укромном местечке один на один, показал бы Лауринас этому молокососу, откуда ноги растут. Снял бы ремень и…
Кляня в душе свою глупую голову, свой мужественный, как ему тогда казалось, поступок – лучше бы уж старая Шакенене еще одним ведром помоев угостила! – Лауринас вытащил из тайника винтовку.
– Не заржавела, стреляет? – пощелкал затвором Стунджюс. – Чистил?
Лауринас замялся. Как к свернувшейся змее, боялся прикасаться к винтовке.
– Господи, куда вы его уводите? Господи! – дурным голосом запричитала па всю усадьбу Петронеле. Словно покойная ее матушка из могилы встала и рот раззявила. Обычно ведь молчала, как глухонемая, когда приходили посторонние, и те, ничего не добившись, убирались. Стунджюс же грозил землю из-под ног выбить – отнять мужа, без которого она не представляла себе жизни, – и тут Петронеле уже смолчать не могла. Никто кричать не запретит, разве что Лауринас.
– Принеси-ка форму, – Лауринас не обратил внимания на ее крики. Баба не защитит. Только опозорит.
– Праздник какой, что форма потребовалась? Не указывает календарь праздников – ни католических, ни государственных! Людям война – беда, а им, вишь, форму подавай! – разорялась Петронеле, вцепившись в Лауринаса. – Не пущу! Не дам!
– Или заткни бабе глотку, или мы сами заткнем, – пригрозил Стунджюс, но женщина не унималась, и он передумал. – Ну ладно, без формы обойдешься. Не на парад!
– Уймись, не позорься. – Лауринас оттолкнул жену, она притихла и уже не пыталась бежать за чихающим, тарахтящим мотоциклом, увозящим мужа…
На другой день Петронеле прибежала на кирпичный завод. Правда, никакого завода там давно уже не было, одни развалины, длинный сарай с дырявой крышей да заросли крапивы, среди которых неприкаянно бродили люди. Лавочники, портные, извозчики, сапожники, псаломщики, старьевщики, просто нищие – евреи из местечка. Притихшие, прибитые, будто и не гомонили никогда на базаре, на улице, в синагоге. С узлами и узелками, одни в пальто, другие босы, полуодеты. Одна только Пешка-Невеста, местечковая дурочка – жених из Америки все не шлет да не шлет ей билета на пароход! – весело похохатывает и плетет венок из крапивы.
– Господи, Лауринас! Что это? – выпучила глаза Петронеле и вцепилась в мужа, даже пальцы побелели. Так смотрела бы на теленка с двумя головами, на распустившуюся среди зимы черемуху. – Да что вы тут делаете, скажи!
– Посторонним рассказывать запрещено. На страже стоим.
– Пешку сторожите? Куда она, бедняга, убежит?
Лауринас едва сдержался, сам себя ненавидел в этой страшной юдоли горя и слез.
– Так это же не я. Стунджюс велел. А ему немец. Война, понимаешь?
Петронеле многого не понимала, да и мало кто способен был разобраться в невероятных событиях тех дней, когда одна сила дрогнула и отступила на восток, а другая хлынула железной лавиной, не давая первой остановиться, собраться в железный кулак. Все – и он, Балюлис, вместе со всеми – еще были подавлены началом, но бросало в дрожь от предчувствия, что близится не конец, как им объявили, что еще не раз будет падать на их усадьбы и головы кровавый и огненный дождь…
– Бедная Пешка! А там кто – Абель с женой?… Господи, господи! – Петронеле не могла втиснуть их в железные, опаленные огнем рамки войны. – Огорожены, будто не люди.
– Не я же огородил. Слышишь, или уши тебе прочистить? Стунджюс! Немец!
Они отошли в сторонку. У Лауринаса кусок застревал в горле, хотя и соскучился по домашней еде.
– Что же теперь с жидками-то сделают? – Петронеле сложила посуду, завязала в косынку. Сейчас уйдет ему, Лауринасу, самое близкое на свете существо, в военных делах ничего не понимающее, не могущее ничем помочь, но что-то, пока была она тут – от ее прямого, честного взгляда, от вздохов о Пешке, об Абеле с женой, – изменилось. Все еще сопротивляясь, стараясь сохранить свое мужское достоинство, посмотрел Лауринас на затею Стунджюса и его приспешников глазами не умеющей хитрить, честной женщины. И залился потом, ружейный ремень врезался в плечо. Оружие, правда, велено было держать наперевес, наготове, но у Лауринаса руки не поднимались. Однако и так – теперь он понимал это – должны были казаться беднягам страшными и сам он, и его винтовка.
– Думаешь, я что-нибудь знаю? Ничего мне не говорят. – Захотелось поскорее смыться отсюда, где вдруг стало не хватать воздуха, где бессмысленно стоять, сидеть, ходить, даже есть, все бессмысленно. – Как там жито, не осыпается еще?
Взмахнуть бы пошире косой, почувствовать упругость степы ржи, потом шорох, сулящий хлеб! Гуд усталого тела заглушил бы нытье натертого ружейным ремнем плеча.
– Еще не осыпается, но… Приходи скорее, Лауринас! Гляди, сама косу сниму, отцу-то помогала…
– Подожди. Не задержусь.
– Да разве не жду? Все глаза проглядела.
– Проклятая винтовка! – Он стукнул ладонью по стволу. – Рожь осыпается… Ничего не соберем…
И, хотя говорил о зерне, все с большим трудом представлял себе поле и себя па нем: что-то мешало ему. Больше всего люди, согнанные на кирпичный заводик, которого нет. Сказать бы себе: нет их тут, этих людей, но о том, что они есть, неопровержимо свидетельствует твоя же собственная винтовка.
– Побегу я, Лауринас. Дети одни, скотина… – И Петронеле опустила глаза. Тут, куда, как скот, согнаны люди, странно и неудобно поминать даже о скотине, за которой надо ухаживать. Словно издеваешься над несчастными.
– Беги. – Лауринас провел ладонью по ее теплым губам, будто хотел удержать, а если не удастся, так взять что-то на память, чтобы не было так жутко одному. Что? Мятый платочек? Гребенку? Льняную прядь волос из-под косынки в горошек, прилипшую к виску и пахнущую ее потом, ее телом?… Глаза не синие и не серые – два слившихся цвета. Утром одни, вечером другие, а в недобрый час разбавленные нескрываемой горячей любовью и верным ее спутником страхом… Нравишься ты мне, Петронеле, сказал бы, ежели бы не такое страшное окружение… А может, сказал? Сказал без слов, кончиками пальцев, и она услышала?
Вот повернулся и уходит самый близкий ему человек. Глаза у нее не отуманены. Мужики головы потеряли, никто не соображает, что хорошо, что плохо, а она пусть и мало знает, совсем мало, зато твердо. Увереннее и он почувствовал себя от этого.
Остановившись на минутку, перебросился словечком с дружком своим Акмонасом. Того тоже Стунджюс пригнал.
– Как думаешь? Не начнут стрелять жидков?
– От жары спятил? Белены объелся? – вспыхнул Акмонас. – Никто их не тронет. К делу приставят, какую-нибудь черную работу дадут. На здоровье!
Прошло дня три-четыре, отобрали крепких мужчин. Приехали па грузовике из уезда белоповязочники, толковали о какой-то стройке. Ни прокладываемых дорог, ни строящихся мостов в волости не видать, так, может, в уезде? Не успела осесть подпятая грузовиком пыль, как неподалеку, в карьере за ельником, затрещал пулемет.
Караульные в цель стрелять учатся – так велено было говорить, чтобы женщины не рвали на себе волосы, дети не вопили.
– Поминками, браток, пахнет, – дохнул Лауринасу в ухо табачным дымом Акмонас, оба отошли в сторонку покурить. – Твоя правда.
– Моя? Отвяжись! Знать ничего не знаю.
– Оглох, что ли?
– Мало ли что… – хотел, очень хотел усомниться Лауринас.
– А зачем спирт привезли? Стунджюс-то знает, что делает.
– Спирт, говоришь?
Многое казалось подозрительным и Лауринасу. Тень от сарая. Жужжание насекомых над зарослями крапивы, как гул костельного органа… То же самое было бы здесь и без евреев, но по-другому на это смотрел бы, слушал бы. Зачем, скажем, заворачивает сюда черный автомобиль? На большой гроб похожий… Немец. И не рядовой. С черепом на фуражке…
Улучив момент, Лауринас подошел к старому знакомому, к Абелю.
– Чего ждешь? – сурово спросил он.
Абель сидел в высокой, в рост человека, белене. Целый день молился, хотя по-прежнему сомневался, услышит ли кто его молитвы. Трясущаяся козлиная бородка. Тень в молитвенном облачении.
– Смерти, господин Балюлис.
– Не смеши. Кто к смерти сватается? От нее все бегут.
– Я забыл, что такое смех. Куда мне бежать? Застрелят.
– Дуй мимо меня. Когда буду сапог натягивать… Ноги, черт побери, стер. Такая жара.
Абель усмехнулся, но не обрадовался.
– Не доверяешь? Не знаешь меня?
– Кто господина Балюлиса не знает? Все знают.
– Так чего же упрямишься?
– Старый я, слабый. Куда денусь? А жена с детьми?
– Погоди. Кто это там такой длинный, ровно озимый ржаной колос среди ярового ячменя? Руфка? Здоровый вымахал!
– Ребенок он еще, ребенок.
– Вижу, с каким-то бритоголовым бараном этот твой ребенок толкается. Тесно тут таким.
– А куда им податься, если уйдут? Тут отцы, матери, могилы предков…
– Ну и сказал! По могилам, вишь, соскучился…
– Кладбище – общий наш дом.
– Кончай, Абель. Старикам путь – па кладбищенский холм, молодым – на все четыре стороны! – Прорвалась злоба против тупой покорности. – Ну, бабы, дети, понимаю… Но вы-то, мужики… Неужто позволите, чтобы всех до единого вырезали?
– Говоришь… всех?
– Ничего я не говорю, Абель. Ничего не знаю. Я тебе не говорил, ты не слышал. Возьми вот полбуханки, сыр. Жена шлет.
– Добрая у вас жена. Только чем же мы отблагодарим господина?
– Мы люди, Абель.
В тот вечер Балюлис несколько раз стягивал сапоги. Дул на большой палец и стонал от удовольствия. Кто шел мимо сидящего, прошел. Мало ли кому и по какому делу надо? А когда стемнело, он и сам вместе с Акмонасом смылся. Домой. Осыпающуюся рожь косить.
Когда продирались сквозь густой молодой лесок, выплыла луна. В ее голубом свете мелькнула у Балюлиса мысль, что снова он отрывается от Стунджюса. Эх, было бы это в последний раз!
Через неделю на хуторе появился волостной старшина. Не один, с полицейскими, которые и увели Жайбаса. Якобы для пострадавшего от большевиков хозяина. Другую лошадь – выращенную Балюлисом кобылку – оставили. Пусть скажет спасибо господину Стунджюсу, потому что и такой милости не достоин.
Стунджюс! Вот кто придумал! Отомстил! В самое больное место уколол… На гауптвахту посадили бы, избили за самовольный уход с поста, не так больно было бы. Да что там, он руку бы лучше за коня отдал!
Сам послушно вывел жеребца из стойла. Жайбас крутил шеей, бил копытом, как был обучен, и весь блестел. Сильный, усталости не ведающий конь. Друг. Свистнуть бы – и вырвался из петли, понесся галопом… Еще много лет могли бы они дружить: пахать и сеять. Петронеле в костел возили бы, в свободное время через заборы и кусты скакали, чтоб не забыть ни всаднику, ни коню ощущения счастья от победы над земным притяжением. Полицейский вырвал повод из судорожно сжатой руки Лауринаса, тот затрясся, уперся, волна ярости залила глаза, мир потерял все краски, стал белым-белым. И почему-то не выплывает больше из небытия мать с жалобными, умоляюще стиснутыми губами. Еще мгновение подождет ее и врежет гаду изо всех сил, будь что будет!
– Папа, папа! – шелковым шарфом обвил его детский голосок, и Лауринас увидел подбегающего Пранукаса. И не думай сопротивляться, если жалко тебе Петронеле и детей. Забыл, что ли, как шпарили из пулемета по безропотным, покорным? Посмевшего сжать кулак раздавили бы, как червяка.
Уходя, старшина сунул Лауринасу бумажку.
– Это тебе, – сказал, когда клочок, коснувшись его рукава, опустился на картофельную ботву.
– Что мне с ней делать? – пробормотал Лауринас, сдерживая слезы.
– А что захочешь. Хоть подтирайся!
Жайбас заржал, прощаясь, Лауринас не шелохнулся. Вот и обошел его Стунджюс, во второй раз обошел! Однако не догнал Руфку и его товарищей…
– Трудно дышать, да? – Елена подходит с влажным полотенцем. Когда-то мечтала быть врачом, но отдала жизнь одному человеку. – Не больно? – Осторожно обтирает шею больной.
– Не больно… ничего не больно. Вот только голову повернуть не могу… – тяжело дыша, говорит Петронеле. В комнатке запах пота и лекарств, болезнь впиталась в постельное белье, вещи, стены. Кажется, что и вещам не по себе.
– Возьму-ка и протру пол, а? – Елена опасается, что больная может рассердиться.
– Не н-н-нада…
– Натоптали мы, танцуя вокруг вас кадриль. Да не нарушу я ваш порядок! – горячо уверяет Елена, потому что Петронеле вздрогнула. Вещи старого человека во многом похожи на него, исхудавшего, выдержавшего немало ударов и хворей. Сухие снопики целебных трав, ворохи пожелтевших рецептов в выдвинутом ящике покосившейся тумбочки, пустые пузырьки на подоконнике, в углу стопка потрепанных журналов, на них – клубок черных шерстяных ниток…
– Зонтик, дочка, далеко не засовывай… – Бдительный глаз ревниво следит за каждой перекладываемой вещью. – Не найду потом…
Давно не пользуется этим зонтиком. Да и как его откроешь, если спицы поломаны?
– Не трогаю я его, не трогаю. – Елене как раз пришло в голову выбросить зонтик.
– Я ничего… Ты все хорошо делаешь, – успокаивается старая, но напряжение не уходит, пока тряпка не отжата и не повешена сушиться. Эта уборка для Петронеле настоящая мука.
– Вот и в глазах посветлело, правда? – радуется, обшарив все углы, непрошеная помощница.
– Да уж, конечно… Пол, окно надраила… как на праздник… До следующей пасхи прибираться… не буду… – шутит больная, грудь ее, с трудом вбирающая воздух, вздымает одеяло.
– Вот увидите: теперь меньше будет болеть.
– Так не болит… Дышать трудно… и в голове самолеты… Раньше, бывало… жужжит… теперь ревет…
– Пройдет, все проходит. Потерпите, матушка.
– Я терпеливая… С таким стариком… научишься… Я, дочка, терпеливая… вот несправедливости не выношу… распущенности… Из-за этого… от меня… сын… – выплескивается и льется сердечная боль. – Удрали оба… с Ниёле… будто от пчелиного роя…
Дрожат, кривятся ловящие воздух губы. Елена бросается убеждать: не в последний же раз приезжал сын, но – где там! – Петронеле, собравшись с силами, отрывает голову от подушек.
– Не слушай… моей похвальбы… Виновата я сильно, а… чушь разную несу, как на исповеди… у глухого ксенженьки… Соседку оговорила… скотину ударила… старику своему подавиться костью пожелала… Разве это грехи?… Дети… вот наши… великие грехи…
– Дети… – И Елена мысленно повторяет: «Дети…»
– Казне… Тот давно… В земле его косточки… ох, в земле… А был бы опорой… на старости лет… не вырос… Кто и помнит-то его… Соседи… что хоронили… позабыли… Жить всем… надо…
И снова говорит о Пранасе. Пранас – горький яд в кубке, причина ее тихих страданий, опасений.
– Пранас, как маленький… Да ты не слушай, что я тут языком… Сердце у него мягкое… букашки не обидит… Чужого нисколечки… Как жить будет… когда меня… и старика не станет?
– Поживете еще. В больнице вылечат. Что за разговоры!
– Двое детей… но дети… не с ним… первой отданы… Какой из него отец… сам дите малое… Говорили, судись… одного присудят… рад, что заботы… с его головы… С Ниёле-то детишек нет… и не будет… выкидыши у нее…
– По-разному у женщин бывает. На курортах лечат, – утешает Елена.
– Вот они все и таскаются… по курортам… деньги транжирят… ребеночка… как нет, так и нет… Сердце болит… как без нас… жить-то будут?
– Живут без вас и дальше проживут! Ну, на новую машину не получит, пешком будет ходить. Пешком-то здоровее, брюхо не вырастет. Хватит, хозяйка, расстраиваться. А то не выздоровеете! – шутливо пугает Елена, взбивая и поправляя подушку. – Что-нибудь хорошее, приятное вспомнили бы.
– Уж и не знаю что… Беда беду гнала… Войны… страхи…
Стиснутые веки, синие, едва живые ниточки губ. Слышно, как под окном шелестит в кустах ветер.
– Когда вы не ссоритесь, обид не поминаете, так приятно на вас обоих смотреть. Ведь были же молодыми. Были! – Елена пытается раздуть припорошенный пеплом огонек. – Взяли бы Шакенасы в зятья лентяя?
– Шакенасы не голодранцы… чтобы лентяя… – гордо вспыхивает Петронеле, к щекам и губам приливает кровь. – Многие… сватались… Такой Пятрас Лабенас… из Эйшюнай… Сын… крепких хозяев…
– Вот видите! Разогнал соперников Лауринас?
– А хорош был… Невысокий, но ладный… Брови, как кусты… Усики причесаны… Красивый портсигар носил… Всех, бывало, наделит… Язык… хорошо подвешен… слова так и текут… И мастеровитый… За что ни возьмется… все сделает… Больше всех… мне нравился…
– Вот видите!
– Про любовь… говорил или нет… не помню… Моды такой не было… Как-то пальцами… по губам моим… провел… Поняла я тогда… любит…
– Вот видите! И сказали правду.
– Правду?… – Петронеле смолкает, и наваливается тишина, каждый держит… камнем придавив… Ох, трудно… его столкнуть… настоящее-то лицо… показать…
У Елены екнуло сердце.
– Успокойтесь. Вы с Лауринасом мухи не обидели.
– Человека, правда, не убили… И чужого ни пылинки… тоже правда…
– Можно я? Тоже по вашему примеру лицо открою… Что бы вы сказали, если бы ваш ребенок из-за вас руки на себя наложил… как из-за меня… из-за моего мужа? – сталкивает с себя камень Елена, но знает, что не сдвинет, от только еще тяжелее придавит.
– Твой муж?… Такой серьезный… тихий человек…
– Не муж виноват, я. Он… другую любил. А я согласилась выйти за него, зная, что не меня…
– Говоришь, дочка… без любви… не жизнь?
– Не знаю. До седых волос дожила, а не знаю. Поспите! Утомила я вас своей болтовней. В больницу хоть и не хотите, а придется…
– Дети… дети… наши большие… грехи…
Елена подтыкает одеяло и уходит.
В лицо ударяет солнце, так много солнца, что на глазах выступают слезы. С недовольно нахмуренным лбом встречает ее Статкус, пальцем смахивает с ее губ слезу. Плакала?
– Что она тебе сказала? Па тебе лица пет.
– Сказала… Дети – наши большие грехи… Сказала! Елене надо выплакаться. Статкус не идет за ней.
Дети? Неринга? Где ты, моя девочка? Нерюкас!
Не ее ли тень мелькнула в кошмарном сне? Не ее ли имя подает нить надежды?
Где она? Воскресенье. Бескрайняя унылая пустыня, которую невозможно одолеть, а Неринги нет.
– Может, на кладбище сходим? Приведу в порядок отцовскую могилу.
– Ничего веселее не придумала?
– Ладно, на кладбище в другой раз, – соглашается Елена, как того желает Статкус, и улыбается. – Открылась новая выставка керамики. Осмотрим, в кафе пообедаем. Ты, я, Неринга. Подходит?
Показаться с Еленой на улице – все равно что выйти погулять с магазинным манекеном. Всех направо и налево одаривает красивой пустой улыбкой. Откуда столько знакомых? С Нерингой он прогулялся бы охотнее. В последнее время стала вести себя приличнее. Не бросилась травиться, когда он вынудил дать отставку кретину Валдасу, тому, из кино. Глупость какая – травиться! Время ст времени надо осторожненько нажимать на эту мозоль, чтобы и впредь неповадно было…
– Не хочешь – не надо, – продолжает приводить в порядок квартиру неутомимый манекен, успевающий за воскресное утро переделать уйму различных дел. – Покопался бы в старых бумагах. Тебе – не мне! – воспоминания писать.
– Подождут. Не собираюсь пока ноги протягивать.
– На крайний случай еще одно культурное мероприятие, – тараторит Елена. – Прогулка с Нерингой. Погода замечательная!
– С Нерингой? Где ты видишь Нерингу?
Странно, все утро ее не слышно. Это каменное, с опущенными ресницами лицо в желтоватых сумерках квартиры – по воскресеньям в квартире всегда серая желтизна – принадлежит Неринге? Дочь и не шевельнулась, когда ее позвали, хотя волосы не падают на уши. Слипшиеся, неопределенного цвета космы – ее волосы, журчавшие ручьем, пахнувшие распустившейся среди зимы сиренью? Сидит, втянув голову в плечи, где же былая стать этой горбуньи, где гордо откинутая головка, высокая грудь, притягивавшая мужские взгляды?
– Слышишь, Неринга, что мамочка говорит?
– Слышу.
– И что же?
– Ты действительно хочешь прогуляться, папа?
– Гм. Честно говоря, не знаю.
– А я знаю. Не хочу.
– Чего?
– Не хочу воскресений. Не хочу видеть людей. Не хочу прогулок.
– Почему? Я в твои годы…
– Скучно слушать. Скучно объяснять.
Бледные, увядшие губы. Кажется, их с легкостью можно стереть с лица ладонью. Ни в голосе, ни в поведении никакого вызова, лишь усталость, равнодушие. Глаза опущены, руки что-то делают. Но Статкусу внезапно приходит в голову, что сущность ее – та, заливавшая его гордостью и радостной тревогой! – таится где-то в забвении, возможно, очень далеко, ее не дозовешься скрипящим от нетерпения голосом. Сама Неринга этого не чувствует – уставилась в зеленоватый кружок, ее пальцы непрерывно шевелятся, в них мелькает крючок.








