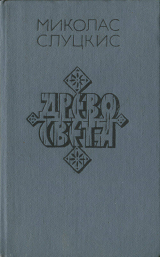
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Миколас Слуцкис
Древо света
…Свет мучителен, так иногда мучителен, что мы крепко смежаем веки, чтобы ничего не видеть…

Он проснулся от какой-то необычной тишины. От привычной отличало ее не ватное шуршание пустоты, а живые звуки. И пусть голова продолжала гудеть от все еще тащившегося за ним рокота мотора, новые звуки не раздражали, напротив, ласкали. На разные голоса пело и потрескивало старое, пересохшее и вновь успевшее много раз намокнуть, а местами, вероятно, и подгнить, дерево. Сквозь тонкую, почти прозрачную штукатурку глухо и хрипло вздыхали бревна. Скрипели выгнувшиеся дугой толстенные доски потолка, блеклые от пропыленных белил. Не выдерживая порывов ветра, охали оконные рамы.
Очнувшись в другой раз, Йонас Статкус опять не может сразу сообразить, почему и как он тут очутился, но к шепотам потолка и стен прислушивается уже меньше. Теперь все громче сквозь стены проникает говор сада, долгий, нескончаемый его шелест. Яблони гладят покатую крышу, словно руками, размахивают под окнами ветвями, то и дело роняют яблоки. Сорвется, глухо стукнется и катится по траве, а вскинувшаяся было ввысь ветка снова мягко раскачивается, но уже на вершок ближе к прозрачному небу… Но это еще не все звуки здешней тишины, далеко не все!
Тоскливо мычит исчерна-черная корова за хлевом, на клочке разнотравья. Может, зовет быка, а может, услыхала, как позвякивают капли, падающие из ведра на жернов у колодца. Кудахчут распуганные куры, хозяйка, неповоротливая и тяжелая, что ржаная копна, пыхтит с двумя или тремя яйцами в руке, пыхтит, кажется, целую вечность, пока не сдерживает дыхания возле распахнутого окошка горницы.
– Возьми-ка тепленькие, только-только снесли, – сурово приказывает она смущенной, неизвестно за что извиняющейся жене Статкуса Елене.
Долго бухают шаги, унося назад неподъемное, измученное разными недугами тело, и, пока они слышны, кажется, что в этот час никто и нигде на свете никому не посмеет подсунуть тухлое яичко вместо свежего, треснувшее вместо целенького.
– Не бойся, утрешние! – доносится вдруг, когда Статкусы успели уже позабыть о яйцах, голос, не теряющий надежды: может, все-таки поверят, вместо того чтобы вежливо кивать и благодарить? Тщетно Елена, выбежав, клянется, что яиц свежее и вкуснее им сроду не доводилось пробовать. Через добрый час снова доносится это бередящее душу «утрешние!», и тогда Статкус начинает понимать, что старуха надеется перекричать не чье-то возможное сомнение, а сверлящую голову пустоту.
Когда хозяйка не тащит яиц или пахнущего можжевельником сала (или только что вынутого из-под груза творожного сыра), ее все равно слышно. Бормочет, ворчит, смакует отдельные слова и выражения, по-своему их искажая, вроде такого: свежих яиц, вишь, не едали! А то вдруг забубнит «Карунку»[1]1
Католическое песнопение, славящее деву Марию.
[Закрыть], хоть вроде и не больно набожна, или рассмеется не тронутым ржавчиной времени голосом. Однако чаще всего озабочена. Не раскрывая рта, громко сопит, гремит посудой так, что и на расстоянии ясно: не перестает крутиться жерновом ее упрекающая, с мировым порядком не вполне согласная мысль.
– Будет, будет тебе, Петронеле. В судный день архангел по твоей милости грешников не дождется. Все до одного оглохнут! – пытается урезонить ее хозяин.
Жалобы Петроне Балюлене и шуточки Лауринаса Балюлиса не нарушали тишины. Напротив, были камертоном, аккордом, настраивающим звучание ее глубинных слоев. Ежели бы не их перепалки, Статкус и не услышал бы, как ласточка, не обращая внимания на тупо жующую коровью морду, вспарывает, словно ножницами, плотный утренний воздух, прямо-таки выстреливает из хлева, где под крышей во мраке таится ее гнездо. Разобьется, влепившись на лету в тележное колесо? Нет, вот уже сверкает в вышине, режет голубой шелк неба. И доносится скрип, бесконечно чистый, изначальный, вонзается в сердце и наполняет его забытой, трогающей радостью.
Неменьше шума, чем хозяйка, производит и хозяин. По большей части не языком – молотком, вгоняющим в доски дюймовые гвозди, или косой, выскребающей меж кустами клочья травы. Стук и вжиканье косы доносятся попеременно, в зависимости от погоды. Сенокосу этому не видать конца, разве что заморозки оборвут. Нет конца и тюканью топора – все что-то пристраивает к хлеву, сараю, амбару. Грозится прилепить клетушку даже к летней кухоньке, Балюлене с трудом отбивается.
– Ежели не можешь уняться, лучше гроб себе сколоти. Покупать не придется!
– Рано мне, Петроне. Я еще молодуху ухвачу, на холмик тебя проводивши. Один в пустой дом не ворочусь, не надейся!
– Старый, а бессовестный. Таких в цирке за деньги показывать. Себя не стыдишься – людей постеснялся бы!
Вот такая струилась тут тишина. И, словно не хватало ее, окрутывала и обвивала Статкуса другая, еще шире разлившаяся, – тишина залегших меж холмами усадеб, причудливо вьющегося проселка, по которому пыхтел туда-сюда, невысоко поднимая за собой белое полотнище пыли, ослепительно красный тракторишко, тишина сверкающих за зубчатым ельничком новых крыш механической мастерской, откуда ни с того ни с сего, как в послевоенную пору, начинал вдруг оглушительно орать репродуктор, и, наконец, тишина маячащего вдали, уже неразличимого отсюда местечка, по примеру больших городов вздымающего ввысь несколько пятиэтажных блочных коробок у разбитого асфальта шоссе.
Над этой, будто сложенной из разных пластов, как тесто в слоеном пироге, тишиной струилась еще одна, неоглядная – тишь далей и высей, земли и неба, порой взрезаемая стремительными самолетами, раскалываемая далекими громами. Но никакой грохот в небесных ли просторах или в шири полей, когда прорычит по ней куда-то вереница тракторов, не нарушал, казалось, всей этой растущей с травой и деревьями тишины. Статкус не мог надивиться ей и в то же время себе самому: откуда все это берется? И чего здесь надо мне?
Молодой человек не обращает внимания ни на спешащих, ни на еле плетущихся. Упрямо шагает вперед, наклонив крупную голову и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Статкус вышел на середину тротуара, чтобы не разминулись их тени. Пекло солнце, ветер швырял в глаза пыль, заставлял щуриться, отчего многие встречные казались на одно лицо. Нет, не юноша – уже пожилой, с тронутыми инеем, спутанными от ветра волосами. И все-таки… До боли знаком, нет, не одеждой, не чертами лица, которые за столько лет не могли не измениться, чем-то иным, отчего в груди под вдруг ставшим неприятно жестким, даже похрустывающим пиджаком шевельнулось умиление. Эй, постой-ка! К сожалению, Статкус отвык запросто обращаться к людям на улице. Что скажешь, ни с того ни с сего подлетев к этому человеку? Нет, на этот раз не упустит, схватит за руку, пожмет, спросит, как жив-здоров. Улицу недавно поливали, ямки на асфальте блестят, как зеркальца. И вдруг пахнуло предчувствием праздника. Праздник? Только что Статкус был мрачен, будто его по голове огрели, и – праздник? Может, не праздник, но приближалось что-то нежданное-негаданное. Вот-вот станет неприличным, сжав губы, уныло плестись навстречу. А если не ответит на улыбку? Молодым был, вечно зубы скалил, а ныне никому и в голову бы не пришло, что был смешливым пареньком, – не вчера за полсотни перевалило. Шагает, будто не касается его разлившееся в воздухе ожидание, будто его праздники отличаются от праздников всех остальных людей. Неужто три десятка с гаком минуло с того времени, как встретились в последний раз? На него глядя, не скажешь. Лицо раздалось, и фигура в два раза шире той, что мелькала в дали времен. Но так же, как тогда, уверен в себе, не мечется по сторонам взгляд, так же переваливается он при ходьбе с боку на бок, словно шагает по палубе корабля, прочного, рассекающего волны корабля! Всех нас в те годы, как на волнах, качало, все были опьянены открывающейся безбрежной ширью, и лишь голос, которым этот человек мог бы ответить – сдавленный, словно нарочито приглушенный! – засвидетельствовал бы, что простор этот не был бескрайним, что надо было смотреть, куда ставишь ногу, а еще внимательнее на обгоняющих и отстающих. Куда-то он внезапно после одной ночи исчез. До этого вот мгновения, до встречи на улице. Статкус прекрасно знал, что с ним стало. А теперь забыл и в смятении пялил глаза на незнакомого знакомца, намеревающегося ускользнуть, сбежать, растаять. Почему? Что плохого я ему сделал? И не думаю взваливать на него то, чего сам не осилю… Постояли бы на солнцепеке, потоптались рядом…
Нежданная-негаданная встреча в городской сутолоке после длившегося целую вечность мгновения, когда остается лишь удивляться, что пока нас не сбил еще с ног инфаркт, – и то дело! Набери в грудь побольше воздуха, чтобы не задохнуться, услышав собственное имя. Воскресенье, непреодолимая унылая городская пустыня, и – на тебе – подарок, на какой и не рассчитывал! Не завопи от радости, не вспугни замечтавшегося, может, он и в самом деле ничего не видит, уставившись в свои реальные и нереальные дали?
Они приближались друг к другу, ничем не выдавая себя, с сурово сосредоточенными лицами. А так хотелось вырвать улыбку, ну хотя бы искорку, чтобы прожгла скорлупу отчужденности и согрела еще до того, как встретятся руки.
Это было увлекательно, как жмурки в детстве: я вот вижу тебя, не глядя, и ты меня тоже, но виду не подаешь. Ты хитер, я еще хитрее! И не предполагает, что прямо из небытия, из продлившейся тридцать с лишним лет командировки, покачиваясь, входит он в историю. Именно от Статкуса зависит, чтобы имя и фамилия этого неизвестного, с трудом выцарапанные из памяти, засияли яркими буквами. Статкус писал воспоминания, очень неохотно, через силу, но писал. Больше десятка страниц успел уже измарать в общей тетради с черной коленкоровой обложкой. А ведь еще не пенсионер – обремененный делами и планами работяга, не имеющий времени даже для занятий каким-нибудь хобби. (Какое отвратительное слово «хобби»!)
Вот уже лишь несколько шагов между ними, ноздри щекочет запах его одежды – отутюженной жесткой шерсти и нафталина. Собиравшийся было улыбнуться рот Статкуса искажает судорога, в желудке спазмы, глаза лезут на лоб. Человек, столь хорошо знакомый, похожий на него самого, словно близнец, с такой же походкой враскачку, хотя внешне совсем другой (разве у него, Статкуса, так отвисает посиневшая губа?), проплывает мимо, даже не глянув. Холодная мгла враждебности, а не глаза друга. Порыв ветра взъерошил прядь редких волос на влажном от ледяного пота лбу. Статкус не успел сообразить, почему так, что произошло – гордец его бывший приятель или склеротик? – как загудело в голове, отдалось в груди, качнулась под ногами земля. Все оставалось, как было: тротуар, солнечные блики от витрин и сквозь листву, куда-то спешащие прохожие. Однако это отделено прозрачной звуконепроницаемой стеной. В отчаянии заколотил кулаками, головой – стена не дрогнула, он уткнулся в самого себя, опустошенного и легкого-легкого.
Через мгновение звуки вернулись, донеслись голоса прохожих. Снова можно было коснуться рукой коры липы, железного поручня витрины, шуршащей одежды встречного, однако тот, с которым они… как сквозь землю провалился.
И вот он тут, на уединенном хуторе, в мягкой плещущей, остужающей мозг тишине, которая мелкими капельками росы оседает на его поредевшей, некогда густой и непослушной, не умещавшейся под шапкой шевелюре (не так ли непокорны были тогда его мысли, теперь уже повыветрившиеся?), на съежившейся, не способной расслабиться душе…
Хорошо, странно и недостоверно. Стук-бряк, словно молотком, а в траве посверкивает уже яблоко, розовое или желтое. Может, обман вся эта чистота? Может, вдруг обрушится град ударов, размозжит все вокруг, и прежде всего хрупкую, как стекло, тишину?
Старайся ничего не задевать, думай и двигайся осмотрительно, нашептывает внутренний голос. Шагнешь неосторожно – и башка под молот, под гудение и грохот, в котором не узнают друг друга лучшие друзья. Только что шелестело, шуршало и падало, и вот снова не шелохнется в оцепенении листва… Бесконечно тихо, будто во сне, а если и струится тревога, то лишь в тебе самом. Страшно к себе прикоснуться, словно ты пышущая жаром, брошенная наземь остывать раскаленная железная болванка…
– Сними галстук.
Статкус не успевает ощупать шею – неужели в этом пекле душит себя галстуком? – отдающие копченым салом и зеленым луком руки начинают теребить его за отвороты.
– И пиджак скинь.
– Чужие люди. Что подумают?
– Подумают, что ты человек, как все.
– Когда обвыкнем, познакомимся получше…
– Когда покатим назад? Нет, муженек, не дам я тебе париться.
Елена ловко распутывает узел. Статкус сопротивляется, будто с него сдирают не галстук и пиджак, а надежную, приросшую к коже броню. Глаза округлились от страха, словно станет он голым и все увидят, какая у него белая, не тронутая солнцем спина, как отвратителен шрам под правой лопаткой…
Хорошо Елене, она не слышит молота. Успела настирать и на полдвора развесить белье. Куда ни глянь, всюду пестреет и полощется на ветру. Статкус тоскливо смотрит, как жена стремительно идет с его пиджаком к избе. Расстегнутый, с развевающимися полами цветастый халатик, голые икры… Заброшены туфли па высоких каблуках, забыт дымок сигареты, которым изредка, за чашечкой кофе, балуется. Елена и не Елена… Разве такой она была?
И сам он без галстука, без пиджака, без привычного самоуважения, как плоская рентгенограмма, Статкус и не Статкус. Разве таким он был?
От пойла для свиней парок: тут и вареная картошка, и несколько горстей ячменной муки. Но это не все его запахи. Рука Петронеле, яростно размахивавшая секачом, натолкала в ведро еще и нарубленную падалицу. Принесла яблоки в старой, выцветшей шляпе, причитая по дороге, дескать, капелюх этот совсем и не стоило покупать, обманул лавочник растяпу муженька. Не Абель, тот святым человеком был, пылинки чужой к рукам не пристанет, другой, то ли Шейнас, то ли Шайнас причитала, будто ее недотепу муженька только что облапошили, а ведь от того лавочника и косточек не сыщешь – шляпа-то довоенная, истлевала на чердаке вместе с веялкой, что мало успела потрудиться на благо хозяйства, со ржавым, еще времен оккупации котлом для варки мыла да послевоенным самогонным аппаратом, склепанным из бака подбитого танка, – кого теперь попрекнешь? Но шляпа, годная ныне, пожалуй, лишь для огородного пугала, продолжала бередить душу женщины воспоминаниями о давнем празднике, когда, лихо сдвинув эту шляпу набекрень, Лауринас вдруг куда-то ускакал. Это и теперь куда важнее, чем мешок пшеницы, некогда за шляпу отданный. Из-за воспоминаний и не сожгла ее, приходит в голову Статкусу, а не из-за того, что в ней удобно носить яблоки или яйца. Интересно, куда ускакал тогда Лауринас? И что произошло? То ли было, то ли нет, а если и случилось, ведь пустяки какие-то, спохватывается Статкус, неожиданно заинтересовавшийся тем, что его прежде нисколько бы не занимало. Петронеле скрылась в хлеву, теперь ее ворчанье слышали одни свиньи, а когда снова появилась, то была уже озабочена поросенком, одним из двух. Раньше ведро рылом из рук выбивал, а тут позволил другому, что послабее, оттолкнуть себя.
– Старик, поросенок не жрет, взглянул бы!
– У меня что, других дел нет? Перекармливаешь, вот и не жрет, – не стал ломать себе голову Лауринас, привыкший к жениной чрезмерной мнительности. Повыскоблив траву под кустами, он бодро окашивал круг возле машины Статкуса. Она стояла под большим кленом, липкая от медвяной росы, в сухих веточках, паутине, листьях. На крыше и по бокам змеились потеки. Потеряв блеск, автомобиль постепенно становился частью царившей тут тишины, как и колодец с валом и отполированной рукояткой, как и дом на два конца с сенями, как и красивый высокий амбар с пристройкой для ненужных больше саней и упряжи, все еще хранящей запах лошади: седел, седелок, хомутов, уздечек с пожухшими шорами.
Статкус не решился осведомиться, чего это вдруг заинтересовался Балюлис его «серым воробышком». Машина абсолютно не заботила хозяина, хотя недавно нанервничался в поисках тормозных колодок и еще кое-какого дефицита, без чего пока еще можно было бы обойтись, но что могло вдруг понадобиться. Правда, если честно, мучилась Елена, ему-то было бы достаточно позвонить сидящему в важном кресле приятелю, к которому уже неловко было обращаться на «ты».
– Глядишь, чего вышагиваю здесь, как аист вокруг лягушки? – заставил его прислушаться Балюлис.
Сам спросил, сам же и ответил:
– Возьму да и сколочу навес. А то соседи смеяться будут. В такой усадьбе, скажут, да крыши для машины гостя не нашлось.
– Не сахарная – не растает.
– Не скажи, а ржавчина? Ржавчина, она грызет железо, что зубы сахар, – нажимал старик, не на шутку загоревшись своей идеей. Что это, желание показать себя или привычка вкалывать, пока не надорвешься? Из-под густых, кустистых бровей, как птички-корольки, выскочили глазки. Весело сверкнув, снова спрятались, укрылись от яркого полевого света. Казалось, жизненная сила старого человека таится в этих неспокойных кустиках да искрах.
– Лучше не надо бы, хозяин.
– Надо, почему не надо. Вон наша колхозная кассирша… Задвинула машину под крышу и знай себе надраивает. Ездить-то мало ездит, разве что на троицу да на Первое мая. Когда погонит продавать, как за новую сдерет.
– Кому что нравится.
– Не скажи. Кто она, а кто вы? Негоже машину такого человека под деревом держать.
– В паше время все равны, все.
– Равенство – это хорошо, да масла из него не собьешь! Соседи смеяться станут… Такая усадьба, скажут, а…
– Что это мой старик мелет? – издали учуяла неладное Балюлене. Она многое угадывала, как перемену погоды ноющими суставами. – Уж не новую ли будку сколачивать собрался? Не новый ли гроб?
– Уговариваю на вечеринку смотаться, Петронеле, не видишь разве? – Балюлис храбро вздернул левое плечо, пряча правое, от трудов и десятилетий опустившееся.
– Не хозяйничай! Ничего тут твоего нету! – подошла, переваливаясь с ноги на ногу, хозяйка и разоралась: – Совсем сдурел старик с этими своими пристройками!
– Кто сдурел, а кто от рождения… того…
Балюлис прыснул, но Балюлене не утихала, и он не вытерпел, ощетинился:
– А деревья, Петроне? Все на своем горбу притащил. И липы мои, и ели, и яблони…
Да, сад никто другой – он сажал, и ряды лип вокруг усадьбы, и стену елей с северной стороны, теперь такую высоченную, что небо подпирает. Что, интересно, ответит ему Петронеле, пустившая в усадьбе корни, как дерево, шелестящее отдельно, шум которого не всегда с шумом других деревьев сливается?
– Выкопай свои яблони и ступай себе! Деревья, видите ли, его. Может, и клен твой? Его мой батюшка посадил. Вся деревня свидетели, что клен Матаушас Шакенас сам сажал. Все, все его клен нахваливают. Что без него наша усадьба? Ничто!
Посреди двора, широко раскинув ветви, шумит этот могучий клен. Стоит подуть ветру посильнее, ветви клонятся в одну сторону и клен становится похож на поднявший паруса корабль. Только разве вымахал бы таким могучим и ветвистым, не встань вокруг усадьбы заслон из лип? Да и ели, с северной стороны, стройные и крепкие, высятся, что твои крепостные башни. Яблони, груши и сливы с великанами этими не соперничают, спокойно дремлют под их надежной защитой. Прорвавшимся ветрам удается лишь потрепать не подпертую ветку. Впрочем, у всех подпорки, и старые яблони колышутся, будто осьминоги.
– Ничто? Это мои яблони, это мое все… ничто?
– Подумать только: его яблони! Не ты – другие посадили бы! – вконец разошлась Петронеле Шакенайте, ведь она не кто-нибудь, она дочь Матаушаса Шакенаса, владельца целого волока[2]2
Волок – мера земельной площади (около 20 га).
[Закрыть], и, если чересчур крепко выдала, ни за что не признается.
– Другие? Говоришь, другие? А ме-ня…
От боли и удивления Балюлис даже запинается. На какое-то мгновение – это видно по вздрагивающей в распахнутом вороте рубахи шее – он сам вдруг засомневался: неужели все эти «уэлси» и «графштейны», полные, словно вазы с фруктами, посадил и взлелеял не какой-нибудь другой примак, а он? Высокие, хрупкие «кальвили», стянутые проволокой, с цементными заплатами на корявых стволах, не его руками воскрешены? Лежали после одной ночи поверженные, уничтоженные…
Но возразить словами Лауринас был не в силах. Даже взглядом не смог – обида погасила в глазах искорки, и на мир смотрели пустые глазницы. Две капельки влаги, блеснув, покатились по бороздам морщин и исчезли в давно небритой щетине.
Над конусом ели, чуть ниже продолговатого, чечевицеобразного облачка, зажужжал самолетик – этакая уютная двукрылая стрекоза. Позудел в вышине и скрылся, пришлось Статкусу снова смотреть на Балюлиса, жалкого и растерянного. Какой бы ничтожной ни казалась его обида с высот, где пролетала стальная стрекоза, в этой усадьбе она солона и горька. Но и обида, как та стрекоза, тоже растаяла в доброжелательной, всеобъемлющей тишине…
– Ладно, пусть другие, пусть другие сажают. Разве я против? С завтрашнего дня сена не кошу, ячменя на мельницу не вожу. Посмотрим, чем свиней кормить станешь, чем теленка напоишь, – очухался наконец старик.
Поссорились, ну и что? Небо из-за этого не обрушится. И все же Статкусу захотелось услышать трезвое мнение жены.
– Что они – всерьез или просто так?
– Кто?
– Да хозяева наши. Скандал, свара…
– Свара? Ах да, свара…
Солнечный блик сверкнул на ярко накрашенных губах. Два лакированных, отражающих солнце и любые неожиданности лоскутка целлофана, а не губы. С такой деланной улыбкой шныряет по магазинам, выслушивает его упреки.
– Ты… ты…
Не хватило слов, а может, дыхания, Елена снова попыталась покровительственно, будто ребенку, улыбнуться, но губы дрогнули, и улыбка разбилась осколками, стекла.
Статкусу захотелось, чего он давно не делал, коснуться этих губ. Теперь уже теплых, налитых кровью, или ему показалось? Испугался своего странного желания, прижал руку к бедру.
Елена подняла лицо к солнцу.
– Не обращай внимания, Йонас. Радуйся воздуху, покою. Твое здоровье, не забывай…
Я здоров, абсолютно здоров! Накатило тогда какое-то затмение. Отчаяние. Вместо того чтобы возразить, молча отмахнулся раздраженным, механическим жестом.
– Прилег бы. Опьянел от чистого воздуха. Почему так смотришь?
Еще что-то спрашивает. Шевелятся, поблескивают пятнышки окрашенных кармином губ. Уже не острые стекляшки – вялые обрывки целлофана. Стряхнуть бы с лица их глянец, но боязно: прилипнут к босоножкам рыбьей чешуей… Бр!.. Неужели она всегда так омерзительно улыбается? Нет, этих губ не хочется коснуться рукой, тем более губами.
А тишина струится, словно река протоками, полнясь голосами и шорохами. В густой смородине загудело осиное гнездо – не смей подходить к сверкающим ягодам! На проводах устроилась парочка голосистых щеглов. Чир-чир – часами, раскачиваясь, распевают свое «чир-чир». В кронах деревьев гудит многообразная жизнь, и трапа под ногами тоже полна ею, однако не слышно косы, которая по утрам соскребает со Статкуса остатки сна, и бесконечной тишине чего-то не хватает.
– Старик, не видишь, что ли, куры разбрелись! Прибил бы перекладину! – кричит Балюлене, вроде бы позабыв вчерашнюю ссору и озабоченная лишь одним: чтобы куры не пачкали двор. Здесь должно быть чисто, как в парадной горнице. У них гости. Загнала кур за загородку, а там дыра.
– Ищи дурака. Я лучше деревья свои повыкапываю! – не идет на мировую Балюлис. Хмуро смотрит на дорогу, вьющуюся мимо усадьбы. Висит сизый дымок от промчавшегося мотоцикла…
Не успевает дымок осесть в посверкивающий росой ров, как снова под холмом тарахтение. Балюлис спешит навстречу, заинтересовался и Статкус. Не так-то часто тут проезжают, еще реже останавливаются.
– Здравствуй, дядя Лауринас! Что скажешь?
Чихает тяжелый, заляпанный грязью Иж. Голос из-под красного шлема высокий, захлебнувшийся ветром.
– Здравствуй, доченька, голубушка! – непривычно ласково выпевает Балюлис, не обращая внимания на нетерпеливое чиханье мотора. Несет бензиновой гарью, но ему все это нипочем. Как-нибудь хоть на минутку удержать молнию! – Все летаешь и летаешь мимо, даже за яблочками не завернешь. Маленькая была, говорила: у дяди в саду, как в раю.
– Когда-а мне, дядя Лаури-и-нас? – напряженные руки не выпускают руля. – Лечу, себя догоняю!
Из-под шлема выбилась косичка, блестят голубые глаза и золото зуба меж потрескавшихся полных губ. Щеки суховатые, без морщинок, однако, сдается, они появятся, когда женщина заговорит. Не только солнцем, но и огнем жизни прихваченное молодое лицо.
– Зашла бы, голубушка, посидели бы под кленом. Груши-дули как раз для тебя уродились! – соблазняет Балюлис, и ее руки – крупные, красные – то отпускают, то еще крепче сжимают рожки руля.
– Ох, не завлекай, дядя. Развалится бригада без присмотра. Мотаюсь от одного к другому, глядишь, уговорю кого, расшевелю. Не проследи, тут же вокруг бутылки собьются. Вся рожь разом поспела, хоть на части разорвись!
Поджала губы – молодости как не бывало. Мужскими руками прячет под шлем косу, застегивает.
– Дядя, дядя, чего ж ты меня вчера не остановил? – Ее задело: что это вдруг Балюлис преградил путь? – Вчера в Рачьем овраге сено гребли, Пятрюкас ногу занозил, некого было на грабли посадить. Пока другого паренька уговорила…
– Нет уж, бригадир, спасибо. У детишек трудодни отбивать не стану. – Балюлис мрачнеет. – Разве это дело для мужика – на граблях трястись?
– Раньше-то, дядя, греб! По своей волюшке греб!
– Раньше я и на льне бригадиром был, и членом правления. Председатель, бывало, завернет посоветоваться. Теперь все мимо да мимо.
– Старый ты стал дядя, пенсионер! – Хоть и ласково сказаны слова, а, как дубинка, лупят. – За восемьдесят, если жена не врет. Закружится головушка от солнца, сползешь с сиденья под грабли, кто ответит? Я еще в тюрьму не хочу, мне вон девку поднимать надо.
– Показал бы я тебе, какой я старый. Ой, показал бы! – хихикает Балюлис. Шмыг-шмыг – и выпархивают из-под тени бровей корольки. Живы? Снова ожили?
– Ну, ну, дядя, – рвет игривую ниточку бригадирша. – Все вы, мужики, из одного теста.
– Так зачем ставишь? – Балюлис делает вид, что обижен до глубины души. – Человек я еще, не кочка. Когда прошлой весной надо было камни с поля убирать, я тебе старым не казался.
– Не прошлой весной. Четыре годочка минуло. Да и разве гнала я тебя, дядя, на камни?
– Гнала, не гнала, а шел, и все дела.
– Нет. У меня сердце есть. Неужто старого человека запрягать, а здоровых жеребцов оставить травку пощипывать? Нет, дядя, таких, как ты, я берегу.
– А кто крышу чинит, на самую верхотуру лазит – не старичок? А на липах кто ветви обрубает? Липа – это тебе не конные грабли.
– Ладно, ладно, дядя. Виновата. В другой раз не забуду. Когда ты, дядя Лауринас, по полю пройдешь – как гребенкой. Разве сравнишь с ребячьим баловством?
Мотоцикл срывается с места. Уносит озабоченное молодое лицо, а вместе с ним и солнце. От поля, от восковых хлебов. Так кажется, если посмотреть на Балюлиса, в глазницах которого снова тьма-тьмущая. Полетали и пропали его резвые птички-корольки! Носком старого башмака заровнял след рубчатой шины. Мелькнувшую было, но так и не расцветшую надежду.
– Не нужен ты, никому не нужен… – печально слоняется старик из угла в угол. Что ни поднимет – не на месте брошенную палку или сорванное ветром яблоко – все валится из рук.
– Строгий у вас бригадир. – Статкус не решается ни ругать ее, ни хвалить.
– Несладко бабенке. Одна девочку растит. Муж, оболтус, когда в армии служил, с городской спутался. Солнечный лучик на крашеную корову променял! Демобилизовался, а она его и не приняла. Никого к себе не подпускает. Когда по-хорошему отвадить не удается, по морде может съездить. Лихая у нее рука… Ой, лихая!
– Куры-то разбрелись! Пойди загони кур! Тебе говорят? И перекладину прибей! – не ослабевает, растет, чуть ли не тревогу бьет голос Балюлене. Где-то мощный поток воды прорвал плотину, где-то повреждение на высоковольтной линии парализовало большой город, а тут – хлопья куриного помета на дорожке. Трудно ли обойти их, смести? Зачем такая тревожная торопливость?
– Кур тебе гонять? Ни на что больше не годен, – печально качает головой Лауринас.
– Смеешься? Старик огорчен, а ты… – шипит Статкус.
– Я?
– Ты же смеешься. Злорадствуешь.
– Разве?
Елена ловит нетерпеливый, что-то срывающий с ее лица взгляд Статкуса. Проводит пальцами по губам, с испугом зажимает рот ладонью, и этот робкий жест словно разгоняет окутавший память туман. Так, стиснув губы, стояла Елена, когда он, Йонас Статкус, сватался, неуклюже обращаясь одновременно к ней и к ее отцу, которого не любил, а возможно, и побаивался. В окна тогда лился тусклый, процеживаемый деревьями вечерний свет, в комнате громоздился некогда белый, а нынче серый шкаф, где в давние времена отец Елены хранил лекарства для людей, а теперь держит снадобья для скота. Старик изрядно выцвел, пока Статкус гонялся за своей синей птицей, раз за разом разочаровываясь и пускаясь ловить новую. Не скоро Еронимас Баландис проронил несколько слов, означавших и «да», и «нет»; мнение его, конечно, никого не интересовало, единственным настоящим ответом была ладонь его дочери, прикрывшая губы, чтобы не выкрикнули: «Нет!» Через многое должна была перешагнуть Елена, вот так внезапно, без подготовки – и через свое чувство не к кому-то другому, а к нему же, чувство, успевшее прогоркнуть от безнадежности, и через близящуюся одинокую старость отца, а главное, через мертвое тело сестры Дануте.
Словами не было сказано ничего, будто не открыл он серьезности своих намерений, давно взлелеянных и выношенных, так давно, что никто, возможно, и он сам уже, в них не верил.
– Садись, Йонас. Устал, наверно. Хотя теперь до нас не так трудно добраться, правда? – заговорила Елена, задушив наконец крик, который окончательно разлучил бы их.
Он действительно ехал с комфортом. Автобус, состязаясь с ветром, мягко катил по широкой полосе асфальта, покачивая пассажиров на удобных сиденьях. Когда-то ездил сюда на крыше вагона, потом бесконечно долго тащился по скверной, ухабистой дороге, избегая и конных и пеших. Времена изменились, давно изменились. Все – и хорошее, и плохое – совершалось уже не по ночам, под жуткое мельтешение теней, а при свете дня. Ночь стала лишь продолжением дня, и поздний час не прогнал утреннего решения, которое заставило его сломя голову мчаться на станцию.
– Слишком большие фермы – это скверно. Натолкают скотины в коровник, а у каждой коровенки своя болезнь. – Отец Елены приподнял бутылку подкрашенного травками спирта, посмотрел на свет, нет ли мути. Тоже не словами – кислой миной уколол в больное место, хотя вроде был рад позднему визиту. – Небось во дворце живешь? Строитель же.








