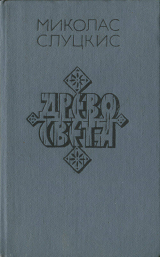
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
– Бумажные мои дворцы. Ничего у меня пока нет.
– Где же будете жить?
– В общежитии.
– Не бог весть что, зятек.
– Получим квартиру. Все получим. Надо потерпеть!
У него и в мыслях не было смеяться над ними. Этот дом был наполнен терпением, как и непрекращающимся тиканьем часов. Стены, воздух, лица… Если кому и не хватало здесь терпения, то лишь ему. Стены с осыпавшейся штукатуркой много раз слышали, как дрожит его голос от стремления перепрыгнуть через самого себя. Часы – продолговатый черный ящик с желтым блестящим маятником – его, не их подгоняли. Он должен был спешить, не удовлетворяться тем, что под руками. Скорее, проворнее добивайся цели! Неважно, что цель тебе не вполне ясна… прояснится! Он спешил и за них, пустивших корни на этом холме среди милых ненужных вещей, вроде старинных громоздких часов, – разве поймет его нетерпение упрямый Еронимас Баландис? Ему эта рухлядь лишь напоминает своим боем, когда пора выползать на ферму. Скинет барские, разлезающиеся уже шлепанцы и сунет ноги в огромные, облипшие навозом кирзовые сапоги, в конце войны выменянные у солдата… Хватит предаваться беспочвенным мечтам, никакие часы не пробьют тебе часа, который еще не пришел.
– С Еленой… вдвоем. Мне ничего не страшно!
Неужели блуждания не закончились? Неужели примчался сюда не дать – только взять? От напряжения у Статкуса зарябило в глазах. Белый воротничок Елены… Она по старинке шьет себе платья, украшает мережкой воротнички. Сумею ли вознаградить ее за ожидание, которое еще не кончилось?
– Чего уж страшиться такому мужику? В армии-то давно отслужил. Это юнцам жениться невтерпеж…
Увы, мы уже не юнцы, и себя жалко, и ее так жалко, что, шепнув ей «люблю», ты в этот миг, наверное, не очень покривил бы душой. Но она не потерпит ни крохи лжи. Лучше уж слушать разглагольствования Еронимаса Баландиса.
– Помнишь, какие бывали здесь зимы? Недавно нашел на чердаке Еленины коньки. Который год ржавеют…
Да, да, один конек привязывала, другой ему совала, но при чем тут эта ржавчина? Многое изъедено ржавчиной.
Еронимас хочет что-то напомнить, чтобы им стало легче, чтобы было о чем говорить, но это ему не удается. А может, просто не спешит (на ферму еще успеет, куда она денется?), обсуждает дела с бывшим самим собою, носившим халат аптекаря, а не санитара колхозной фермы. Его поведение не выдает недоверия или насмешки по поводу решимости Статкуса, однако и то, и другое так и торчит из него наподобие кольев, которыми люди постепенно вновь огородили свои садики.
– Ну чего ты привязался к Йонасу? – первой приходит в себя Елена. Его единственная заступница и защитница в этом доме после смерти матери. Голос жесткий, натянутый, чтобы не выдать ничего, кроме грустного согласия.
Елене не семнадцать – двадцать семь. На лице, на шее, обрамленной белым школьным воротничком, еще не проступили отметины лет, но не дождалась она того, на что надеялась, – о любви Статкус так и не обмолвился. Подождет, и женою став. Казалось, сейчас, в эту минуту, начинается ее новое ожидание, не сопровождаемое ни печалью, ни радостью.
– Будем жить, как все, – спешит успокоить ее, да и самого себя Статкус.
Елена понимает: в такой час она должна подарить ему немного радости, но от ее сдержанности, от вымученной улыбки веет холодом. Такую не обнимешь вдруг и как-нибудь иначе тоже не приласкаешь.
– Прошу тебя. Если можешь… Еще разок прижми ладонь к губам, – несмело просит Статкус, когда ее отец Еронимас Баландис отправляется наконец на свою ферму. Долго маячит и все никак не может исчезнуть колеблющийся свет его закопченной «летучей мыши»…
Вновь позванивает коса Балюлиса, хотя и грозился, что больше в руки ее не возьмет. Однако не радует она ни его самого, ни прислушивающихся к ее вжиканью. То ли роса рано сошла, то ли за ночь много новых кротовин повырастало – коса то и дело тупится, не успеваешь править. Рассердившись, зацепил, даже не отерев, за сук и объявил, что поедет на мельницу. Обида гонит из дому? Саднящая рана от насмешек Шакенасов, слабым эхом докатившихся до лета тысяча девятьсот восьмидесятого? Не много было у Балюлиса ячменя – два мешка, Статкус предложил пособить. Ни за что на свете. Сам погрузит, сам свезет. Не сразу понял Статкус, что главное тут – не поездка. Обряд, который невозможно ничем заменить… Сначала попробуй выцарапать лошадь, пусть она есть и тебе, колхознику, полагается, как голове шапка. Начался длинный разговор – тут у Лауринаса с Петронеле полное взаимопонимание – о Линцкусе, одном из шести хозяев, к которым прикреплена колхозная кляча. Когда зимой надо было поставить скотину под крышу, Линцкус выкрутился. Кашлял, всю зиму кашлял. Охапки сена из битком набитого сарая пожалел. Пришлось Балюлису, на полсотни лет старше, отдуваться за прижимистого соседа. Не шуточное дело по снегу к хлеву пробиться, кормить и поить коня задубевшими от холода руками.
– Вот увидишь, заявит, что родне одолжил, – утверждала Петропеле.
Но тот и не думал никому одалживать. Словно почуяв, что Балюлису потребуется лошадь, приплелся сам, размахивая поводком. Запахло лошадью, но тут еще и хвоста ее не было. Хоть бери да запрягай самого Линцкуса! Ничего, добудем… Где-то бурлили континенты, ворчание вулканов свидетельствовало о невидимых глазу, но катастрофически роковых сдвигах во чреве Земли, а тут, в краю всхолмленных равнин, не менее значительным было цоканье лошади из двора одного колхозника в другой.
– Сорвалась, етаритай! Вот я и подумал, снова к дяде удрала, травку пощипывает. И чем ты их кормишь, что завсегда к тебе бегут? Марципанами?
И Линцкус зашелся от смеха – малорослый, коренастый, широкогрудый. Большая голова уже с глубокими залысинами. Не скажешь, что молодой.
Когда-то побывал в Москве. Возвращаясь из армии, завернул. Там-то отведал марципанов. На всю жизнь вкус их во рту застрял. Чуть что – марципаны. «Етаритай» – словцо ругательное – местного происхождения.
Громко разговаривая, мужчины собирались на поиски лошади. Линцкус походя выхватывал из куч яблоки и хрупал. Долго, пока горб холма не заслонил солнца, звучали голоса, летели огрызки. Довольный предстоящим походом, громко тараторил Лауринас. Конь наверняка окажется там, где ему и надлежит быть, один только растяпа Линцкус этого не ведает.
Петроне угрюмо переминалась с ноги на ногу возле кухоньки и вздыхала. Однако не печально, хотя и помянула о смерти.
– Вот ведь человек! Помирать станет, а этих своих марципанов не забудет.
Разве не знал Лауринас? Прибился мерин к табуну. По оврагу разбрелись гнедые и сивые, землю сотрясали копыта жеребят. Одно удовольствие смотреть, как гоняются друг за дружкой или, сбившись в стайку, тычутся мордами, будто беседуют. Не под седлом им ходить – скоро заменят в оглоблях колхозных доходяг, – но все равно смотрел бы и смотрел не отрываясь. Особенно ежели привычен к запаху лошади с колыбели. Так и тянет поторчать по соседству, впитать в себя терпко пахнущую бодрость молодых лошадей!
Был уже совсем вечер, когда на дворе возник Каштан. Большой, как сарай, ширококостый и пестромордый. Такого и испугаться можно. Началось поение, кормление, другие радостные хлопоты. Грудь у коняги в кровь хомутом стерта. Спина оводами разворошена, что твой лужок кротовинами, и где только были глаза Линцкуса, где были сердца его и еще четверых других хозяев? Балюлис промывал и смазывал раны мазями собственного изготовления, Балюлене следила за его работой издалека, но, безусловно, сочувствуя.
Лошадь спутали и пустили пастись между деревьями. Тяжело, словно по барабану, стучали копыта, и вместе с этими приятными звуками и после глотка поднесенной хозяйкой наливки распространился по усадьбе дух доброго примирения. Петронеле, не выносившая даже вида коровьего навоза на дворе, и не думала поднимать шум из-за свежих конских яблок. Покорно собирала их, лишь для порядка ворча. Хорошее настроение не покидало ее. На ужин подала не ежевечернюю вареную картошку в старом чугунке, а чай. Лауринас любил горячий чай со свежим вареньем из собственного крыжовника. Лошадиная морда, выискивая траву посвежее, сунулась под раскидистую яблоню – затрещали ветки, упала подпорка, на землю дробно посыпались яблоки. Но никто не бросился гнать виновника, ведь в уединенной, не тронутой мелиорацией усадьбе он помощник, друг и редкий гость.
Что же случилось? Почти ничего, однако Статкус понял, что тишина, пахнущая разогретыми на солнце яблоками, непременно должна пахнуть еще и конским потом, и навозом, а также дегтем, которым Балюлис уже с вечера смазал тележные оси.
Не терпится Балюлису, вертится и Статкус, будто ему тоже вставать, собираться, ехать, не важно, как и куда, искать то, чего не терял. И испытывает он тревожное удивление, будто прежде доводилось уже ему погружаться в такое вот ожидание: внутри ничего невозможно нащупать, все вне тебя, от тебя отгорожено, но это твое тщетное ожидание не прекратится, если немедленно на что-то не решишься. Попроситься с ним? Но ведь Балюлис собрался недалеко, на межколхозную мельницу, в бывшее имение. Набитый ржавым железом пруд, прогнившие вязы… Ну и что? Откроется за поворотом поворот, раздвинется смерзшийся в глыбу льда мир, вдохнешь полной грудью. А может, не мешать старому человеку побыть самим собою, когда и себя-то не ощущаешь? Ведь вместо жизни гремит внутри пустота, равнодушие ко всему, что неумолимо надвигается, когда жизнь перевалила на вторую, катящуюся вниз половину. Что еще на оставшемся пути, если не немощь старения?
Статкус слышит, как Балюлис, когда заря уже занялась, распахивает хлев ласточкам. Ведет коня к колодцу. Поит. Предстоит дорога, и капли, падающие на вросший в гравий жернов, принадлежат уже не малому, огороженному липами и елями миру, а другому, непрочному, торопящемуся, забитому неотложными делами, предупреждающему о расстояниях и рытвинах на дороге, об ожидаемых и непредвиденных препятствиях, которые могут помешать осуществлению такой простой и ясной цели – свезти на мельницу два мешка ячменя. И лошадь уже фыркает по-другому, не равнодушно, не покорно, а будто ржать собирается. Неужели и Каштан ждет не дождется, когда забарабанит под его копытами земля и сверкнет укатанная дорога, вьющаяся по родимым полям?
Балюлис ладонью обтирает росу с клеенки, прикрывает ею мешки, подтыкает под них края, чтобы все в телеге ощутило его руку. Уже брошена охапка сена – и сидеть мягче, и мерина подкормить, положен кнут. Едва ли понадобится, но тоже о чем-то свидетельствует, что-то напоминает. Что? Силу, которой больше нет, молодость, которой не дозовешься? Скрипнул пересохший, редко снимаемый с деревянного колышка в амбаре хомут, и Каштан тронулся. Загремели колеса. Балюлис шагает рядом с телегой, подлаживаясь к ходу коняги, окидывая взглядом словно отползающее назад гумно. Не терпится поскорее оборвать повседневные узы, но хочется и как можно больше взять с собой. Ведь нигде так легко, словно горсть гороха, не разбросаешь всего, как в дороге, когда глаза слепнут, а дали манят. Можно потерять подкову, бывает, обод слетит, а бывает… Балюлис ухватывается рукой за боковину, отталкивается и, не останавливая лошади, заваливается в телегу. Оборачиваться и не собирается, Петронеле свою спиной видит. Притихшая, со скорбно поджатыми губами… Ее бы воля – ни за что не пустила со двора. Лошадь – хорошо, лошадь нужна, но что, если не лошадь, отрывает мужа от дома? Лауринасу нравится: ишь, как за него держатся, он беззаботно помахивает кнутом. Хочет подразнить, словно сзади, меж вишен переминается, вогнав палку в землю, не тяжелая его Петроне, а молодая и пугливая Петронеле, ужасно боявшаяся его отъездов, его безумной страсти к лошадям.
– Белье чистое? Белье-то надел, Лаури-и-нас? – пронзительно крикнула вслед, будто не на мельницу собрался, а на край света.
Статкус содрогнулся – таким криком мертвого поднимешь, Лауринас даже не обернулся.
– Иэх! – подстегнул, едва сдерживая участившееся дыхание. Будто взвалил на телегу не только свое старое тело, но и тяжелый валун. Было время, на бегущего коня вскакивал не задумываясь. Сам был, как молния, и жеребцы у него такие же были, клевером да овсом кормленные.
– Лау-ри-нас! Маши-и-ны! По сторонам гляди-и! – все еще исходила криком невидимая уже, заслоненная деревьями хозяйка, и тонкий, как проволока, голос ее, казалось, обвивался вокруг шеи Лауринаса, не давая продохнуть.
Всю жизнь так. Ни разу не отпустила с улыбкой, с легким сердцем. Вечно удрученная, вся в зудящих клещах страха, сосущих из человека кровь. Ты едешь, и клещи те едут, пока не вытрясешь. Потому и рвешься, как из петли.
Колеса затарахтели, перекатываясь через корни, потом утихли, попав на мягкую песчаную перину спускавшейся вниз дороги, и Лауринас зажмурился от удовольствия. В полумгле заросшей ольхой низины что-то сверкнуло, это подкова, задев камень, высекла искорку, и вот конь – уже не убогий Каштан, а другой, сивой масти, что, бывало, тянул за собой в ночи ниточку искр – вырвался на простор. Казалось, после того как выберешься из мрачного леска Шакенасов, откроется перед тобою бесконечность, гони как хочешь и куда хочешь – шагом, бешеным галопом или, бросив поводья, доверься своему Жайбасу[3]3
Жайбас – молния (литов.).
[Закрыть].
А он тоже хочет лететь, Жайбас. Как Молния, – крикнул кто-то восторженно, и жеребец так и остался Жайбасом. Призы брал, обгоняя в уезде не одного скакуна из помещичьих конюшен. У них, почитай, каждый год скачки устраивали, на породу не глядя: кто желает, у кого конь порезвее – давай скачи. Вот и Жайбас… А небось не прохлаждался, как другие его соперники, пахал и боронил, воз таскал и сани. Лишь за несколько дней до соревнований давали ему передохнуть, на свободе или под седлом походить. Об одном только всегда свято помнил Балюлис – неважно, выпивши бывал или работой завален! – каждый день чистить и расчесывать Жайбаса. Жеребец был орловской породы, небольшой, с пышным хвостом и развевающейся на ветру гривой. Балюлис заплетал ему гриву в маленькие косички, а перед скачками распускал. Разливалось такое серебро, такой ослепительный светлый блеск, что мужики ахали, увидев, а завистники не могли удержаться:
– Глядите, Балюлис на своем безрогом козле!
– Навоз с брюха три дня отдирал! Как тут не заблестишь!
– Орловец? Сука его родила, а папаша – козел!
И так и сяк подкалывают, а Балюлис знай себе скребет костяшками пальцев бок своего Жайбаса, чтобы и жеребца, и свои дрожащие руки успокоить. Сам из жеребенка вырастил, сам! Купил у крестьянина, плохо в этом деле разбиравшегося. Торговал сивого жеребчика другой, тоже не бог весть какой знаток, уж и магарыч сулил поставить, а тут Балюлис накинул сверх запрошенного полсотни литов… Попади орловец – может, и не совсем чистых, может, и мешаных кровей, но от этого не менее лихой, выносливый и быстрый, – попади в грубые руки, век бы ему не вырваться из навозных оглоблей, не почувствовать, что умеет летать. Раза два в году брал Балюлис свое, всем показывая, какой у него жеребец и каков он сам среди расставленных поперек беговой дорожки, одно страшнее другого, препятствий.
Балюлис сдерживает тяжело дышащего Каштана, который ничем – ни мастью, ни сложением – не похож на Жайбаса. Старый, хромой. Однако что-то связывает их, возможно, дымка воспоминаний, возможно, запах конского пота, самый приятный из всех на свете запахов. Тронешь, кажись, сейчас не вожжи – трепещущие нервы рысака и почувствуешь ответную дрожь Жайбаса, ощутишь его готовность к полету. Даже ветер галопа услышал Балюлис.
– Но, милок, – хлестнул по крупу вздремнувшую клячу – теперь еще медленнее поплетется, а в лицо по-прежнему бьет рассеченный быстрыми копытами воздух, полощутся гривы несущихся рядом лошадей, мелькает штакетник длинного забора, пестрые зонтики дам, словно маки, усеявшие край поля.
– То ли скачете, то ли летаете вы на этой своей Молнии?! Откройте секрет, господин наездник! – игриво кидает ему, протягивая букетик васильков, одна такая – зардевшаяся, словно мак, хорошенькая, темные глаза посверкивают, и он, внезапно свесившись, как на кавалерийских учениях, подхватывает ее за талию и водружает перед седлом. Руки еще не угомонились, не вернулась еще к ним смиренность пахаря. Они еще должны были что-то превозмогать, иначе не осилишь все препятствия, не пробьешься сквозь упругий, хлещущий встречь воздух, еще чувствовал он потным затылком злую зависть соперников. Ему и не снилось, что вдруг вытворили эти руки. Уже на старте, садясь в седло, обратил внимание на ее васильки: ну, ничего себе барышня, ну, покосилась на него, увидев на коне, скорее всего ее тоже волнует конский запах, но у него и в мыслях не было, что, придя первым, схватит ее в охапку. Опьянев от успеха, не совладал с руками, вот и все! Все? Не собирался тискать на виду у всего честного народа, тем более в каком-нибудь укромном местечке. Да и длилось это одно мгновение – облачко духов, оханье и горячее прикосновение спеленутой тугим шелком груди. Лошадь переступила, качнулись и долина, и раскинувшийся за забором уездный городок, и небо над ним. Стой – яростно крикнул он, одергивая не столько жеребца, сколько свои неразумные, не желающие выпустить добычу руки, и вот барышня снова на лугу, осторожно, как перышко, спущенная с коня. Ничего с ней не случилось, платье слегка помято, да щеки залило бледностью. Испугалась? И все-таки за лихость Балюлис заслужил пылкий взгляд сквозь вуалетку, прикрывающую глаза, а кроме того, поздравления зевак, обступивших всадников, и проклятия всего семейства Шакенасов, донимавшие его всю жизнь, не забытые до сих пор, хотя перешагнул он уже за восемьдесят и трясется в расшатанной телеге, которую тащит старый хромой мерин.
– Не удержался, кобель, похвастался? Городская потаскушка, вот она кто! Настоящая дама не станет отираться среди пропахших лошадьми мужиков.
Так сурово оценит Балюлене этот его давний молодецкий порыв, разговорившись со Статкусами. Будто не она кричала похоронным голосом: «Белье чистое? Белье-то надел?» – резанула по воздуху ладонью – меня, мол, это и теперь не интересует, как не интересовало тогда! Однако вспыхнула, словно в жилах все еще течет молодая ревнивая кровь. На пухлом, морщинистом, как плетеная корзина, лице вздрагивали губы.
– Дома-то небось кислое молоко хлебала. Тоже мне барыня – с голым задом. Вуальку-то на шляпку, чай, сама и вязала!
Не дождавшись сочувствия, на которое рассчитывала, горячо прибавила:
– Моя двоюродная сестра Шакенайте Зофия… Рядышком стояла, все своими глазами видела!
Казалось, давно надо бы вытащить занозу, полжизни торчавшую в сердце, тупым ножом выковырять само воспоминание о сопернице, однако чем больше старалась, тем отчетливее виделась сеточка, прикрывавшая бессовестные глаза, тем громче слышалось дыхание, распиравшее на груди шелковое платье.
Вот тебе и любовная история: потихоньку распутывал Статкус старинное приключение и удивлялся, что ему это интересно. Озорная уездная дамочка по пути на скачки нарвала васильков и из-за одного этого уже никуда не исчезнет, даже не постареет, наполняя юношеской отвагой ссохшегося старика и не переставая гневить измученную трудами и годами старую женщину? И сколько же это будет продолжаться? Пока руки Балюлиса будут в силах править полудохлой клячей, а глаза Балюлене из-под ладони всматриваться сквозь густые вишни на дорогу?
Надо бы спросить у Елены, подумал он, как привык делать, если вдруг бытовые мелочи загоняли в тупик. Но увидел ее бесстрастную, отметающую все сложности улыбку и понял, что ему будет неинтересен ответ жены. А ведь сам заставил ее быть такой и не потерпел бы другую… И горько усмехнулся над собой.
– Не думайте, я не вру, – испугалась его усмешки и выпучила глаза Балюлене. – Двоюродная сестра Зофия. И еще одна, Морта, подружка моя. Обе свидетельницы… Как та мамзелька Лауринасу на шею вешалась. При всех вешалась!
– Что вы, хозяйка. Вы ведь всегда правду говорите! – бросилась успокаивать ее Елена.
– Как не поверить, – поддержал Статкус, а про себя подумал: фантазия, чистейшая фантазия, невесть что выдумывают старые люди, ровно дети, а ты ломай себе голову над их действительными и мнимыми приключениями. – Вы тут потолкуйте, а я тем временем…
Так и не отыскав предлога, отпрянул от чужой боли, которая едва ли была сильнее, привези Лауринас мамзельку в расшатанной телеге, влекомой медленным Каштаном.
Тем временем Лауринас успел смотаться на мельницу и обратно, словно никогда никаких соблазнов в дороге и не испытывал. Уехал на мешках веселый и приехал веселый на тех же самых мешках. А что еще могло с ним случиться? Ведь отправился ячмень молоть, а не на свидание с молодостью. Тени становились все длиннее, подкрадывался вечер, пора прощения и примирения. С полей, опустевших и местами уже обнаженных, веяло бескрайним простором, заполнят и смягчат его разве что зимние снега. Но пока зима еще за горами, а тут, рядом, словно вознесенный топор палача, миг недолгого, все убывающего дня; и падает срубленное древо света – самое высокое из всех саженых и несаженых деревьев.
Как же короток этот день, господи, да и жизнь, вся жизнь! В вечерний час многим такое на ум приходит, особенно тем, кто в дороге, пусть и недолгой. Но вот встречает путника налитый соками лета, всеми его ароматами сад, даже винная сладость малины полощет пропыленное дорогой горло – за амбаром все зреет и зреет крупная малина, второй месяц не кончается. Уже и мысли иные, и не так страшно поднять глаза в пустое небо. Тут еще долго будет сочиться свет, дольше, чем где бы то ни было; и остается надежда, что на поваленном древе света вновь проклюнутся почки, что оно снова могуче раскинет необъятную крону своих ветвей – мост меж бытием и небытием…
Лауринас распряг еле переставляющего ноги Каштана, напоил и пустил, даже не спутав. Пошатывало и самого – нешуточное дело дорога на мельницу! Однако не присел, пока не прибрал мешков и не выложил шуршащих магазинной бумагой свертков. Около телеги топталась Петронеле, беззлобно поругивая мужа, зачем, мол, взял рыбу (есть еще!), зачем целый батон вареной колбасы (испортится, лето же). Интересовалась и мельником: все тот же, который тогда, помнишь, Лауринас?… Лауринас терпеливо, тоже нисколько не сердясь, отвечал (где уж тому-то, Петроне, старик давно у Авраама трубочкой своей дымит, сын, но тот, бывало, ни горстки, а у этого… Многовато мучицы мимо мешка сыплется!).
– А как он, мельников сын? Красивый? – не отставала Петронеле. – Отец-то красавец был, высоченный.
– Етаритай и етаритай, как скажет наш Линцкус. А что до красоты, то уж куда красив! Нос – что хлебный нож!
Оба расхохотались, довольные веселым разговором и друг другом, будто и не промелькнула между ними мамзелька с вуалькой, легко и скорее всего неожиданно приплывшая через море времени.
Потом Лауринас жевал в летней кухоньке утрешние блины. Очень любил подогретые и обиняком сделал своей Петронеле комплимент: в закусочной тоже-де заказывал блины, так не откусишь, чисто из жести! Наконец Лауринас поднялся, чтобы пригнать домой корову, услышав это. Елена предложила помочь.
– Не на-адо! – посуровели только что улыбавшиеся губы Петронеле. Так же отшила бы и сноху, и любую другую женщину, по неосторожности слишком близко сунувшую нос. Даже сквозь сон, больная, из постели так же отшила бы и лишь потом подумала бы, что позарез нужна помощь. Но смертельно уставший Лауринас не сопротивлялся, пускай сходит. – Не корова у нас, а дьявол. Ударит, с ног собьет! – постепенно смягчилась хозяйка. Сама не могла двинуться с места, измученная дневными трудами и ожиданием.
– Вмажь ей покрепче, ежели брыкаться начнет, не цацкайся. На-ка возьми, – и Лауринас протянул кнут, соблазнительно пахнущий лошадью.
– Ну, совсем сдурел старик! Станет тебе городская барыня кнутом размахивать, ровно какая пастушка! – пристыдила его Петронеле, но не пустилась пилить, изливать застарелую обиду или разочарование, о которых на короткое время забыла. А может, не забыла, отодвинула в сторону. Ведь мог и не вернуться. Мог не вернуться. Статкус вслушивался в эти непроизнесенные слова и не слыхал, как возвращавшаяся с пастбища корова суется то на свекловище, то в ячменя.
Елена после многих лет перерыва присела к вымени, и струйки молока неуверенно зазвенели в ведро. Словно пианино, к которому прикоснулся давно не игравший музыкант.
Каждый прыск струйки мимо подойника – в солому или в навоз – должен был бы отзываться в душе Петронеле как удар, но она, настроенная не буднично, не обращала на промахи никакого внимания. Ведь дождалась мужа, который мог не вернуться…
Статкус смотрел, как жена, сполоснув подойник, моет в тазу ноги. В темноте бело сверкали икры, что-то воскрешая из тумана памяти.
– А ты, мамочка, и доить умеешь? – спросил несмело, словно ответ будет упреком ему самому.
– Какое там умение! Обрызгалась с головы до ног. Беда старикам с такой коровой. Бешеная.
Статкусу понравилось, как она говорит, – самые нужные слова, и больше ничего. Можно подумать, с незапамятных времен только и делала, что мыла ноги, и вода с шорохом выплескивалась на траву.
Ведь она деревенская, вспомнил он, хотя сто лет знал, что деревенская, как и эта Петронеле. Дочь аптекаря, но все равно деревенская.
– Видишь, оказывается, твоя мамочка не последний паразит. – Елена рассмеялась, и ее низкий горловой смех вновь, уже который раз задел нежную, давно забытую струну.
Собралась Елена и на другой вечер доить. Настороженная, массировала соски, потом доила в распахнутом хлеву, чтобы в случае чего подоспел на помощь хозяин. Балюлене не радовалась, но и не протестовала – стояла поодаль и поглядывала исподлобья. Чернуха махала хвостом, однако из цепких Елениных пальцев вырываться не собиралась.
– А из тебя неплохая доярка получилась бы, – похвалил Статкус жену.
– Вот не думала, что снова доведется под буренку лезть. – Ее смущенный взгляд как бы извинялся, что приобщилась и получает удовольствие от такого, не всем доступного дела.
– Попробовала бы, как они. Изо дня в день. Осенью, зимой… – Статкус попрекал, все больше раздражаясь, не понимая, почему не может простить ей этого освобождения и приобщения. И одновременно ему нравилось, смотрел бы и смотрел, но рядом с дояркой, чувствовал, долго оставаться опасно.
– Что и говорить. Разве я не понимаю? Но все же твоя мамочка – не последний паразит, правда? – повторила она вчерашнее.
Мне приятнее, когда ты натягиваешь лакированную улыбку! Но вслух лишь предупредил: не очень-то хвастайся, а то прозеваешь, брыкнется корова.
– Сейчас кончу. Будем ужинать. Котлеты, что от обеда остались, сойдут?
И снова ни малейшего намека на какие-то глубины – деловая, заботливая. С мужем одна, с людьми другая… Нисколько за него не опасается, спеленут, как шелкопряд, ее заботой и самопожертвованием. Разве не она задумала эти воспоминания? Сама-то в тени держалась, через других, «от имени поколения» действовала. Но покажите мне, где оно, то поколение? На пальцах сосчитать можно трясущиеся головы. Излюбленное место их свиданий – вестибюль поликлиники, ха! Не выстроишь по тревоге – разбрелись кто куда, а те, кто поближе… Одни в большое начальство выбились, двое спились, этот цветы разводит (гвоздичка-то зимой – три целковых!), ну а тот, в которого чуть не уткнулся на улице, будто в стеклянную стену?… Пронеслись друг мимо друга, как чужие, враги… Враги? Сами себе – враги? Нет, это хорошо, что есть у него Елена; оторвется сейчас от коровы и снова будет послушной, ласковой. Воспоминания? Какие у тебя воспоминания, если ни черта не можешь наскрести, не знаешь, что и как вспоминать. Упираться невидящими глазами в ничего не говорящее прошлое, выводить из терпения покорную жену – вот на что ты способен!
Чернуха переступила задними ногами, закачалась, как лодка.
– Ну коровушка, ну, милая! – ласково запела доярка. Ведро снова зазвенело, только глуше, струйки стали короче.
Мрачная, как темная туча над липами, Балюлене не выдержала.
– Ладно. Сама процежу. Беги, муж-то скучает, – говорит она выходящей из хлева взмокшей Елене, властно перехватив дужку подойника.
– Раз уж начала, сама и кончу. Все равно забрызгалась.
– Ладно, говорю! – Хозяйка дернула ведро на себя, на землю шлепнулась белая шапка пены.
– Что-то не так, хозяйка? Чистенько процежу.
– Я же не говорю, что нечисто.
– Не понимаю, разве нельзя вам помочь?
– Bo-во. Привыкнем к помощникам, сами уже и доить, и кормиться не сумеем. Конец нам тогда.
– Ну что вы такое говорите, хозяйка? – Рука Елены отцепилась от липкой железной дужки.
– Вы-то уедете, а нам со стариком тут торчать. Двум сухим стволам.
– Не сухие вы стволы, милая хозяюшка. Два дерева. Дуба. – Лишившись ведра, Елена не собиралась уступать правде Балюлене, которая тяжело, словно пестом, дробила ее приподнятое состояние.
– Дубы, говоришь? Один такой в субботу похвалялся, мол, дуб, а в воскресенье богу душу отдал.
– Кто такой?
– Все равно не знаешь, – сурово отражали все льстивые взгляды выпученные глаза Петронеле. Не только желание делать все по-своему, и насмешка в них сквозила. – Не надо, дочка, старых людей жалеть. Мы, старики, тоже не лыком шиты. – И недобро рассмеялась. – Чего такая сурьезная? – уже повеселев, подзадорила она, взгромоздив подойник на скамью. – Столько чертовщины в рот набиваем, что, дай нам еще одну жизнь, прожевать не успели бы.
– Может, ваша правда.
– А ежели правда, чего такая кислая?
Елена через силу выдавила вежливую улыбку.
Сквозь тьму Статкус вглядывался в потолок. Низкий, грязно-белый, провисший, он смягчал угрюмость и суровость дома. Все просто, словно бы говорили когда-то крашенные белилами доски, надо только понять загадку постоянства и подчиниться ей. Просто?
Потолок опустился еще ниже, навис над ним, беспомощно лежащим, не способным отгородиться, оттолкнуть его руками и ногами. Куда-то подевалась одежда, облекшись в которую мог бы почувствовать себя увереннее, ощутить принадлежность к обычному, не задумывающемуся о вечности человеческому племени. В недосягаемой дали – служебный кабинет, телефонные звонки, привычная, деятельная и удобная жизнь, почему-то смененная на колодезную воду и будку за хлевом, на грозно нависающий серый потолок. Не успеешь моргнуть – прихлопнет с грохотом, и никто не вспомнит, что жил когда-то такой Йонас Статкус, возжелавший тишины и не выдержавший ее гибельного давления. Даже если и не рухнет сейчас, все равно тихо и жутко, будто лежишь в гробу, правда, в просторном и не заваленном венками. Валяешься на спине, вертишься вволю, даже можешь ворошить свои слежавшиеся, в сухие сучья превратившиеся мысли, но все равно в гробу – над головой страшная крышка, а не старинный, опирающийся на балки потолок. Затекшим локтем Статкус нечаянно задел лицо жены.








