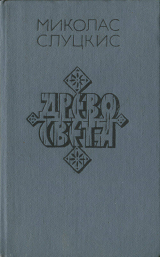
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Что? Дурной сон? – Елена не сразу очухалась, спала, а может, прикидывалась, что не замечает все ниже нависающей над ними тяжести.
– Дала наш адрес? – сердито спросил он ее, зевающую, норовящую снова заснуть. – Адрес деревни?
– Какой… деревни?
– А что, ее уже нету?
– Есть, есть, не волнуйся. И названия не изменили. Только людей выселяют с осушаемых площадей.
– Дала адрес, кому надо было, или нет? – Он потряс жену за плечо. Ни она, ни окружающий ее мрак не дрогнули.
– Знают, где ты, не бойся.
Ладонь Елены скользнула по его напряженной, потной шее. Погладит щеку, как ребенку? Абсолютно не понимает, как важна для него связь, пусть ничтожная, с большим, полным дел миром.
– Срочно понадоблюсь, а меня нет.
Он взбодрился, поверив в свою нужность. Потолок перестал давить, постепенно начал подниматься вверх. Жалкий, изъеденный древоточцем потолок деревенской избы, а не гробовая крышка.
– Не понадобишься, не волнуйся. – Елена не спешила согласиться, как делала это обычно. – А если и… Имеет человек право отдохнуть или нет? Мало ты вкалывал, что ли?
– Немало. Где по своему желанию, где посылали… Надо, значит, впрягаешься и везешь.
– Вот видишь.
– Ой, не крути хвостом, лиса. А корреспонденция?
– Никто нам не напишет. – Елена, сев в кровати, заботливо укрывала ему ноги.
– Врешь! Нарочно дурачишь меня. Думаешь, не понимаю?
– Разве что Неринга черкнет словечко. – Елена взбила его примятую подушку. – Впрочем, и она…
– Кто… кто? – переспросил он испуганно.
– Забыл, что у тебя есть дочь? Имя забыл?
Неринга. Нерюкас. Он молча приучал язык и губы к имени дочери, которая, если верить Елене, была его единственной связью с миром…
Если позвать ее – Неринга, не дозовешься. Нерюкас! Нравилось ей быть Нерюкасом, играть с мальчишками. Меньше пищат, позволяют запрягать себя, превращать в лошадок. По зеленой земле прыгал стройный кузнечик: длинные тонкие ножки и белые, красные, голубые импортные туфельки, которые Елена за бешеные деньги добывала на толкучке. Когда смотрел на дочку, дыхание перехватывало – как эти ножки не боятся жуков, стекла, ржавых гвоздей, велосипедов, мотоциклов, всего, что подстерегает, что гудит и катится, норовит обидеть, опрокинуть, причинить боль? Прыгала где вздумается, каждое мгновение менялось ее место под звездами, любая из которых по-своему определяет судьбу человека, как уберечь ее от опасностей? Нечасто эти мысли посещали Статкуса, выпавшего ныне из железных обручей неотложных дел. После месячного отсутствия (командировки, пусковые объекты, конференции) распахивает, бывало, объятия мельтешне и гомону – папа, папочка, па пулечка! – цепенеет. Ничего о ней не знает, разве только, что милое существо и сладко пахнут потные волосенки и все громче стучит растущее, не вмещающее в себя новых впечатлений сердечко, а это ведь не только она, это и я сам, каким никогда не был и не буду.
– Нарисуй мне свет, папа!
Не побрившись с дороги, глупо улыбается, и эта размягченность, когда хватает он Нерюкаса в объятия, странна и Елене, и ему самому. Не хотел, долго не хотел ее, хотя врачи и советовали Елене не тянуть больше – тяжелее будет рожать.
Девочка издала свой первый крик, когда они уже не были молоды. Появился новый требовательный житель планеты по неосторожности одного из них, но теперь ни он, ни жена не представляли себе жизнь без него.
– Нарисуй мне свет, папа. Свет! – Острые ноготки поцарапывают небритый подбородок отца, и блаженства Статкуса не поймет лишь тот, кому никогда не доводилось ощущать такое.
– Свет?
Пока будешь соображать, как, она потребует невероятных вещей, и, повздыхав, что придется возиться с ерундой, от которой давно и навсегда отказался, Статкус лезет в подвал, роется в старом ящике, извлекает на божий свет засохшие краски и кисточки. Сочной охрой ляпает огненное пятно.
– Не солнце, папочка. Солнце я сама умею. Свет!
Но как, скажите, нарисовать свет без лучей? Или дождь без тучи, без струек, без прыгающих пузырей?
А она снова:
– Нарисуй, папа, как нам с тобой хорошо. Очень тебя прошу!
– Хорошо, очень хорошо. Только, к сожалению, нет таких красок, которые изобразили бы, как нам с тобой хорошо.
Тем более не расскажут краски, воскрешенные для одного мазка детским капризом, что сегодняшнее блаженство горько. Получив в подарок ни с чем не сравнимую радость, лучше чувствуешь размеры утраты. Я многое утратил. И Елена тоже… Из остатков сложили мы мост над волнами и дрожим теперь, как бы полнота жизни не раскачала его. Рядом с тобой, малышка, должен быть кристально чистый человек, а я таким быть уже не могу. И не требуй от меня этого. Твоя мать не требует.
– Ты все можешь, папа. Нарисуй без красок!
Он берет ее пальчики, неспокойное, шебуршащее нечто, пахнущее мелом, ржавыми гвоздями и липовым цветом, и водит ими по столу.
– Перестань валять дурака, Йонас, – заглядывает из кухни Елена, их игра ей нравится и не нравится. – Морочишь ребенку голову – вот и вся польза от отца. Снова исчезнешь, а она будет сидеть над чистыми листами. Выйдет из дому – не сумеет улицу перебежать!
Не сумеет перебежать улицу? Сжимается сердце, словно предсказываемые звездами беды уже подкрались и навалились.
– Что означает красный свет светофора? Знаешь? А зеленый? – его громкий голос, привыкший командовать и наставлять, легко справляется с призраками опасности.
Она радостно кивает.
– Смотри, Нерюкас, не забывай.
– Не забуду, папа.
Когда с безумной скоростью гонит он машину или поднимается на строительный кран, мелькнет вдруг перед глазами красное и зеленое, спутается их последовательность, и он ощутит шорох небытия. Моя девочка, проговорит шепотом, почти веря в защитную силу своих слов, хотя сам – прекрасно знает! – не стоит их и скоро забудет, окунувшись в водоворот дел, в свою торопливую, не дающую опомниться и задуматься жизнь…
Поездка на мельницу забылась, как зазмеившийся поперек дороги, весело тряханувший телегу корень. Снова спокойно, снова тихо… Ровно, однообразно постукивает кто-то, будто ткет белесое полотно проселка и стелет его за собой. Красный тракторишко везет механика на обед. Это транспортное средство из списанных железок он смастерил сам – вот и задирает теперь нос. Не приостановившись, не поздоровавшись, катит мимо, будто жалко словцо обронить, будто словами, не мазутом гонит трактор.
– И где это видано! Скоро колхозники по малой нужде на колесах станут ездить. Мы-то… на лошадях пахали, на лошадях ездили и везде поспевали.
Не без причины сердится Балюлис – завидует молодому, который запросто, как мальчишка палку, оседлал трактор.
– Кто это там, Лауринас? – подает голос от своих кастрюль да котлов Балюлене.
– Девки! Кто ж, как не девки? Нравятся, вот и пялю глаза, – ворчит вполголоса Балюлис, хотя на таком расстоянии старуха и крика не услыхала бы. – Туга на ухо, а глаз ястребиный, – не перестает он ершиться, отступая к ведрам. За ним плетется и Статкус. Заняться ему нечем, одурев от солнца, переходит в тень, из тени снова на солнце. Поднимешь упавшее яблоко, повертишь и снова бросишь. День хороший, как это недозревшее «уэлси», которое никому не нужно. Будет валяться в траве, пока не сгниет.
– С механиком говорил, Лауринас? – кудахчет Петронеле.
– Небось не сам с собой, как ты! – Лауринас не признается, что проезжий не соизволил остановиться.
– Так механик двух слов связать не может.
– Зато руки золотые. Какая польза с того, что ты, глухая, с утра до ночи тарахтишь?
– Повертелся бы на моей каторге! – Голос Петронеле звучит жалобно.
– Во-во, ты и меня бы туда сослала.
– Побойся, бога, Лауринас.
– А, так ты на своей каторге не одна? С боженькой?
– Типун тебе на язык, бесстыдник! Давно тебя котел со смолой ждет, – угрожает Петроне.
– Подождет. Я не спешу.
– Треплешь языком. Один язык у тебя и остался. – Горестно колышется всем телом Петронеле, насквозь пронзая сгорбленного непоседу и мысленно сравнивая его с тем лихим молодцом из далекого края, что некогда полонил ее сердце.
– Это тебе только кажется. Я, если хочешь знать, и не старый вовсе. Я еще ого-го!
Балюлис изо всех сил старается вырваться из петли ее взгляда, подбоченивается и похохатывает так, что слюна брызжет.
Петронеле не хватает слов, сна захлопывает дверь кухоньки, Лауринас же снова принимается обозревать дорогу сквозь яблони и липы.
Его по-прежнему занимает, кто идет, зачем, куда. Плывут и плывут мимо дни, ничего нового не принося, разве что расцветет обочина выброшенным туристами мусором, вроде бы позовут чьи-то дальние голоса, а едва сунешься к ним, приблизишь свое морщинистое лицо, уродующий плечи горб, безжалостно оттолкнут. А ну их, эти соблазны… Смотри бригадиршу не прозевай, когда снова прогремит мимоездом. Эй, поймай молнию, коли не прост! Вот бы напроситься поработать хоть на недельку. Поглядываешь по сторонам с сиденья конных грабель, все кочки, все лощинки как на ладони – где выскоблено, а где и примято, раскидано. И ты больше не барсук в своей норе – человек среди людей. Языком поддеваешь сгребающих остатки соломы, старухи бранятся, молодухи хихикают. Глядишь, одна и пить подаст. Хлебнешь лимонадцу и глазами – не пальцами, как когда-то – пощекочешь шельме подбородок. Ну, ну, дяденька! Поймай молнию, коли можешь! Пролились твои дожди, отсверкали твои молнии, Лауринас. Еще разочек, последний… Не остановится бригадирша, так хоть глаза попасешь. Вон будто влитая в мотоциклетном седле. Пронеслась…
– Поросятам снеси, поросятам! – словно на пожар, выскакивает с ведром Петронеле.
– Приберет к рукам настоящий мужик, как мак расцветет! – Свиньи уже нажрались, но продолжают тыкаться в корыто рылами, так что дрожит весь хлев, а разговор вновь возвращается к бригадирше. Этот их жилец, этот Статкус, неразговорчив, но уши, слава богу, ему не заложило. Правда, нынче мужики лучше в машинах разбираются, чем в девках. На машину у них и терпения хватает, и любви, а на девку… Пойдешь в кусты, лапочка, с перемазанным в масле – ладно, заартачишься – кыш, корова, вон с глаз!
– Гм, бригадирша, – перебивает Статкус, – вы же говорили, ребенок у нее?
– Что с того, что ребенок? Хорошо присмотренный ребенок больше женщину красит, чем всякие побрякушки. Как мак…
Любимое сравнение Балюлиса – мак, пока говорит, не один раз вспомянет.
– А как в старые времена было?
– По-всякому было. Вон, глянь, старые времена скачут! – Из блеклых озерец Балюлиса под серыми кочками бровей начинают выныривать чертики-корольки.
Несомое петляющей дорогой, приближается некое существо. Спуск с бугра весело катит его вперед, ухабы, схватив в объятия, швыряют из стороны в сторону. Вот оно чуть не вывалилось из колеи на желтеющую стерню, вот, будто уткнувшись в забор, отскакивает от невидимого препятствия и снова плывет себе, пока не заплетутся некрепкие ноги и не вынесут на обочину. Ясно, что мужик, и немолодой, так как бел не только от пыли. За густо заросшей межой глубокий овраг, сверзится – костей не соберет, уже и руками взмахнул, сейчас птицей перелетит, однако, покачавшись на одной ноге, отступает от роковой черты, за которой, возможно, ухмыляется костлявая. Теперь видно, что он стар, очень стар, от такого костлявая всегда бродит неподалеку. Человек несет не только свои длинные ноги, в авоське мотается буханка хлеба, по-всякому завернутые и совсем без упаковки разные продукты. Удивительно, что не растерял, размахивая сеткой, словно маятником.
– Я Пятрас Лабенас из Эйшюнай. Доведет меня эта дорога до дому? А, старик? – хрипло выдыхает беззубый рот вместе с густым смрадом водки и пива.
– Не торопись, Аист, в старики писать! Ты же старше! – малорослый Лауринас усмехается и подставляет плечо шатающемуся верзиле, побелевшему не только от пыли и седой щетины, но и от выпитого. Лицо будто мелом присыпано, глаза слипаются, когда хочет открыть их, приходится вскидывать голову.
– Мне восемьдесят два, и я еще не женат. Какой я тебе Аист? А ты сам кто такой будешь? Какого гнезда птица?
– Я Лауринас Балюлис, женатый на Петронеле Шакенайте. Или забыл?
– Лауринас? А, Лауринас! Это ты отбил у меня Петронеле? Дай-ка, змеюка, расцелую тебя!
Балюлис отбивается от слюнявых сизых губ, от пьяного смрада.
– Зачем целовать, Пятрас, ежели увел?
– Так ты ж доброе дело сделал! А то женился бы я, пошли бы детишки, мне бы от них теперь крепко доставалось. Сами бы пили, а мне не давали! Все любят лакать, старому жалеют.
– Ох, доберешься ли до дому, Пятрас, этакие кренделя выписывая? А то заваливайся вон у меня в клети.
– Я, Пятрас Лабенас из Эйшюнай, никого не боюсь! Разве что Петронеле… Сестрица другой раз метлой замахнется, мертвецом обзовет, но ее не так боюсь, как твою благоверную.
– Разве Петронеле пугало, что так ее боишься? – Лауринас обиженно отстраняет плечо, Лабенас наваливается, душит смрад.
– Пугало – не пугало, а завращает этими своими гляделками… Дрожь пробирает, етаритай!
– Сам ты, Пятрас, и на пугало, и на мертвеца стал похож, – хохочет Лауринас, отворачивая голову, как от назойливого комара. – Правду говорит твоя сестрица.
– Не смеши белый свет, червь земной! Это я похож на мертвеца? Я старый холостяк, а не мертвец. Ежели пожелаю, могу еще жениться, а тебе, Лауринас, все, тебе уже ни-ни, хи-хи-хи!
И он опять зашатался посреди дороги, размахивая своей сеткой, тихонько, как ребенок, повизгивая. Возле купы деревьев встал, растопырив, как ножницы, длинные ноги, уперся ими в землю, наклонился вперед. Видать, о чем-то вспомнив, оглянулся. Неживая улыбка радовалась качающемуся, вместе с ним бредущему миру: то, глядишь, обочина дороги уходит из-под ног, как льдина под воду, – ничего нет, один туман, то выплывают вдалеке веселые островки крыш и башня костела; только что убегали от тебя не только люди, но и деревья, а тут вдруг ветка бух по лбу и ты – с ног! А ну, померяемся, кто кого?
– Я, Пятрас Лабенас из Эйшюнай, не пугало, а старый холостяк! – громко передразнивает Балюлис человека, который не может сообразить, как миновать купу вязов – напрямую переть или в обход. – Не врет кавалер костлявой – восемьдесят два. Еще при Сметоне хозяйство в двадцать гектаров пропил! Бутылку с одним, бутылку с другим… А за долги соседи кто гектар, кто полтора себе отрезали. Зато при новой-то власти Пятрас ого-го как духом воспрял. Кто за лишний гектар пострадал, кто за батрака, а Лабенас – куда там. Лабенас – трудящийся человек, эксплуататорами разоренный! Стой радости снова принялся пить да бездельничать… Только теперь, когда закладывает, до исподнего не пропьется, разве что шапку где посеет.
Лабенас вывел восьмерку и двинулся напрямки, все удаляясь и уменьшаясь, пока не скрылся за холмом.
– Целоваться лезет, мертвец! – Балюлис стискивает кулаки, кажется, вот-вот бросится вдогонку, чтобы досказать, чего не успел, то, что он, червь земной, всю жизнь собирался выложить этому хвастуну. – Добренький, хоть к ране прикладывай. А тогда… тогда с ножом подскочил. Пришлось мне его цепью охладить, ей-богу!
…С откоса скатываются задетые ногами сухие комья, ведь местами тут залегает глина, бешеные шаги гонятся за медленными, впечатывающими одинаковые следы, давят их, как рассыпавшиеся яблоки. Все быстрее и быстрее размахивают руки, поблескивают голенища сапог. Наконец поспешные шаги упираются в размеренные, будто нарочно сдерживаемые…
Шуршит меж травинок песочек, а посреди пыльной дорожки друг против друга набычились два молодых мужика. Еще тяжело дышат, еще не очухались. С неба смотрит на них белесое солнце, неживым светом залившее стерню и приткнувшийся на холме среди поля хутор. Над пустым, словно вымершим двором торчит высокий колодезный журавель, посредине – молодой кленок. А людей – ни души…
– Эй ты!
– Ты мне не тычь. Я с тобой свиней не пас, – хрипло отвечает Балюлис.
– Я? С тобой? – ошарашенный неожиданным отпором, откидывается догнавший и становится еще долговязее, словно его на невидимой веревке подвесили. Вытягивается худое белое лицо. Неподалеку, в трех километрах, его дом, его новый амбар. Оттопырив губу, пялится на чужака, который такого амбара небось и в глаза-то не видал. Маленький, усишки да насмешливые глазки.
– Я те покажу насмехаться, етаритай! Явился, вишь, с края света, с латышской границы… Я, Пятрас Лабенас из Эйшюнай, с тобой говорю! – выпаливает, ничего другого не придумав, верзила. Поблескивают его хромовые сапоги, шныряют, выдавая легкую дымку опьянения, светлые глаза, ища, к чему бы придраться. – Проваливай, зимогор, откуда пришел. Не по зубам тебе полволока Шакенайте!
Многим довелось пробавляться Лауринасу, но не зимогорствовал, да и на богатство не зарился. Из-за Петронеле Шакенайте головы не терял. И сердце свое никому не отдал, хотя была у него в Рокишкисе на примете девушка – латышка Лелде. Добрая, симпатичная девушка, косы до пояса, глаза – цветущий лен. А уж чистюля! Никогда не ступал на пол белее, чем у нее! Небогатая, жаль, да и он не из богачей – младшей сестре хоть лопни, а долю выплати. Две тысячи, и ни на пятилитовик меньше, иначе не возьмет ее желтоусый крестьянин лет на десять старше. Не зверь и этот усач – тоже кому-то долю должен выделить. Задавил Балюлис в себе жалость и по-хорошему с Лелде распрощался, она рук не заламывала, хотя в голубых глазах – неизбывная печаль. И так приятно пахло свежевымытым полом… Что поделаешь, не ему сужена! К тому же его родня ни за что не приняла бы бесприданницы. Не он первый, не он последний вынужден выбирать, зубы стиснув. А Петронеле не пугало, как опасался, можно будет жить, даже очень хорошо жить, сад развести. Развернуться тут есть где, целый холм, только вот местные не оставляют в покое, будто он у них кость из пасти рвет.
– Ты что сказал? – переспросил, подогретый этими воспоминаниями.
– Сказал и буду говорить. Не по зубам тебе приданое Шакенайте!
– Зубы-то у меня покрепче твоих.
– Язык у тебя, вижу, во рту не умещается. Придется укоротить.
– Попробуй! Петронеле сама выбирает.
– Не она – старик Шакенас. Ты же наполовину цену сбил. Пять тысяч давали, только чтобы девка не замшела, чтоб позарился кто-нибудь. А ты наличными и половины не получишь – кучу просроченных векселей.
– Мое дело. А Петронеле не обижай. Не посмотрю, что длинный, как аист.
– Это я аист?
– Аист! Аист!
– За аиста в другой раз получишь. А теперь получи на дорожные расходы! – Длинная рука помахала серебряным пятилитовиком. – Проваливай отсюда, оборванец, не порти нам воздуха!
– Так я еще и воздух порчу?
Подскочив, Балюлис врезал долговязому по скуле.
– Кровь мне пустил, кровь! – завопил Лабенас и сунул длинную руку за голенище. В белых лучах солнца сверкнуло лезвие. Вроде бы и сам удивился, увидев нож. Но, пока понял могущество этого блеска, Балюлис успел отпрянуть. Не спуская глаз со сверкающей стали, как с гадюки, огляделся. На дороге ни души, усадьба будто вымерла, под рукой ни палки, ни камня, только привязанная цепью корова пасется на лугу. Еще на шаг отскочил и еще на один поближе к корове. Все как в родных местах: осенняя стерня, продуваемая ветром, прилипшая к коровьему боку сухая навозная лепеха, тарахтение телеги под холмом, а может, в другой жизни или во сне – жестокое все, чужое, угрожающее, как та острая железка в неопытной и потому особенно опасной руке. Попадет – насквозь пропорет, крови прольется, как из борова. На миг белое пламя залило мозг: бежать, бежать отсюда, к черту и эти полволока, и Петронеле, хоть и не дура, как мололи злые языки (крепкая девка, такую не заломаешь, даже в чулан заманив!), плевать ему на сад, который он, глаза закрыв, видит на горушке, ветрами да морозами пронизываемый, потом окруженный могучими липами да елями, потом белым цветом разлившийся, своим чистым сиянием соперничающий с самим Млечным Путем!.. Но позволить какому-то дурню вытоптать твой еще не родившийся сад? Лауринас увидел горько стиснутые губы матери, ее почерневшие руки, завязывающие под подбородком концы белой косынки. Туго будет, возвращайся, сынок. Как-нибудь проживем! Так провожала совсем маленького в школу, так же и к первому хозяину, и на солдатскую службу, и со сватом в другой уезд – на край света. Всюду могли обидеть, покалечить, стереть в порошок. И горький материнский рот удерживал от злого, вызывающего тошноту желания броситься с кулаками на обидчиков или позорно бежать. Замычала корова, он покосился на нее горячечными, не видящими дороги глазами… Под белым солнцем сверкнула отполированная головка шкворня с прикованной к нему цепью. Нагнулся, выдернул железный кол левой рукой, прикрыв правой лицо. Шкворень подался из земли легко, Лауринас чуть не упал. Стиснув цепь, хлестнул ею Лабенаса по ногам. Тот закачался, нож со свистом пролетел мимо коровьей головы, ткнулся в кочку. Балюлис еще раз саданул цепью, чтобы верзила не бросился к ножу, Лабенас рухнул на колени.
– Вставай, Аист! Забью, коли не встанешь!.. – Лауринас едва удержался, чтобы не хлестнуть цепью по белому, как творог, лбу Лабенаса.
Потом гнал его по дорожке, словно хромого аиста, позвякивая цепью, но больше не бил. Корова, привязанная за конец цепи, лениво плелась следом.
– Бери нож, девку, что хочешь бери, только отпусти это рогатое пугало. Вся волость смеяться будет. Я не кто-нибудь, я Пятрас Лабенас из Эйшюнай! – ныл верзила.
– Заруби себе на носу, Лабенас: я в уланском полку служил! Еще драться полезешь, Аист?
– Не полезу, ей-богу! Ни жены мне не надо, ни чего другого. Братья, сестры пристали. Им волок чудится, большие деньги. Мне бы бутылочку пивца – и пусть все девки хоть перевешаются!
– Болван ты, болван. А еще нож таскаешь. Ни за что мог бы меня прикончить?
– И прикончил бы, ей-ей, если бы не корова, хи-хи-хи! – довольно взвизгнул Лабенас из Эйшюнай, которого с тех пор так все и звали Аистом.
Никто не видел их драки, Балюлис победой не хвастался. И все-таки обстоятельства этого столкновения стали известны, их обсуждали и приукрашивали. Примак-де заставил Лабенаса влезть на корову, та надорвалась, и Лабенасу еще пришлось платить хозяевам… Чего только не выдумают люди, издали глядя на дорогу, пыль которой сами топчут нечасто.
Лауринас провел рукой по щекам – неужели это его дрожащее от ярости лицо? Вытер ладонь о штанину – неужели это она лихорадочно сжимала цепь? Ждала усадьба: старик Шакенас, обугленный, словно прогоревшая трубка, старая Шакенене, набитая предрассудками, как сундук штуками домотканого полотна, то краснеющая, то бледнеющая Петронеле в длинной девичьей юбке. Однако идти к ним, справившись с отнявшим немало сил препятствием, расхотелось. Плелся нога за ногу. Хороша птица этот Аист, но и я не лучше. Мог человека насквозь шкворнем проткнуть. За что, скажите?…
Снова увидел мать. Ее лицо улыбалось. Это она, родительница, удержала руку.
– Снова у дороги торчал? Кого ждешь не дождешься? Уж не смертушки ли своей, а, старик? Жди не жди, все равно явится, нечего ее торопить! Огурцы вянут, неполитая свекла трескается. Нет у меня здоровья из колодца таскать! Наболтался досыта, вот и поработай! С кем, скажи, язык-то трепал? – громыхала Петронеле.
– С твоей симпатией. «Я Пятрас Лабенас из Эйшюнай. Мне восемьдесят два, я холостой!» – передразнил Лауринас. – Забыла? Заржавела любовь?
По локоть сунув руку в глиняный горшок, Петронеле что-то мешала па дне. В еще более глубоком колодце колготились ее мысли, пока не связала она насмешку мужа с упомянутым именем и самой собою. Резко выхватила руку, насухо обтерла.
– Любовь… Кому бы говорить, а кому бы и помолчать. Любовь!..
Подцепила лейку, вперевалку отправилась спасать огурцы. Опираясь на палочку, тащила полную до краев, гордо откинув трясущуюся голову. Можно подумать: не старуха, которую сердечные дела едва ли могут волновать, – молодая, как бригадирша, женщина, а то и еще моложе. Из лейки плескало, следом спешила готовая помочь Елена, и яблони стелили длинные, печальные тени – небо постепенно перестраивалось на вечер.
– Любовь… Еще о любви будет рассуждать, гулеван! – доносилось с грядок за гумном. – А знает ли, с чем ее едят? Да и знавал ли когда?
Даже когда обе уже возвращались с огорода, гремя ведрами, а строения усадьбы тонули в сумерках, дыша уютным теплом, Балюлене не переставала зудеть:
– Любовь… Любовь ему, видите ли, далась… А рот… рот слюнявый сполоснул?
Пахло влажной огородной землей, гниющей меж грядок падалицей и женской ревностью. Может, просоленной и глубокой, может, давно забытой, лишь в минуту обиды восстающей из небытия.
Елена, как могла, утешала:
– Вы же долгую жизнь прожили. Под одной крышей старости дождались. Значит, любили друг друга.
– А что мне эта старость, дочка? Лет много, ноги не слушаются, но все как было, так и есть!
У Статкуса даже дрожь по спине пробежала. Похолодало, что ли? Позвал жену, оба прошли в горницу. Ни он, ни она не захотели зажигать света. Постелили вслепую, больше доверяясь рукам, чем глазам, и прикосновения были не их, отупевших и огрубевших, а молодых и нежных, дождавшихся своего часа.
– Старик! Старик! – прочесывает чащобу сада голос Петронеле. – Куры снова дорожку изгадили. Не можешь по-человечески перекладину приколотить?
Статкус испуганно приподнимается – не разбудить бы жены, – в голову ударяет вчерашняя ласка, которой она, наверно, будет стесняться, как и он. Нет, она не стесняется, так ему только кажется, она вспоминает их несдержанность даже в сонном забытье. Уголок губ трогает улыбка и все никак не может разгореться. Улыбка эта не похожа на ее обычную усмешечку, которой Елена встречает все неожиданности. Блеклое, скорее угадываемое пятнышко света цепляется за щеку, теребит длинную морщину. Днем эта складка, похожая на скобку, исчезнет, будто ее и не было, а сейчас вгрызается вглубь, уродуя лицо. След страдания, неудовлетворённости? Статкус отстраняется, будто добился ее близости насилием. Хочется защищаться, злобно упрекать, но ведь Елена еще спит. Недовольна им? Жизнью? Своими собственными способностями плести те воспоминания, от которых он всю жизнь старается уйти?
– Что, уже утро?
Разбудил все-таки пристальный взгляд мужа. Она садится, проводит рукой по распущенным на ночь волосам. Еще пышные, однако возле пробора будто нарочно воткнуто белое перышко. Раньше седины не было, по крайней мере, не было видно. Красила волосы, чтобы не бросалось в глаза, а в деревне перестала? Статкус отвернулся от сильного, все обнажающего света. Не видеть ее прически, не видеть, как вызревает улыбка, пригодная для города и деревни, для любого времени года. Было жаль бессознательно мерцавшего, не разгоревшегося внутреннего ее свечения. Подобным образом, не сразу преодолев сопротивление собственной натуры, улыбалась она в первые месяцы после замужества, словно от улыбки болело лицо. Теперь лишь бодрый утренний шаг напоминает молодость. Потрескивали стены, ветви яблонь нежно поглаживали стекла окон, однако эти звуки не утешали. Словно оба они спешили куда-то, а в колесо бегущей машины воткнулся гвоздь и вращается вместе с ним. Отныне поедем дальше, зная, что грозит авария? Только из-за того, что хозяйка ляпнула какую-то чушь? Сказала, как принято говорить. Фольклор, не сердечная боль. Старость – забвение, медленное сползание в небытие. Иначе зачем же она дана природой? В такой глубокой старости не может оставаться все как было!
Статкус молчал, улавливая чутким ухом возню во дворе, молчала и Елена, вместо того чтобы соглашаться с ним и отрицать мудрость Петронеле. Старость есть старость, прожитая жизнь – не начатая. Вот что следовало ей сказать! Не согласна? Вчера согласилась, сегодня – нет? Взглянула бы лучше в зеркало – на белое перо в волосах, издевающееся над запоздалыми усилиями пренебречь временем.
– Слышишь? Снова старики из-за кур свару затеяли, а ты говоришь…
– Не выдумывай, ничего я не говорю.
– Тише, слушай!
– Ну и мужик! Свиньи вот-вот загородку повалят, а он шлендрает по кустам. Суставы крутит, рук поднять не могу – пускай валят, пускай рушат! – разорялась Балюлене. И после долгого пыхтения, подтащив тяжелое тело к окну горницы: – Творогу не надо ли, гостьюшка? Свеженький, только что отвиселся.
– Признаешь мою правду, мамочка?
Елена посмотрела на пего, будто переспала с незнакомым, и выскочила из горницы.
– Спасибо, хозяйка, возьмем. Погода-то какая, погода… ею одной сыт будешь!
И рассмеялась среди яблонь, увешанных плодами и предвестницей осени паутиной, сверкающей от росы. Разве выкрикивала бы так радостно, если бы в шине торчал гвоздь? Обида Лауринаса за свои деревья, которые никто и не собирался выкапывать. Невнятная тоска Петронеле по любви… Настоящая нелепость, когда при свете дня всмотришься в ее изборожденное морщинами и перекошенное лицо. Красное, чуть ли не сизое от злости: почему это старик не идет подпирать загородку, делать то, что важнее их собственного здоровья и жизни? Бред, и все. Но если повнимательнее вглядеться в притащившегося с пастбища хозяина – где же и быть ему, как не возле коровы? – увидишь нечто странное. Одно плечо повисло, другое к уху задрано, заранее готов взвалить себе на горб всю вину: на лугу был, а вроде и не на лугу. Там, где другие поганки не сыщут, подосиновиков настрижет или наберет в кулек, свернутый из листьев папоротника, малины. И на этот раз что-то тихонько притащил в шапке. Уж не птицу ли, которая взмахнет крыльями и улетит?
– Зашуршала трава, подумал, медянка или еж. Наклоняюсь – вон что! – весело рассказывал он, вываливая из шапки розовый бархатный комочек.
Маленький, только-только прозревший щенок, вздрагивал на широкой скамье под раскидистой яблоней и казался еще меньше, чем был на самом деле. Нетвердо переставляя лапки, шагнул, сунулся мордочкой в надкушенное яблоко.
– Вот лягушонок, вот хитрец! – довольный, вскрикивал Балюлис, а глаза, виноватые и испуганные, призывали Статкуса на помощь. Кривой указательный палец с почерневшим ногтем не переставал теребить шерстяной комочек, катать перед мордочкой гостя непонравившееся яблоко.
– Ишь, какой миленький! – принялась гладить и сюсюкать Елена. – Бедняжка! Как проживет без мамочки?
– Такой уже и коровье молоко сам лакает. Не пропадет. – Палец Балюлиса норовил повалить щенка на бок, тот не давался, цеплялся коготками, повизгивал.
– Вишь, какой злюка. Подрастет – драчуном будет, – попыталась разжать и заглянуть ему в пасть Елена, щенок забарахтался, пустил струйку.
– Эх, не повезло нам с тобой. Рассердится Петронеле. Давай-ка скорее подотрем… скорее!
Опоздал! Мелькнула палка Балюлене.
– С какой еще лягушкой тут возитесь? – бросила, не остановившись, и недоброй усмешкой прибила Балюлиса. Лицо его сразу сморщилось в печеное яблочко, голос стал писклявым. Маленький несчастный старикашка.








