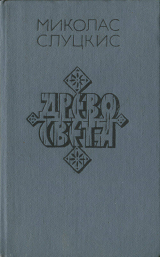
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Что это она делает? – Вопрос Елене.
– Вяжет, разве не видишь?
– Что? – не понимает он.
– Маленькие салфеточки. Под бокалы. Под блюдца с мороженым. Мало ли для чего.
Статкус кивает, все еще не улавливая смысла. Занятие дочери удивило больше, чем отказ погулять.
– Красиво. Стол расцветает, когда расставишь на нем такие акценты. Разноцветные. Настоящее искусство! – не сердится на его бестолковость Елена, ее стремящаяся все сгладить улыбка колет, словно острой спицей. Возникает тупая боль, охватывает все тело от ступней до макушки. Кажется, сейчас он упадет на ковер.
– Идиотизм. Не может купить в магазине?
– Для магазинов таких не вяжут, – терпеливо объясняет Елена.
Неринга не подает голоса, хотя речь идет о ней.
– Нет спроса, вот и не вяжут!
– Не понимаю, почему тебе не нравится, что девочка, вместо того чтобы где-то мотаться… Будет праздничное украшение для стола.
– Где ваши праздники? Столы? Когда надо пригласить кого-то, набрасываетесь на меня, как шершни. Свяжете и засунете в шкаф?
– Нет. – Неринга словно проснулась, встряхнула свои нечесаные патлы. Все еще была бы красивой, если бы не горбилась, не втягивала голову в плечи. Подошел бы и дернул за волосы. Выпрямись, как сидишь? – Кончу и распущу.
Она протягивает ладонь с кружочком. Словно окрашенная паутинка. Работа не здешней женщины – усердной китаянки.
– А потом снова то же самое?
Она кивает.
– И тебе… интересно?
– Почему должно быть интересно? Время убиваю.
И это не вызов. Равнодушие.
– Не можешь сходить куда-нибудь? К друзьям?
– Папа, у тебя много друзей?
– Мне некогда думать о том, что у меня есть и чего нет! А ты… на танцы бы сбегала, что ли, если друзья надоели.
Елена укоризненно качает головой, словно ее ребенку сказали нелепость, и это еще невыносимее, чем ее парадная, пустая улыбка.
– Отец, отец, знаешь, кто ходит на танцы?
– Мы… в наше время…
– Неужели хочешь, чтобы твоя дочь подпирала стену, пока ее не соизволит пригласить подвыпивший семнадцатилетний юнец? – спрашивает за Нерингу Елена, подчеркивая «семнадцатилетний», и Статкуса пронзает мысль: ведь Неринга, его Неринга на целых десять лет старше этого воображаемого семнадцатилетнего, который из сострадания, если не в порядке издевательства выведет ее из угла! Неужели двадцать семь? Цифры – страшные, угнетающие – застывают в глазах. Неринга, его Нерюкас добивает третий десяток? Это сидение в четырех стенах, бесцельное ковыряние вязальным крючком, холодный, ко всему равнодушный голос – уже не молодой? Его девочка, свет его очей, постарела?
– Послушай, Неринга. Может, достать тебе путевку на болгарское взморье? Познакомилась бы… с группой…
– Оставь девочку в покое. – Елена продолжает улыбаться, губы – твердые дощечки, странно, что они не стучат, и разочарование Статкуса в дочери превращается в ярость против жены.
– Не дом, а тюрьма. Лица траурные, окна занавешены. Воздух впустите!
Не ожидая, пока выполнят его приказание, сам распахивает окно. Звенят, искрятся стекла, всегда чистые у Елены. Неринга не прерывает работы – ха, работа! – ничто не остановит шныряющего крючка. Будет вязать и распускать. Будет торчать в кресле и возиться с нитками до умопомрачения вплоть до судного дня, если его когда-нибудь уготовят нам атомные маньяки. Неужели это она – не боящиеся осколков стекла ножки, стрелок из лука, наездница, отчаянная любительница кино?
Воспоминание о кино неприятно кольнуло где-то под сердцем. Статкус отводит взгляд от ослепительного дня за окном. Как жестоко посмеялась тогда над ним Неринга! Такое впечатление, что урок повторяется, только хуже и скучнее. Он вскакивает, бежит к платяному шкафу.
– Мама, какая муха его укусила?
– Не говори так об отце! – Елена соизволила взять его под защиту.
– Бедняжка. Опоздал на коллективную рыбалку.
Эта ирония догоняет Статкуса уже на лестнице, слова и мучительное, ни с чем не сравнимое чувство, что Неринга, его Нерюкас, его плоть и кровь, не просто раздражена. Нет, она и не думает мстить, скорее всего забыла про кино и про все, что последовало… А раздражена потому, что кто-то подменил ее, его девочку, и новый облик, облик старой девы, уже необратим, даже если ты разорвешь собственную грудь и отдашь, чтобы вернуть ей молодость, свое сердце… Хоть и воскресенье, гудит, шумит город, полный праздных людей, не видно ни одного, кого хотелось бы остановить и пожаловаться ему, что твоя дочь, свет твоих очей… Нет, об этом ты не сказал бы и лучшему другу! Не надо, несправедливо и жестоко так думать, а уж говорить… Ведь ей, твоему Нерюкасу – всего двадцать семь, это же очень немного по сравнению с твоей собственной долгой, полной заблуждений и разочарований жизнью, которую и теперь, сбежав из неуютного дома, еще не считаешь законченной… А может, закончена, и ты ищешь человека, который честно, без лжи посмотрел бы тебе в глаза?
Вот он – тот знакомый, хорошо знакомый седой юноша – идет враскачку, будто по палубе корабля, твердо ставя ноги, хотя, как старый парус, изрядно потрепан бурями и бедами времени. Задержи его! Мгновение – и исчезнет, пока ты роешься, раскапывая в заросших мозговых извилинах истлевшее звучание его имени. Вот уже поравнялся, вот бросил суровый, враждебный взгляд… Не лицо друга – камень… холодный туман враждебности…
Время сорвалось с поводка, словно никем не удерживаемый фокстерьер. Некогда стало раздумывать, копаться в себе. Примчавшаяся «скорая» сломала ветку яблони. Врачиха – молодая, розовощекая – заговорила строго: или больная отправляется в больницу, пли медицина снимает с себя всякую ответственность. Чудные люди эти колхозники, скотина для них дороже человека. Елена не сумела бы объяснить, что застит Балюлисам белый свет не корысть. Станут доить Чернуху все кому не лень, а она туго отдает молоко – не выдоят до конца, воспалится вымя, будет мучиться корова, мучиться будет старик, а то еще убьет его, брыкаясь. Вот что не идет у Петронеле из головы, когда она из последних сил цепляется за углы родной избы:
– Как же я корову оставлю? Два ведра дает.
Никогда не лежавшей в больнице – рожала дома, – ей казалось пыткой показывать свое тело посторонним.
– Старый человек некрасив, а все смотреть будут.
Больница – так она себе представляла ее – стеклянная клетка, всякий прохожий увидит, будут пальцами тыкать…
Всей душой желала, если уж пробил последний час, умереть дома, в старой деревянной родительской кровати, глядя в окно, свет которого будил ее по утрам. Больше всего любила она утро.
– Не сбежите, дочка, когда меня увезут? – Она сдавила руку Елены и, не дожидаясь ответа, наказала: – Яйца только самые свежие ешьте. Все равно всех не одолеете.
Когда укладывали на носилки, сопротивлялась: «Зачем, не на-а-да!» – приблизился Лауринас, потеребил за рукав.
– Возвращайся скорее, мать, мне хозяйка нужна. А то, смотри, Акмонайте возьму.
– Сдурел старик… совсем спятил, – рассердилась Петронеле, – зачем при врачах глупости болтать?… – Но тут над ней простерлось небо – не родного двора, бескрайнее и пугающее, и она громким шепотом подозвала Лауринаса. – Корову… продай… Зачем нам… два ведра… молока…
– Как же без коровы, Петроне? Как? – Судорога перехватила Лауринасу горло. Неужели все? Неужели конец? Его поблескивающие глаза бегали, цепляясь за Статкусов, за людей в белых халатах, за рыжий комочек что-то треплющего фокстерьера.
– Чего заикаешься… Вернусь… другую… купим… поменьше… Зачем нам… два ведра?…
Она опять трезво, как всю жизнь, смотрела на вещи. Даже наполовину погрузившись в бескрайнее, бездонное небо, увидела собаку. Затравленную, всеми забытую.
– И Саргиса не мучай… Слышь, Лауринас… Пес как пес… только не для нас… колхозников…
Не мучай! Да разве он мучает? Сама же никогда не погладит, а ты «не мучай»! Все хорошие, один он плохой. Мог бы что-то сказать, оправдаться, но сдержался: не надо перечить ей в такой час. Наклонившись, провел ладонью по едва шевелящимся губам Петронеле, и они дрогнули. Третий раз в жизни любовно погладил ее лицо. Когда от Абеля возвратился и когда она сама прибежала на кирпичный заводик… Ну, все. Наказав что нужно о корове и собаке, сбросила тяжесть, давившую сердце, теперь пора собраться с мыслями перед дорогой в неведомую страну. Уже могла бы воспарить легким облачком, но вокруг бились зеленые волны, лаская уставшие глаза, и в ушах непривычно – ровно и нежно – шелестело что-то, будто никогда не ревели в голове самолеты. И она прошептала то, о чем Лауринас никогда не сможет вспомнить без слез:
– Хорошо, что ты деревья сажал, Лауринас. Так красиво, когда они шелестят.
Красиво? Красота для нее – мера человеческой сущности, знак величайшей ценности? Почти оглохшая, после долгой борьбы с собою услыхала все-таки шелест его, Лауринаса, деревьев, признала свет, который он своими руками пестовал?
Заколыхались, двинулись носилки…
Хлопнула дверца «скорой»…
Хрустнула раздавленная ветка…
– Пойду, – сказала Елена, – прополю хозяйкины цветы. Влетит нам, если зарастут.
Словно передавая священный огонь, с хутора на хутор носилась Акмонайте. Когда взбиралась на Балюлисов холм, прижал ее к откосу фургон «скорой». Успела привстать на педалях и увидеть за окошком белое лицо Петронеле. То ли увидела, то ли почудилось, но всем кричала, что увезли Балюлене помирать.
Над дорогой еще взвивалась пыль, когда стали собираться соседи. Бригадирша отвела мотоцикл в сторонку, отстегнув шлем, озабоченно огляделась. Как всегда, выпала коса, сверкнул золотой зуб.
– Как теперь хозяйство поведешь, дядя?
– Ты о чем, дочка? – Лауринас не понял, куда она клонит. Привык поворачивать в ее сторону голову, как подсолнух к солнцу.
– Спрашиваю… как жить будешь, дядя?
В ушах у Лауринаса что-то громыхнуло, будто кто у самой головы выстрелил. Выстрел из будущего, куда пока не достигал его отуманенный, помутневший от боли взгляд.
Бригадирша глянула в его незрячие глаза, на распахнутый хлев.
– С коровой как? Держать будешь или продашь?
– О чем ты? Не понимаю…
Понимал, не мог не понять, что ему протягивают руку помощи, – ее грубоватость прикрывала сочувствие, даже нежность, однако мысленно Лауринас все еще терся возле носилок, слышал миролюбивый, на редкость ласковый голос жены. Бригадирше – еще маленькая была, егоза, яблоками угощал! – всегда старался показать, каким, мол, мог бы стать ей славным помощником, но на этот раз одного хотел: быть поближе к голосу, непривычно ласково шепчущему о его деревьях. Недаром говорил Петронеле, что все деревья, особенно клен, освещают двор…
– Надумаешь продавать, дядя, знаешь, куда обратиться, – как бы между прочим обмолвилась бригадирша и обеими руками надвинула шлем. Молча оседлала мотоцикл, заляпанный весенней грязью и летней пылью, окуталась дымом. Вслед за фыркающим Ижем с лаем бросился Саргис.
Будто только этого ждали, уставились на песика женщины.
– Охотничья, етаритай, говорю вам, бабы, охотничья! – клялся Линцкус, пританцовывая то на одной, то на другой ноге.
Женщины не желали верить, что этакий клубок шерсти – и глаз-то не видать! – способен выследить кабана пли даже уссурийскую собаку.
Удивила соседок и жалоба Елены, как сложно кормить этого песика.
– Молоко разогревать? Барский желудок!
– Я и детям шоколадных не покупаю, а тут собаке! – дивилась другая.
– Что ребенок, что щенок, пока маленький, все одно, – терпеливо втолковывала им Елена.
Только жена механика поверила ее словам. Для прочих и сама Елена была из того же мира, что и странная собачка.
Поохали, жалея Петронеле, поахали из-за коровы и сада – это же столько добра пропадает! – и разбежались по своим делам, обещая заглянуть, посильно помочь. У Лауринаса увлажнялись глаза, не знал, как и благодарить, хотя галдеж этот мешал ему побыть наедине с последним, не успевшим остыть шепотом Петронеле.
После того как люди разошлись, на усадьбу опустилось сжимающее сердце уныние. Не хватало здесь Балюлене, ее шарканья и стонов, ее не умеющего тихо звучать сорванного голоса. Словно бы ничего не осталось, лишь истоптанная трава, лишь опустевший дом…
– Председатель! – В погасших глазах Лауринаса вдруг засверкали огоньки. Не те веселые, похожие на резвых корольков, но все равно огоньки. Весело ли тебе, горько ли, но посещение председателя – большое событие на усадьбе колхозника. Большое и неизвестно что сулящее.
Да уж вижу, вижу, докладывал отсутствующей хозяйке Лауринас. Крупный, плотный человек в хрустящей куртке коричневой кожи. Из расстегнутого ворота пестрой рубахи лезет наружу могучая шея с незагоревшими полосками складок. Спокойный, даже чуть безразличный взгляд скользит по крышам, деревьям, но замечает и взволнованные лица.
– Слышал, жену в больницу отправил, Балюлис?
И вижу и слышу… Тихий, доброжелательный голос не подходит к могучей фигуре и взгляду. Смотрит так, будто принадлежишь ты не только себе, но и ему. Из-за одного того, что он председатель, что по его приказу люди косят и молотят, Лауринас пустился рассказывать, как заболела жена, по привычке потащил в дом. Председатель отказывался, стесняясь Статкуса, оправдывался занятостью, лучше уж под кленом посидит, дух переведет.
– Хорошее ты дерево вырастил, Балюлис.
Лауринас не поправил – сметал листья со скамьи, – на том свете попросит прощения у Матаушаса Шакенаса. Если достойно похвалы дерево, которого ни поливать, ни удобрять не надо, то разве менее достойны им самим посаженные яблони и груши?
Пока звал Лауринас Елену – не согласится ли похозяйничать? – Статкус с председателем перекинулся парой слов о погоде. Хорошие деньки стоят, что и говорить, но пастбищам и садам не помешал бы и дождик. Елена помыла из лейки перемазанные в земле руки, заспешила к буфету, словно было это ее обязанностью, вписанной в память и гены. Так же нарезала она когда-то ветчину и разбивала яйца в сковородку, чтобы накормить изголодавшегося Йонялиса Статкуса, когда тот вваливался к ним с бурчанием в голодном желудке. Больше всего манил свет на холме Баландисов, но с не меньшей силой – и он стыдился этого! – запах поджаренной на сале яичницы. Ведь тогда, в незапамятные времена, он творил мир, а не мир его, и пустой желудок не имел права так уж громко заявлять о себе.
– Сколько Балюлене, восемьдесят? – Председателю не удавалось отсеять из множества мельком виденных старческих лиц одно, найти то, которому в настоящее время причитается если не особое уважение, так, по крайней мере, внимание. Когда случалось ему заглядывать на эту усадьбу, к задымленному кухонному оконцу приникал перехваченный косынкой лоб. Блеклое пухлое лицо. Ни разу не вышла стол накрыть, все сам Лауринас. Казалось, не от страха или смущения прячется старая в своем закутке, нарочно, и он не очень задерживался, хотя тут было чисто, а чистоты ему, городскому человеку, не хватало.
– Скоро по дому тосковать начнет, хоть и старая. Надоест казенная похлебка, яички величиной с кукиш! – храбрился в присутствии председателя Лауринас, выставляя на стол поллитровку.
– Не пью. Дел по горло. – Председатель покосился на Статкуса и ребром ладони отделил себя от угощения. – Женщины – народ живучий, правильно говоришь, Балюлис.
– Капельку! Такой редкий гость… Обижаешь, председатель! – Лауринас умел соблазнять, с помощью стопочки уламывал тракториста вспахать сад, комбайнера обмолотить ячмень. Уговорю и тебя, не привыкать ведь…
– Сказано, не могу. – Председатель строже отгородился от бутылки, потом, смягчая свой отказ, пожевал кусочек скиландиса. – Хорошего копчения мясцо. Может, тебе, Балюлис, помощь какая нужна?
– Спасибо, ничего мне не надо. Всего у нас вдоволь. – Лауринас развел руками и сам удивился, что его подбивают просить, а он ничего не просит. Вчера бы принялся жаловаться, чтоб разрешили сухую елку в лесочке срубить… На дрова, зима на носу… Да что мне эта зима? У меня сегодня зима. Ничего не нужно…
– Я у вас третий год, но в старых книгах нашел записанные тебе благодарности за лен, за свеклу, – продолжал председатель. – Хотели даже тебе, Балюлис, звание почетного колхозника присвоить. Правда это?
– Винтовка помешала, черт бы ее побрал.
– С винтовкой шатался? Не сказал бы, глядя на тебя.
– За лошадиным хвостом я шатался! – ощетинился Лауринас. – И в ворону-то никогда не выстрелил, председатель.
– Ладно, Балюлис, что было – быльем поросло, – махнул рукой председатель, и не поймешь, сколько его, этого прошлого, осело в прудах председательских глаз.
– Кому, может, и ладно, а мне во где эта ваша винтовка! – Балюлис чиркнул себя по горлу, худенькому, как у цыпленка. – Сам Руфка подтвердил.
– Кто?
– Сын селедочника Абеля. С шестнадцатой дивизией пришел. Больших начальников стрижет и бреет.
Председатель вежливо промычал что-то нечленораздельное.
Не заинтересовался знаменитым парикмахером? Не больно интересует его, видать, та старая история. Упомянул, и все. Не позволяй себя дурачить. У него за пазухой не только твоя винтовка…
– Если бы не этот Абелев сынок…
– Ладно, ладно, Балюлис. – Председателю надоел пустой разговор. – У тебя вроде корова есть?
– А как же? Хорошая корова, два ведра дает. У меня скотина должна быть скотиной!
– Один останешься, держать будешь или продашь?
Затянутая ряской тяжелая вода обнажилась, заколыхалась. Правда, до дна тот пруд и теперь взглядом не пробуравишь. Неужто купит корову? Может, надо было сказать, что больше молока дает?
– Не знаю. Бабы помогать обещали. Сена я припас, – объясняет Лауринас.
– Колхоз возьмет, деньги – через сберкассу. И никаких тебе забот, Балюлис.
– Надо подумать.
– Думай поскорее. Для нас твоя корова в убыток, на мясо берем. Заступница у тебя больно хорошая. Если бы не бригадирша…
– Как же, с дитячьих лет знакомая. За яблочками прибегала, в округе мало у кого сады-то были… – начал было с гордостью рассказывать о своих деревьях Лауринас, однако остановил суровый, нацеленный куда-то над его головою взгляд. Старик провел рукой по волосам – не затесался ли в редкий пушок клочок сена? Ничего не нащупал, а председатель продолжал смотреть, будто увидел сидящую бабочку, и Статкуса пронзила мысль, что взгляд его притягивает тот самый, мелькавший уже знак: «Продается усадьба».
Что-то недоброе почудилось и Лауринасу, поспешил отдать Чернуху, из-за которой еще долго мог бы торговаться. Не цену бы набивал – цена твердая, заранее известная. Но когда у тебя покупают корову, ты важное, уважаемое государством лицо. Дураком надо быть, чтобы не подорожиться.
– Придется продавать. Никуда не денешься. И Петронеле велела.
– Умная у тебя жена, Балюлис. Значит, договорились? – Мысли председателя вернулись к корове.
Жар ударил Лауринасу в глаза, снова тянул с ответом. Корова, корова… Что мне корова, если жены нет? Все ты можешь, председатель, сделай так, чтобы снова она застучала своей палочкой, а? Не сделаешь. Никто не сделает…
– Пришлю грузовик. Не придется самому мучиться. – Председатель встал, но так, словно еще не все выложил.
– Спасибо тебе, председатель, спасибо! – кланялся и благодарил Лауринас. – Точно, никуда не денемся. Надо. Может, обмоем? Стопочку, чтоб дорога не пылила.
– Ну, будьте здоровы! – принял стопку председатель и поставил пустую. Не присаживаясь больше, вынырнул из кленового плена. Ветви хлестали по крепкой, обтянутой кожей спине.
– Не успеваю обрезать! Невиданной пышности дерево, – извинился Лауринас.
Возле «газика» председатель выпрямился, медленно обвел взглядом строения, сад, даже край неба над зубцами елей.
– Где тут успеешь, когда такие заросли, – ответил он, отводя от Лауринаса глаза – дремлющие пруды. – Надумаешь усадьбу продавать, тоже дай знать.
– Не продаю! И не думаю! – испуганно замахал руками Лауринас.
– Да разве ж я заставляю продавать? Говорю, если надумаешь. Между прочим, Балюлис, на территории колхоза преимущество за членами хозяйства.
Был полдень, светило солнце, но лицо Лауринаса покрылось тенью. Может, облако надвинулось, может, «газик» оставил густой дым.
– Спасибочки! – Расчухавшись, Лауринас побежал было следом, но едва ли председатель мог услышать его. – Я еще не спятил! Еще подождете!
Статкусы не знали, как успокоить старика.
– Шиш, шиш вам всем! – совал он во все стороны дрожащий кулак. – Корову продам, другую, пусть и поменьше, куплю. Нам много молока не нужно. А усадьбу, деревья… Не дождетесь!
Без Петронеле стало по-осеннему темно – ни ближнего, ни дальнего сияния. Статкус нервно жужжал фонариком, но лампочка не накалялась. Свет, пусть и ничтожный, был бы издевательством над Петронеле, отсутствующей в этом доме, в этом мире таинственных шорохов и шепотов, где теперь не слышно ее дыхания. Лишь в углах и под потолком витали еще сны, ее неизменные, жуткие сны. Статкус чувствовал себя нежеланным гостем, спутавшим жизнь старых людей. Не наше ли затянувшееся вторжение подливало масла в огонь, не оно ли стравливало Балюлисов, приближая тем самым печальный исход? Мы были свидетелями – не судьями! – если и судили, то лишь себя, но почему же у нас такое чувство, будто мы без спросу что-то взяли, даже украли на пожарище? Хорошо, что ты деревья сажал, Лауринас. Петронеле сберегла самые нужные слова. А Елена? Не сомневаюсь, найдет, что сказать, когда… А ты сам? Неужели приближается конец, если стараешься угадать то, чего уже никогда не угадаешь?
От мысли, что их с Еленой последний час тоже не за горами, стало тяжко на сердце. Это было не физической болью – бессильной печалью, всепроникающей горечью. Словно держал на коленях маленькую Нерингу, а его девочка, свет его очей, его утешение, вязала и распускала все одну и ту же салфеточку, опустив пахнущую зимней сиренью головку, и не догадывалась, что конечности отца обрублены и объятия его не самое безопасное место в мире. Тряси ее, учи, доказывай, что молодая девушка должна держать голову высоко, вязальный крючок все равно будет нырять в бессмысленно дергающихся пальцах, и бессмысленным будет и аромат сирени, и твое, отец, запоздалое раскаяние…
Елена шевельнулась, разбуженная предчувствиями.
– Не спишь, Йонас? Испугалась я.
– Спи… успокойся. – Он приложил ладонь к ее шее, билась, куда-то спешила беспокойная жилка.
– В те времена, когда ты называл меня Олененком, а сам приезжал на крыше вагона… – Елена глубоко вдохнула, словно им обоим – не только ей – понадобится много воздуха. – Бывало, жду тебя, предчувствую минуту появления, словно у мечты есть свое расписание, и думаю: когда-нибудь, когда люди уже перестанут бояться, какими будут ночи? Белыми, как на Севере?
На широком лбу обозначилась и подрагивала вертикальная морщинка. Как черный жучок, которого он не любил, но который был для него в этот час дороже всех улыбок, включая и улыбку молодости, когда Елена мучительно улыбалась лишь одним уголком губ.
– Спи. Ночью надо спать.
– Сейчас… Интересно, как идут дела у того художника, Иоганнеса?
– Странный парень.
– Нет, Йонялис, нет! – Елена горячо задышала ему в лицо, словно пробивалась к мужу не сквозь темень ночи – сквозь завесу лет. – Он совсем как ты. Ты много лет назад.
– Я вроде бы не нес вздора про деревья?
– Иные времена – иные песни. Разве тогда могли занимать деревья, ведь за людьми смерть ходила. Самого чуть на тот свет у мостика не отправили… Не помнишь? Лежал весь в крови. Между прочим, предатель в тебя стрелял…
– Предатель?
– Чему удивляешься? Жалненас. Убил Ятулиса, а вроде дружком его считался, и сбежал к «болотным». Прошмыгнул сквозь охрану и – к ним…
– Где он сейчас, не знаешь?
– Расстреляли. За особо опасные преступления.
– Да, времена были… Но люди всегда люди, правда?
– Правда. Потому и говорю: похожи вы с Иоганнесом. Он мечтает о деревьях, ты о будущем мечтал, когда болезни, рак победим…
– И сегодня еще до этого далеко.
– Далеко. Но тоскливо было бы жить без мечты, правда?
– Давай спать. – Статкусу послышались шаги. В темноте, не находя себе места, бродил по избе Лауринас. – Может, спросить, не надо ли чего?
– Нет, нет. Дадим ему одному побыть.
И Елена уснула на плече Статкуса, как засыпают в детстве, внезапно сраженная усталостью и теплом, которого никогда вдоволь не получала. Теперь, когда она спала и черты ее таяли, возвращаясь к началу, окутываясь дымкой доброты и преданности, он знал, что когда-нибудь скажет ей. Свет – мучителен, скажет он, так иногда мучителен, что мы крепко смежаем веки, чтобы ничего не видеть, однако свет есть, он неподвластен пасти времени и свидетельствует о нашем родстве всему, что рождается, растет, умирает, но простирает дальше, в Бесконечность, свою тончайшую паутинку…
К утру в саду зашумело, и нетрудно было понять, что отныне дожди станут чаще гостить под этим небом.
Рубя косой мокрую траву, меж деревьями шастал Лауринас. Но столько косил, сколько поглядывал на дорогу. Глаза Елены тоже то и дело отрывались от кастрюли с картошкой. Может, «скорая» привезет хозяйку? Побледневшую, но живую и здоровую?
– Не на-ада! – вывернулась бы из-под руки санитарки Петронеле, крепко сжимая палку – и опора она, и Лауринасу можно погрозить – и, покачиваясь, как битый бурями корабль, направилась бы к своей постоянной пристани – кухоньке. – Не на-ада, – снова заявила бы, покосившись на клокочущий горшок. – Не на-ада!
Это было бы хорошо, слишком хорошо, и с росой испаряются нереальные ожидания. Глаза Елены ищут Статкуса. Он тоже слушает дорогу – не засигналит ли машина Пранаса.
Ни «скорая», ни Пранасов «Москвич» не показываются, хотя сыну сообщили. Все равно день сулит неожиданности. Лауринас вешает косу на колышек в стене хлева и громко заявляет:
– Схожу к Линцкусу за лошадью.
Однако идти не приходится, за гумном стучат копыта, и во дворе появляется Каштан, по-молодому блестя вымытыми дождем боками.
– Ах ты, мой хороший, – оглаживает его Лауринас и ведет туда, где растопырила оглобли телега. Сует мерину охапку сухого сена, чтобы заправился перед дорогой, насыпает ящик яблок.
Итак, дорога. Снова дорога? Не кончились еще дороги Лауринаса Балюлиса?
Оказывается, нет.
– Мне-то собачка подходит, но вот… Петронеле… «…Саргиса не мучай… Пес как пес… только не для нас… колхозников». Саргис, Саргис, ты где?
Прибежал Саргис, волоча мокрую веревку. Высыхала, взъерошивалась шерстка. Бросился к ногам Лауринаса, тот погладил, ухватил за шиворот, забросил на телегу.
– Ну, я на Бальгис поехал, верну барыне. Денег обратно просить не стану, не на-ада, – закончил он совсем как Петронеле.
Крепко ухватив поводья, повернулся к Статкусу:
– Не обидится барыня-то, а?
– Думаю, обрадуется, – без колебаний ответил Статкус. – Там невесть что может произойти, если не отвезете Саргиса. Перессорятся вконец.
– Мне собачка подходит, ничего не говорю, но вот Петронеле… – бормотал Лауринас, когда телега уже тронулась, и было грустно, словно прощались с хозяйкой во второй раз. Солнце припекало, обещая жаркий день, скоро от ливня и следов не останется, разве что крупные капли на капустных листах да немая упругость напоенной травы.
Вернулся Лауринас, когда солнце уже село. Медленно полз в гору, словно волоча за собой мешок сумерек. И еще большую тяжесть везет с собой?
– Чуть руки не целовала, как вы и говорили! Кофием угощала! – довольный, рассказывал он выбежавшим навстречу Статкусам. – А уж собачку ласкала, а уж ее целовала!
– Ну вот, теперь будет у нас спокойно. – Елена не стала говорить, что им уже не хватало Саргиса.
– Спокойно, – подтвердил Статкус, тоже тосковавший по песику.
– Что это вы оба, будто землю продали? – вдруг улыбнулся Балюлис, из его глаз выпорхнули птички-корольки, давненько под козырьком его кепки не появлявшиеся.
Дрожащей от волнения рукой – что с того, что храбрился? – сдернул клеенку с ящика из-под яблок. Там что-то засверкало и радугой взметнулось вверх. Павлин! Надутый и сверкающий. И вдруг как заорет! Еще и еще раз, словно веселый проказник трубач, не пожелавший ждать взмаха дирижера.
Ну и удумал неугомонный Балюлис! Что это? Уж не рассудком ли ослаб? Но птички-корольки так весело, так хитро трепыхались под седыми бровями… Что, снова судьбе кукиш показывает?
– Нравится? Для меня уж коли скотина, так породистая… Каких лошадей держал, каких собак! Если бы не Петронеле, ни за что бы от фокса не отказался. Ну да ладно, и павлин – птица не простая. Скажете, простая?
– Да где уж там, сверкает весь, – поддакнул Статкус.
– Как драгоценными камнями обвешан, – горячо похвалила и Елена.
– Кому красиво, кому, может, и нет, а мне… Мне хорошо, мне годится! – подытожил Лауринас, видимо, отсекая последнее сомнение, и хихикнул.
У подножия холма Елена коснулась мужниного плеча. Статкус кивнул и притормозил разбежавшуюся, груженную чемоданами машину.
Вышли. Издалека доносились голоса Пранаса и Лауринаса, то врозь, то переплетаясь. Отдельные деревья на холме видны уже не были. Казалось, один только клен тянется вверх, могуче раскинув свою крону, достигая ею солнца и постепенно в нем растворяясь. Скоро и не различишь, где свет дерева, а где солнца.
– Ну, хватит, – заторопился Статкус.
– Куда спешишь?
Тут было им хорошо, грустно и хорошо, как уже никогда и нигде больше не будет. У Елены навернулись слезы.
– Дела.
– Снова твои дела?
Статкус не стал объяснять, она не расспрашивала.
Тень машины летела по обочине, обгоняя эту веселую птицу, летел вперед жадный взгляд Статкуса. Вот показался белый пригород – высотные белые башни, окруженные такими же белыми домами, вот красный – кирпичные башни в окружении таких же красных домов, а шестеренка кольцевой дороги уже расшвыривает во все стороны сверкающий, ревущий, чихающий поток автомобилей. Как-то внезапно, не давая передышки, вбирают тебя городская суматоха, дома, машины, рекламные стенды, люди; последних такое множество, что рябит в глазах. Руль тает в потных руках, но Статкус не замечает этого, перед ним открывается улица, по которой, кажется, только вчера брел он, ничего не видя, погоняемый болью. Улица похожа на все другие, но ее не спутаешь с остальными, по ней навстречу снова идет враскачку мужчина с хмурым лицом, тот, кого не узнал тогда, хотя, конечно, знакомый, больше чем знакомый! Вновь норовит проскочить мимо, не выдать себя – равнодушный, с холодной дымкой враждебности в глазах! – однако теперь тебя уже не обманет ни его задранный подбородок, ни безразличный взгляд, скользящий по твоему лицу, словно ты выгоревший на солнце, никому не нужный плакат.
Мужчина не замедлил шага, и Статкус не замедлил. Расстояние между ними все сокращалось, а над размягчившимся от жары асфальтом уже столкнулись, смешались запахи их одежды: разогретой солнцем шерсти и одеколона у одного, росистой садовой травы, смешанной с раскаленной пластмассой машины, у другого! Наконец-то они неминуемо встретятся! Так жарко от их сливающегося дыхания, что капелька пота, бегущая по виску таинственного незнакомца, скатывается по твоей щеке. Странно, запах чужого тела приятен, как своего, нет, еще приятнее. И движения рук вроде бы не твои, но помахиваешь ими, как он, не очень сильно, ведь главное – шагать враскачку, так, чтобы никто не задумывался о твоем возрасте. И шаги… Словно не в асфальт впечатываешь каблук, а в сердцевину земли, чтобы след никогда не исчез. Теперь-то мы узнаем друг друга, не сможем не узнать, потому что он – это я, я – это он… Наконец-то встретимся через много лет разлуки и отчаяния я и Йонялис Статкус!








