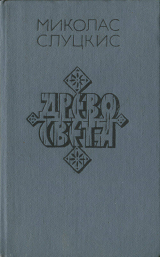
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Да что вы, хозяюшка. Самая обычная одежда, – защебетала горожанка, и ее ответ почему-то пришелся старухе по сердцу, она хрипло рассмеялась.
– Деревенские-то наши бабы в бригаду, как в кино, разряженные бегут. Не грех бы и тебе бровки-то повыщипать, ноготки покрасить.
– Где тут успеешь? Стирай, обед вари…
– Да, на мужиков не настираешься. Возьми моего старика… Думаешь, всегда дятлом стучал? Как бешеный носился! – последние слова она произнесла таким громким шепотом, что встрепенулся сидевший в саду Статкус. Снова начнет метать громы и молнии? Нет, другой, совсем другой вздох сопроводил шепот, будто сладко саднящую рану погладила. – Гол как сокол пришел, а нос задирал. Как еще задирал! Особливо перед богатыми хозяевами. Из кожи вон лез, только чтобы сравняться с ними. Батюшка-то мой наставлял его: прикупи земли, сбей, хоть по кусочкам, волок, а он… Все небось своим жеребцом хвалился? То-то и оно! Разве позволит себе справный хозяин держать на десяти гектарах жеребца? У отца двадцать было, и то не держал. А этот, вишь, считал, что своими призами любому дворянчику нос утрет. Распутным городским дамочкам понравиться хотел – вот что. Смотрите, мол, каков я на коне! С одной чуть не сбежал. Лихой был. Ох, крепко отрыгнулись нам эти его призы, галифе, френчи да ружье!
Вот и прозвучало роковое слово – ружье. Блеклый ночной цветок распустился при свете дня и начнет теперь расти, тянуться вверх. Да, да! Были и френчи и галифе, было ружье, не могло их не быть, ежели хотел он гарцевать на равных с сыновьями богатеев и помещиков. Иливступай в Союз стрелков[5]5
Военизированная организация в буржуазной Литве.
[Закрыть], или продавай своего жеребца, так ему и сказали, а то больше на скачки не допустим. Не по душе были Лауринасу Балюлису ни стрелки, ни их ружья. На что они ему, примаку, от зари до зари поливающему потом песчаный холм? Выкапывающему в лесах деревья и волокущему их в усадьбу на собственном горбу? Галифе, френч, стоячий воротник, ремень через плечо еще туда-сюда, удобно, когда трешься возле лошади. Но ружье? Пахарь, сын пахаря, пусть и арендатора, испокон хозяйничавшего в запущенных поместьицах, он инстинктивно чурался железа, которое не пашет и не боронит. Ни отец Лауринаса, ни братья оружия сроду не нюхали. И он знать не хотел. Отслужив свое в уланах, как дурной болезни, не хотел. Другое дело – расчесывать да заплетать гриву жеребцу, готовить его к бегам…
– Нет, дочка! Чего ж тогда «лесные» явились? Думаешь, на яблоки его поглазеть? – ножами пыряли вопросы Петронеле. – Когда сажал, многие приползали позубоскалить. Дурак, дескать, как же – вырастет у него на таком песке сад! А когда засыпались мы теми яблоками, замолчали, сами стали деревья сажать. Нет, «лесные» не сад посмотреть приходили. И не для того, чтобы пса укокошить! Застрелили, потому что кидался, зубы оскалив… Я этого зверя сама боялась, хоть своими же руками и кормила. За формой и винтовкой приходили, вот за чем! Осерчали, что не нашли, Лауринас ружье уже давно выбросил, а от формы стрелка одни галифе остались, да и то из домотканого сукна. С расстройства и собаку уложили. И мы тогда на волосок от смерти ходили. Вот как оно было, милая! Вспоминать страшно…
– Страшно, страшно, – доносится до Статкуса, и не из кухоньки – из далеких далей, из канувших в небытие осеней, когда он, бездомный студентик, прыгал по немощеной, изборожденной ухабами улочке, насквозь пронизываемый ветром и подгоняемый мечтами, которые были быстрее этого ветра; дверь покосившейся избушки медленно-медленно отворялась перед ним, будто удивлялась, что никто не замахивается ружейным прикладом, не разносит в щепы нетесаные доски.
– Ты? Глянь-ка, Йонялиса принесло! – не верит своим молодым, бодрым глазам мать, узнавая его развевающиеся на ветру космы, его раздувающийся плащ.
– К девке притащился – не к матери!
Отчим. Басовито гудит в широкой груди его ворчание – только бы не показать, что и сам рад. Если бы не этот его густой бас, мать и не взглянула бы на коротышку. Даже в то отчаянное лето, когда бродила с одного двора на другой, выгнанная, считая дни до родов.
– Хлеба вот привез, сахара. – Йонас раскладывает подарки на залитом самогонкой, пропахшем хлебом и ежедневными заботами столе.
– Сам-то ешь ли, сынок? Такой бледный. – Тайком скользит по его подбородку худая, отдающая тмином материнская ладонь.
– Много работаю, мама. Некогда жирок наращивать.
– Знаем мы таких работников. – Отчим возится за печкой и смеется так, что даже тонко звякает треснувшее оконное стекло. – Ночи напролет с девками возятся.
– Садись, сынок, чего стоишь? Раз-два, и блины спеку. Сбегаю к соседям за молочком.
– А своего нет?
Заработал им на корову, недоедал, вагоны по ночам грузил. Купили – и что? – снова продали?
– Не слыхал разве, что дворец строю? Кирпичи, гвозди, краска – все за наличные! – громыхает от теплой стенки отчим, через глотку пропустивший корову.
– Не ходи за молоком, мама, – хватает ее Йонас за платок. Сто лет этому платку, а мать оживленная, глаза блестят. – Кажись, коржиков напекла?
– Вот ведь дырявая голова! Совсем забыла, на тебя заглядевшись.
– Всучили яловую, сволочи. Ну и пришлось продавать. Не держать же скотину на издое!
Отчим клянет обманщиков, оправдывается, втайне стесняясь серьезного пасынка. Мать весело ставит тарелку, прикрытую исписанным листом из тетради по арифметике. Его тетради…
– Откуда знала, что приеду? – В горле трогательно першит от вкуса жженого сахара – редкого лакомства детства.
– Не пишешь. Откуда же мне знать? Аптекарская дочка обмолвилась.
– Дануте?
– Барышня с нами не знается. Елена. Вежливая, ласковая.
– В зеленой бутыли водки еще на два пальца. – Отчим шебуршит, надевая шубу. – Дай парню, смелее будет девкам юбки на голову задирать!
– Хватит тебе, отец. – Мать сердится, настоящий тут работник она, настоящий кормилец она.
– Слишком мы просты для сынка. К господам побежит. Хоть и вчерашние, хоть и захиревшие, а все господа, – не перестает ерничать отчим.
– Ухожу, мама. – Пора убираться, вдохнуть чистого, не провонявшего алкоголем воздуха, чтобы не возник соблазн, сорвав с отчима рванину, взять его за грудки.
Улица городка – длинный пустой рукав. Лужи не рябят уже, нигде ни огонька, хотя жители наверняка еще не спят. Страшно засветить лампу, как бы не привлечь бдительного глаза народных защитников или вооруженных болотных призраков.
– Стой, кто идет?
– Свои.
– А ну ни с места! Кое-кому и болотные черти свои. Что-то мне твоя морда вроде незнакомая. – В расстегнутый плащ Статкуса упирается холодный ствол, в лицо иглы глаз.
– Не заводись, Жалненас, это же Статкус. Студентик, – заступается другой голос, миролюбивый и знакомый.
– Какого Статкуса? Того, что дворец строит? – переспрашивает узкоглазый, названный Жалненасом.
– Точно, – отвечает за Йонаса Статкуса подходящая вразвалочку тень, очень похожая на Ятулиса, сколько лет на одной парте сидели. Гордился этой своей походочкой, как другие голубями или умением дать щелчка. Подражая ему, и Статкус так ходил. Было время – разносил с Ятулисом повестки по хуторам.
Парни с винтовками хохочут. Славится отчим на всю волость, неприятно это Статкусу.
– Что ж, так и не собрался, Ятулис, учиться дальше?
Мелькает мысль: приехал бы в Вильнюс, ходили бы вместе вразвалку по улицам, веселей было бы!
– Не все, как ты, вундеркинды.
– Не станешь потом жалеть?
– Пока, браток, не жалею. Не хожу, как некоторые, с полными штанами. Как-никак ружьишко в руках… Испугался, а?
– Чего мне пугаться? – сдерживается Статкус. – А ведь ты неплохим математиком был, Ятулис.
– И врагов, и друзей без высшего сосчитаем! Правда, Жалненас? – Ятулис не позволяет вернуть себя в прошлое. – К Кармеле наладился?
– Ага… А что?
– Смотри не встань поперек дороги нашему лейтенанту. Контуженый!
И уходит вразвалку, коренастый, широкоплечий, кажущийся старше самого себя; за ним следует узкоглазый. Они о чем-то живо переговариваются.
Лейтенант… Лейтенант? Дануте и какой-то лейтенант? Сплетни! Он не верит. Мелькает зависть к Ятулису и тому другому, незнакомому парню, шагающим посреди улицы. Сжимать в руке сталь, как они! Не терзаться, вырвать из сердца Дануте… Кулак напряжен, словно ощущает холод стали. Йонас спохватывается – сжимает рукой воздух! Пустоту… В другой руке папка для этюдов. Такая же пустота… С горящими глазами бросился в живопись. И что? Повкалываешь ночь на разгрузке у пакгаузов и получаешь днем возможность клевать носом среди гипсовых голов с отбитыми носами. Такое-то счастье нагадали тебе, родившемуся среди ржаных снопов, феи-повитухи?
Холм живой, вернее, полуживой. Желтеет лишь одноединственное боковое окошко. У бывшего аптекаря в любое время суток можно получить облатки и капельки. Чаще всего прибегают сюда посланные родителями детишки. Почему дорогу им освещает не лампа, а свечка? Постою, пока догорит…
– Йонас? Наш Йонас? Пришел! Ура!
Вокруг него веселый гомон, руки Елены тащат в дом, а ему даже в голову не приходит, что так и не купил обещанных конфет.
В комнате младшую сестру решительно отстраняет Дануте.
– Пристала, как муха к липучке! Йонас за мной ухаживает, не за тобой. Сегодня, обещаю, буду с ним доброй. Только молока пусть не просит. Не дам!
Набегает горячая волна, смывает осадок безнадежности. Разве так встретила бы, путайся между ними какой-то лейтенант?
Чадит огарок свечи, Елену выпроваживают в кухню за чаем. Молока не будет? Да и не надо ничего, я сыт радостью! Подмывает рассказать, о чем думал в темноте, пока шел сюда, и как все перевернулось. От двух ее слов перевернулось, и вроде не было никакой темноты. Но Еронимас Баландис не дает рта раскрыть. Заводит занудный разговор, не обращая внимания на твою глупую улыбку счастливого человека.
– Все, говоришь, будут равны, сынок?
Разве я говорил? А может, и говорил, только самого себя уже не слышу.
– Все, дядя Еронимас.
– Гм, а горбуну – есть у нас такой Анупрас-горбун, сам знаешь… Так скажи, кто ему камень со спины скатит! У тебя вон космы, а у меня лысина. Может, новые вырастите?
– Не о таком я равенстве…
– А мне такое нужно, такое!
– Придет и такое, – пытается отделаться от него Статкус и понимает – не удастся. В голове – слова Дануте. Сказанные и несказанные…
– Горбы лечить будут? Рак? Мне, фармакологу, говоришь? Заговорился ты, зятек.
Что случилось? Не упрекал его, не насмехался, а вот злое: зятек.
– Не надо, отец, – разнимает их Дануте. – Не Йонас виноват, что доктора ничего не могут.
В глазах у нее понимание. Почти как у Елены. Статкус спохватывается, что сравнил в пользу Елены.
– Я ничего не говорю, разве говорю?
Бывший аптекарь начинает сворачивать самокрутку толщиной в палец. Привык к самосаду, как крестьяне, его пациенты, которых он тайком пользует. Не вдохнув дыма, закашливается, вытирает застрявшую в уголке глаза слезу. Может, сообразил, пусть с опозданием, что мог бы поласковее быть с женой, не пилить ее за репетиции, вечера?
– Разрушаешь романтическую атмосферу. Дымил бы себе на кухне, папа!
Пусть не хочется, но старшей придется уступить. До чего же похожа на мать, когда порхала та по своим маевкам. Кажется, окликни: «Сигита!» – и она отзовется молодым голосом, несколько удивленная тем, что у нее выщипаны брови и подсинены веки – ведь не красилась! – и старик чувствует себя замшелым пнем. Ну и что? Едите-то из моей горсти? Помутневшие глаза Еронимаса Баландиса гонят от себя мгновенную слабость. Вместе с белым халатом слезла с него нежная кожа интеллигента и наружу прет жесткий, недоверчивый крестьянский норов. Нащупывает за спиной дверную ручку, медленно, будто и не собирается уходить. Да совсем вроде бы и не уходит, остаются его упорство, двусмысленности. Не думать… Дануте сказала… Что она сказала?
– Йонялис собирается меня рисовать, слышишь, папа? – весело кричит отцу в дверь. – Он принес огромную папку!
Невозможно было допроситься, чтобы согласилась позировать, а тут сама зажигает большую лампу. Переставляет плетеный стул, чтобы ему было удобнее. Кресла увезли вместе с аптечным инвентарем, но разве это важно, когда лучистые глаза гладят твои дрожащие пальцы?
– Темновато. Едва ли выйдет, – набивает себе цену Статкус. Да, кроме того, не обниматься с ней собирается, рисовать. Лихорадочно роется в папке, ищет картон погрубее. Ведь придется гасить то, что слишком ярко, и подчеркивать то, что мало заметно. Каждую минуту изменяется выражение ее лица – блик на воде, зависящий от сияния солнца. Ах, была бы она постояннее! И набрасывающая эскиз рука художника подчиняется его желанию: от силуэта Дануте, возникающего на картоне, когда он отстраняется, чтобы глянуть, что получилось, веет постоянством. Тень от головы падает на плечо, под просторной кофтой едва заметна грудь (обычно она – как вызов), руки отдыхают, оставив на время тяжелую работу (работает, разумеется, Елена). Теперь следует оттенить лоб, сделать его выпуклее, наметить морщинку (ах, была бы такая!), а главное – собрать распущенные волосы Дануте в пучок. В последнем он сомневается, так как послушную модель, выполняющую все его указания, вдруг охватывает настроение, требующее иного решения.
– Кто эта деревенская деваха? Я? – щелкает она по картону длинным ногтем, недовольная и заинтересовавшаяся.
– Вольная интерпретация, – пытается защитить свою работу рисовальщик, уловивший нечто большее, чем внешнее сходство. – Тебя следовало бы маслом писать, не карандашом. Черный силуэт на пурпурном фоне.
– Как Кармен? – Она щелкает пальцами, подражая кастаньетам. – А ты согласился бы рисовать меня обнаженной? Все великие художники рисовали своих любимых голенькими.
Когда-нибудь, когда перестану сомневаться в своих силах… Он так и ответил бы, однако она выгибает шею и отбрасывает назад руки, Вот-вот стащит через голову платье или ему велит… От мелькнувшей картины у Статкуса перехватывает дыхание.
А Кармела уже забыла свое ошеломляющее предложение. Скривив губы, разглядывает рисунок. Неся чай и тарелку с бутербродами, неслышно входит Елена. Статкусу почему-то неловко перед ней, будто он рисовал нагую Кармелу.
– Это не я, это ты, Елена! Иди, малышка, полюбуйся на свои едва проступающие формы. Йонас ухаживает за мной, но в его подсознании… Разве Кармела такая? Посмотрите оба! Разве эти телячьи глаза – мои?
– Твои, твои. Это же Дануте, не Кармела, – серьезно объясняет Елена.
– Похожа, но какая-то разиня! Как будто я захотела стать хорошей, полюбить этот дом. – Старшая поводит рукой, очерчивая совсем небольшое пространство. – А за что, скажите на милость, любить клетку?
– Ты имеешь в виду наш дом? – В голосе Елены озабоченность.
– Нет, королевский дворец!
Старшая развлекается, а у младшей начинают вздрагивать острые плечи. Она не осуждает, старается понять и оправдать дерзость – нет, обвинение! – сестры их дому, которое не может не унижать ее, отца и мать, улыбающуюся из простенькой рамки. Однако никто не собирается помочь ей – ни рвущаяся куда-то (уж не из этого ли дома?) улыбка матери, ни Статкус, опустивший глаза, чтобы не пришлось за нее заступаться и дразнить Дануте. Мешаю им… Никому я не нужна… Елена вспоминает об оставленном без присмотра на кухне огне.
Воцаряется неловкая тишина. Лучше бы уж Елена не уходила.
Дануте сожалеет о своем выпаде, но извиняться не собирается.
– Хорошая у нас малышка. Для нее дом – весь мир. А мне что делать, скажи?
– Надо больше верить в себя. – Йонас говорит сурово, чтобы не выдать своего двойственного чувства – неодобрения и восхищения. Так говорит бородатый вильнюсский профессор, в мудрость которого Статкус уже не верит. – Учти, жизнь ждать не станет. Свободных мест немного, и если ты не поспешишь…
– Хорошо петь такие песни тому, кто в городе! А тут… Не успеешь ответить «здрасте» лейтенантику, который тебя каждый день приветствует, как попугай, и у всех вытягиваются лица. У всех слюнки текут, будто к замочной скважине припали. Слышал про лейтенанта? Признайся!
– Слышал.
– Вот видишь! Смоешься отсюда, красиво пощебетав, а мне… Негодую на себя, грызу за то, что не была с тобой достаточно ласкова. Давай лучше не ссориться, а? – Дануте протягивает руки, но, прежде чем он успевает пожать их, отдергивает. В глазах лед, словно он не он, а незнакомый, чужой, один из тех, кто прервал ее не начавшийся полет.
– Ездишь, сам не знаешь зачем. Тоже мне спаситель нашелся!
– Меня, старика, не нарисуешь? Барышень, вижу, научился прельщать! – слышится похрипывание Еронимаса Баландиса, будто он все время торчал за спиной, а не курил за дверью. – На ярмарке один такой за пятьдесят центов из черной бумаги вырезал. Барышень, детишек. Все красивые, молодые, счастливые! Интересно, где они теперь, и вырезальщик этот, и та молодежь?
Поблескивающая шишка носа, прищуренные глазки под тяжелым морщинистым лбом. Разве таким должен быть отец любимой? А каким же? Статкус не представляет себе, но едва ли таким, у которого только лоб похож на дочкин. Недолгое дело набросать его голову, но как в одном пучке линий уместить насмешливо-подозрительного крестьянина и нисколько не убивающегося из-за потерянной аптеки печального интеллигента? Ноги сунул в клумпы, но из манжет рубашки не вынул перламутровых запонок.
– Папа, папа, сравнил художника с фокусником! – стыдит его Дануте. – Ты же обещал не мешать! Можешь положиться на Йонялиса больше, чем на свою доченьку, будто не знаешь! И вообще нам надо поговорить, а все мешают, точно сговорились…
– Вот я и говорю. Лучше разговаривать, чем драться. Если есть о чем.
– Уйдешь или нам убираться?
Еронимас Баландис, что поделаешь, подчиняется. Еще медленнее, чем прежде, выползает из гостиной. Будто приклеивает свою тень к стене, все подыскивая для нее новое место. Кряхтит, жалуется на груз лет, а ему и пятидесяти нет. Он еще может жениться, думает Статкус и смущается. Отца девочек не жалко, как Елены, стыдно за него. И этот стыд будит в парне неиспытанное ранее ощущение силы. Оно поднимается изнутри, пронизывает насквозь и несет. Куда? К берегу, маячащему в страшной дали, но в этот час – в этом он не сомневается – достижимому в несколько прыжков. Разрывается горизонт, поднимается ласкающий лбы ветер, и вот они с Дануте – невидимая сила несет и ее! – летят в просторе, взявшись за руки. Луга мелькают по-весеннему, вместо жнивья колышутся волны зеленых всходов. Он, Дануте и ветер – ничего более…
– Бросай все, и бежим! – Голос у Статкуса хриплый, будто он захлебнулся ветром просторов.
– Бежать? Замечательно, удивительно! В уезд? В Вильнюс? А может, «Широка страна моя родная»? О Елене забыл? – Дануте тоже едва слышно шепчет. – Что будет с малышкой Еленой?
– И ее захватим.
– Комик! Она не девочка – девушка. Но и это не все… Куда денем отца?
– Куда мы, туда и он!
Не собирался такое говорить. Его стеснял бы этот человек – ни старый, ни молодой, ни интеллигент, ни крестьянин. Связывал бы мечты, лишал широкого жеста. Однако слово сорвалось, а Статкус верил в свои слова.
– О-ля-ля! – пропела Дануте насмешливо, мелодия не соответствовала их тайне.
– Смеешься? – приуныл он.
– Не морщи лоб, не над тобой. Господи, сколько доброты в мире! А то из-за коровы я уж начала было ненавидеть людей… Милый, добрый мой Йонялис!
– Какой коровы? Я серьезно из-за нас… из-за твоего отца.
– Ты серьезно… Ты?
– Брошу учебу, пойду работать!
– Верю, бросил бы, но отец… Ой, не могу! – Ее разбирал смех, закусила кулак, чтобы не расхохотаться. – Отец, учти, тоже серьезно. Он, как дерево, врос в наш холм. Да какой уж там холм – кочка, которую шапкой накрыть можно, – но для него гора. Разве такого вырвешь? Срубить можно, но не вырвать!
Простор сжался до размеров детского воздушного шарика и лопнул. Не вражеская пуля, не хитрые чьи-то происки – смех легкомысленной девушки разрушил еще не построенный им, сверкнувший лишь в воображении дворец. А может, вовсе не глуп ее смех, может, смешна его серьезность?
– Что же нам остается?
– Тебе? Наплевать и уехать! Мне? Улыбаться лейтенанту, чтобы не разгневался.
Издевается. Над его преданностью и бескорыстием. Лейтенант… Прав Ятулис. Стиснуть бы что-то в руке – не пустоту, не папку!
– До свидания, Дануте.
– Не затрудняйся.
– Прощай.
– Эй, мазню свою захвати!
– Дарю Олененку.
– Вот уж обрадуется дурочка. А из вас двоих получилась бы пара. Жаль, несовершеннолетняя. Через годик-другой…
Статкус отворачивается, его вздернутый подбородок дрожит.
Быстрые шаги, взволнованное дыхание. Дануте? Молчаливо прильнет, пообещает больше не обижать? Нет, Елена, добрый дух дома. Помнит обиды своей семьи, но не забывает обид и его, чужого.
Рядом с ней неловко, будто не его обидели, а он… Неужели позволит жалеть себя?
– Возьмите, – Елена что-то сует ему.
Яблоки? Яблоки можно взять, но чтобы она его жалела?… Нет! Должен быть сильным, бесстрашным. Впереди такие дали, которых не перелетишь – только ногами измеришь.
– Извиняюсь… спешу… – отказывается он и ускоряет шаг.
– Подождите, Йонас. Сестра… Мы все перегрызлись.
– Это меня не касается.
– Выслушайте. Только не начните нас презирать, узнав из-за чего.
– Презирать?
– Нашу корову украли, и мы…
– Когда? Кто?
– Неделю назад. Вооруженные увели.
– Негодяи! А милиция?
Тишина.
– Что? Не заявляли?
– А весной поросенка украли.
– Догадываетесь кто?
– В общем, догадываемся…
– Так надо заявить!
– Успокойся. Свинью можно и другую вырастить, а голову… Так говорит отец.
– Как же будете жить, Елена?
– Кто сыр, кто яичко за порошки, капли… Картошку выкопали. Сено еще есть, снова корову купим. Не пропадем.
– Спасибо, Елена, что навестили маму. – Статкус не замечает, что обращается к девочке на «вы».
– Мы с ней беседуем.
– Спасибо. Теперь нескоро увидимся.
– Я… – она поспешно поправляется: – Мы будем ждать!
– Я, наверно, далеко уеду.
Далеко, откуда не возвращаются! Большие глаза жадно ловят каждое движение его губ. Хочется говорить красиво и трогательно, но не привык.
– Далеко? Господи, господи…
Ее стон отдается у него в сердце. Никуда не уезжать, остаться тут, где есть продуваемый ветрами холм, близкие, желанные люди, деревья до неба и небо, которое глазом не охватишь. Он склоняется к прохладному, не детскому лбу девушки, уже не сомневаясь, что в один прекрасный день сломает свою жизнь до основания и непоправимо, сломает!..
– Вы меня… меня поцеловали?
Он не отвечает. Бежит. Силой вырывает из вязкой земли каждый шаг… Не останавливаться… не оборачиваться… никогда!
Распростертые ворота так и лежат на земле, как подготовленная к разделке говяжья туша. Балюлис спохватился, что яблоки пропадают. Бросился выбирать из гниющих, источающих уже сладковатый смрад куч, рукой отгонять шершней и обтирать каждый плод тряпкой. Паданки складывал в один ящик, снятые с дерева – в другой.
– Глянь, дочка, какой тряпкой-то… Видишь? Грязная портянка, и все! – Петронеле тыкала своей клюкой в его сторону и колыхалась от смеха. Не очень злого, снисходительного. Понимай: эта стариковская шалость ничто по сравнению с бывшими, опрокидывавшими жизнь, как ведро с водой.
– Ох, уж эти мужчины, – поддакивала Елена, не желая возражать.
– Думаешь, копейка ему понадобилась? Старику только бы перед людьми покрасоваться, языком потрепать. Гляньте, мол, какой я колхозник, какой садовод! Похвали такого барана да стриги.
Лауринас не обращал внимания ни на смех, ни на подкалывания. Выволок телегу, стянул проволокой рассохшиеся колеса. Набил четыре ящика яблоками. Грузился с вечера, чтобы утром руки были свободны. По старой привычке проснулся до ласточек, толком не сознавая, спал или нет. Распахнув хлев, вернулся в избу и присел перед осколком зеркала. Долго скреб себя истончившейся довоенной бритвой. Не торопились молодеть щеки, изборожденные морщинами, загрубелый подбородок тупил лезвие. Когда умылся, из тумана старости вынырнуло младенчески порозовевшее личико. Праздничный костюм, сверкающие полуботинки вместо чьих-то, скорее всего, сыновних стоптанных босоножек, и это еще не все. Повязал пестрый галстук… Собрался на базар, хотя что такое базар по сравнению с нетерпением, от которого дрожат руки, с неслышным, однако ощутимым дыханием праздника? Превращение в кого-то другого, знакомого и незнакомого, завершила твердая шляпа с узкими полями – не повседневная потрепанная кепка. Если бы не огрубевшие, никакими мылами и бензинами не отмываемые руки, Лауринаса, чего доброго, можно было бы принять за провизора или органиста старых времен, а он и не стал бы возражать.
Заржал Каштан, как и положено в торжественный час. Когда хозяин уже лез в телегу, Статкус попросил, чтобы и его взяли в город. Почему? И сам не смог бы объяснить. Захотелось трястись с Лауринасом, будто и его ждал кто-то за липами и елями. Для вида старался придумать предлог. Елена попыталась отговорить. С твоим-то давлением?
– Помогу хозяину. – Ничего больше Статкус добавить не сумел, но жена притихла.
– Надоест вам, я ведь нескоро продам, – не особенно жаждал помощи Лауринас. – Базар-то завален яблоками.
Неохотно подвинулся, но вскоре был уже рад, что не в одиночестве едет. Собрался на базар яблоки продавать, однако и серьезная подготовка, и праздничный вид свидетельствовали: отправляется в неведомую страну, которой, и три жизни прожив, до конца не узнаешь, потому что она водоворот, где постоянно выныривают неожиданности. Может, вдвоем, сидя на охапке сена и слушая постукивание одних и тех же колес, будет безопаснее?
– Смотри не заночуй там, Лауринас! Чтоб еще засветло дома был! И вы тоже… Не знаете вы моего деда. С каждой – в юбке ли, в штанах ли – готов часами болтать. Поседеете, его ожидаючи! – криком провожала их Петронеле, не надеясь, что послушают. – Вечно его ветер носит… – Там, где, вогнав в землю палку, скрестив на ней руки, стоит она, подхватывающий, уносящий мужа вихрь бессилен. Но ведь должен же кто-то стоять и не двигаться, пока другие носятся, вывалив языки, надеясь ухватить за хвост молнию… Всю жизнь будет она терпеливо ждать, пусть и дрожит сердце, полное страха за старого ветреника, надумавшего еще разок – быть может, последний – сорваться с привязи. – Не засни в телеге! Маши-и-ины на дороге! Слышишь?
– Слезу выдави! – цедит Лауринас, не оглядываясь, все равно не услышит. – Собака лает – ветер носит.
И погнал лошадь, не давая жене опомниться, чтобы она и впрямь не принялась рыдать. Гони не гони – Каштана разве что уклон подтолкнет. Ах, как тосковал теперь Лауринас по настоящему коню! Понес бы во весь опор из тени непроснувшихся деревьев, из забившего глаза тумана, и надо было бы думать о вожжах, удилах, подковах, а не о Петронеле, стоящей столбом и ждущей тебя, еще и не уехавшего.
Солнце было не солнцем – отблесками в окнах усадеб, озерцах, в стеклах прижавшегося к обочине дороги грузовика. Дремали нетронутые колесами и ногами песчинки, мостики, трава в кювете, деревья. Приближалось и удалялось небо, снова приближалось и снова удалялось. Кто-то невидимый играл лентой дороги, то незаметным движением выгибая ее дугой, то опуская к ногам. Вот прилипла она к низинному лугу, обогнула широкую пашню, а вот снова взметнулась вверх, цепляясь за небо, и приходится спрыгивать с телеги, чтобы лошадь не надорвалась.
Трехэтажные и пятиэтажные дома городка еще только потягивались со сна, а базар уже гудел. Словно и не переставал гудеть со стародавних времен. Хрюкали поросята, которых продавали молодухи в разноцветных куртках – уже не тетки в платках из твоего босоногого детства. Накрашенные, волосы по плечам – совсем еще зеленые, – а неподалеку поблескивают собственные «Москвичи» да «Жигули».
Поросят выращивают матери и бабушки, мы только продаем, потому что лучше деньги считать умеем, как бы говорит лихой вид девчонок.
Лица знакомых незнакомцев… Женские Йонялиса не интересуют. На каждом шагу бабы останавливают: сирота, бедняжка, ах! Или: дикарь, поздороваться и то не умеет! Тайной неразгаданной загадки притягивают суровые лица мужиков. Ну-ка, лягушонок, расскажи, как с бабами в бане паришься! Тяжкий запах щей и пива… Среди мужчин должен быть он. Боязно назвать его как-то по-другому, неожиданно встретив, умрешь от страха и счастья. Улучив момент, подбежишь к самому высокому – высотой с дерево! – уткнешься ему в сапоги, в грубую, пахнущую дегтем кожу. Папа! Здравствуй, сынок, какой же ты большой, а ну покажи, что умеешь. Умею кувыркаться, на голове стоять. А лошадь запрячь умеешь? Нет. Научу. Будешь пахарем, как отец, и садовником. Будешь? Буду!
Гомонят в основном женщины, мужчин немного. Высокорослых и вовсе не видать. А там кто? Что-то продает с телеги. Яблоки так не хватали бы. Вишни! Крупные, сочные, почти черные. У Йонялиса Статкуса потекли слюнки. Сверкает новенькая жестяная литровая кружка, ни одна вишенка не упадет мимо, в сено. Век бы стоял и смотрел, да надо в другое место бежать. Тот, которого не смеешь назвать по имени, не станет ждать целый день – распродастся, повесит па шею низку баранок и укатит, сына, будущего пахаря, не дождавшись. Но тут такие вишни! И так хочется их. Хотя бы одну ягодку.
Йонялис еще глотает слюнки, когда прихватывает его за шиворот твердая рука и окутывает пивной дух.
– Стянуть собираешься, букашка? Смотри, домой не пущу, если хоть одну стибришь!
– Ай! – Йонялис рвется в сторону и повисает в воздухе.
Отчим. Иначе и не называет: букашкой. Приползет домой и велит матери ноги ему мыть. Что с того, что ростом с подпаска, – в плечах косая сажень и руки могучие. Коня, под брюхо забравшись, поднимает.
– Что тут крутишься, если не своровать хочешь?
– Смотрю.
– Чего не видал? Лошадиного хвоста, кнута? Погоди, погоди… – Он выдыхает всей грудью. – Ястребиный глаз у тебя, букашка. Крупную щуку подцепил!
– Ай, отпустите…
– Отца, папочку своего родного! Надо же так попасть. Ладно, сейчас мы с тобой его на берег вытащим. Не торопись, запоминай родителя!
И рука отчима, не выпуская, подталкивает Йонялиса вперед.
Круп откормленной сивой кобылы. Новые оглобли нацелены в небо. И хрипловатый веселый говорок.
– Подождите, бабоньки, не наваливайтесь! Всем хватит, вишен нынче пропасть. Случается, цветут дружно, да портятся. А в этом году и человеку и скворцу – досыта.
– Вишнями завалился, а цену вон какую заломил, – попрекает одна из покупательниц.
– Пойдешь собирать, задаром отдам, красавица. Хлеб осыпается, а я по деревьям лазаю, чтобы вы варенья наварили. Одни убытки, если посчитать.
Отец? Это ему принадлежит голос хрюкающего поросенка? И лысина сквозь реденькие русые, ножницами общипанные волосы. Орудует, забравшись на пустой ящик, – невысокий.
– Ну и копаешься же ты! – снова не выдерживает нетерпеливая покупательница, а отец – неужели это мой отец? – незлобиво отговаривается, высыпает на ладонь медяки.








