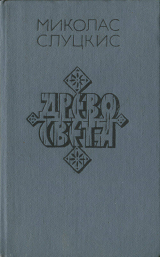
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Редко поминает своего старшего. Притупились отцовские чувства, как бывает к старости, или не хочет растравлять больную рану? Нынче все покровы сорваны, скрывать нечего.
– У самого частенько стучит в голове: собственное дите загубил, свою кровинку! Все думаю: ох, старый ты, старый, не свои уже – его деньки дохаживаешь… А из Пранаса человека не вышло, чучело с бородой. Добрый, хоть к ране прикладывай, да все языком, не руками. Чья тут, коли не моя, вина, что не пустил парень корней? Без хорошего места, без настоящего дела, так, абы что ковыряет… Отец не выучил, чужие не научат. Не подумай, не сержусь я на Петронеле, пусть хоть каждую пятницу к этой своей Морге скачет, пусть орет во всю глотку, чтобы застрелил, лишь бы встала… А я, поверь, и в зайца-то никогда не стрелял. В тень человека… Руфка Абелев, знаешь, что тогда начальнику сказал? Если б, говорит, все, у кого в сорок первом винтовки имелись, если б, говорит, все они были, как Балюлис, то не пролилась бы в Литве невинная кровь. Так прямо и выдал ему в глаза. Тут-то мне и поверили. Кати, говорят, к бабе, верно, уже пирогов напекла. Подписал бумажку, что все вещи мне вернули. А винтовку дадим, если любишь винтовку – пошутил, а то, может, и всерьез предложил красивый начальник. Может, говорит, постоишь за наше дело, Балюлис? Отбояривался как мог. Достаточно, говорю, настрадался из-за этой железяки. Я лучше землю копать буду, яблони сажать, как сажал… Ладно, Балюлис, сажай! Придет время, и яблоки нужны будут… Не очень я верил, но кивал, боялся, как бы не передумал он. Нет. Отпустил. Правда, домой не сразу отправился. Руфка Абелев в закусочную затащил. Еврейский парнишечка, а белую стаканами хлещет и самокрутки смолит… Есть у тебя сердце, господин Балюлис, говорит, что с того, что гонора много! Всех мои родители, люди неученые, господами величали, смеялся пьяненький Руфка, позвякивая медалями. Но ты – последний, к кому я так обращаюсь. Господ боле не будет!
– Что делать-то собираетесь, хозяин?
– Как что? Будку для Саргиса. Дом.
– Дом… для собаки? – вырвалось у Статкуса.
– Каждому живому существу положено иметь свой дом.
– Время ли, когда Петронеле?…
– Она бы одобрила. Старик, сказала бы, привести пса привел, а дом ему не построил. Нехорошо.
– Извините, – забормотал Статкус. – Я и не знал, что Петронеле…
– Есть собака, должна стоять конура. Что было бы, ежели не строили бы люди жилья для собак?
Слава богу, не слышал старый его разговора с врачом. Хорошо, что не задрал голову и не увидел печати обреченности, которой тот его припечатал. А может, слышал? Видел? И все равно продолжает свое! Сколачивает, подпирает…
С первого взгляда и не скажешь, что наступила зима. Не хватает белого цвета. В начале ноября появились было кое-где белые покрывала, но нарядный этот убор быстро износился. Нет звонкой ясности и свечения, которые придает городу снег. Дома и деревья уже по-зимнему серые, однако одеяния людей еще расцвечены красками лета.
Ветер гоняет мусор, швыряет сморщившемуся Статкусу песок в лицо. Вокруг все молодые – в куртках, джинсах, будто штампованные. Сотни одинаковых бегут, прогуливаются в обнимку, втискиваются в автобусы. Бесснежный, залитый обманчивым солнцем город принадлежит им, как в свое время принадлежал ему и его сверстникам. Нынешние почему-то этим не гордятся, прекрасно знают цену всему. А когда-то в плотно застроенном домами пространстве, прикрытом сверху небесной ширью, расцветали его, Статкуса, надежды на будущее. Звякая, как сосульки, опадали путы, сковывавшие по рукам и ногам. Началось, правда, скверно: сразу после замужества, долгожданного и, может, уже не очень радостного, у Олененка открылись каверны. В том, что заболела, никто виноват не был, но Статкус не мог бы поручиться, что он тут ни при чем… Поправится, должна поправиться, успокаивал себя и ее. Однако к такому удару готов не был. Жил, увлеченный своими планами, а тут вздрагивай в больничных коридорах, жди, съежившись, милостей от судьбы. Случалось и прежде: ошибался, выбрав не тот ориентир, но быстро менял курс. Даже не заметил, как от рискованной работы проектанта перешел к осмотрительной деятельности проверяющего, от скромной должности к более солидной. А тут все зависело от такого неосязаемого фактора, как… воздух сосняка. В сутолоке улиц встречал себя прежнего, свободного от ответственности за легкие Елены, снова готового жертвовать собой во имя человечества, которому воздух, напоенный запахом сосновой смолы, не столь необходим. Болезнь Елены давно утонула в дымке воспоминаний, но все еще саднит…
Статкус идет прищурившись. Не от уличной пыли, а от пытающейся догнать его беззаботной юности. Все вокруг ненастоящее – он сам, погода, улица. Все обманчиво, как весенняя травка возле домов в декабре. Неподдельно только… свинство. Ведь он не просто прогуливается – спешит па заседание. Смотри не растай от улыбочки будущего лауреата! Ведь непременно будет торчать в дверях, суя каждому свою вялую кисть. Не проголосуешь за его кандидатуру – завтра будет улыбаться тебе сдержаннее, а летом Неринга не сдаст экзаменов в Художественный институт. Биологию она уже изучала. Неужели разбить ее последнюю надежду?
Невеселый, скорее даже мрачный вышел Статкус па широкую улицу, по которой ходили троллейбусы. Еще издали увидел: длинная скамья на остановке и приросший к ней старик. Кто уезжает, кто приезжает, а старик ни с места. Да это же мой тесть, удивился Статкус. Не глупо ли торчать на пустой скамье и глотать уличную пыль?
– Здравствуй, зятек, давно не виделись, – встретил его взгляд острых как иголочки глаз, потрескивал оживший тулуп. Кое-где прожженный и потертый до блеска, некогда белошерстый, а теперь с грязно-желтым воротником – вечный тулуп, который за одно поколение и не износить. Невесть когда сооруженный деревенским портным, поставишь – колом стоит, пережил войну, коллективизацию и еще неизвестно сколько служил бы, если бы кому-то было под силу выдерживать его тяжесть. До невероятности тяжелющий! И сдается, все еще пахнет клевером, пламенем костра и сажей – соседи одалживали, когда ездили в лес по дрова. А может, закваской: Елена прикрывала им дежу с тестом. В последний раз видел Статкус этот тулуп, когда приехал перевозить тестя. Какая жизнь без теплой одежды? Колхозный санитар Еронимас Баландис отказался выслушивать советы, и тулуп отправился в Вильнюс вместе с бочонком для солода, безменом и другими подобными вещами, которые, как старику казалось, могут пригодиться в городе. Значит, тулуп, так долго кормивший моль, дождался-таки своего часа!
– Здравствуйте, здравствуйте. С Еленой небось чаще видитесь? – Статкус чуть было не ляпнул: с мамочкой. Когда же Елена, Олененок, стала мамочкой? А я угрюмо плетущимся по улице, раздражительным Статкусом?
– Видимся, как же. Апельсины приносит, яблоки. Говорю ей: не затрудняйся, детка, паси свою семью, мне ничего не нужно. Прануте, слава богу, не обижает.
Еще неизвестно, кто кого обижает, сердито шмыгнул носом Статкус. Прануте из их местечка, дети ее куда-то разбрелись, так она взяла к себе земляка, когда тот решил съехать от Статкусов. У них, дескать, скучно, мухи и те от тоски дохнут. Бывший аптекарь соскучился по мухам? Насмехается над дочерью и зятем, над их усилиями угодить ему – отдельной комнатой, телевизором, канарейками, наконец, садовым участком, который взяли не для себя – для него. Покопался в супеси на крутом берегу реки и забросил лопату. Не такая у него была усадьба, не такой сад, спасибочки за этот кукиш! Прануте вздыхала, сочувствуя и ему, и его детям, но он даже ей огород не вскапывал… За квартиру буду платить, своих кур корми сама! Старика долго не было видно, и вот торчит на скамейке в центре города, выставив на всеобщее обозрение древний тулуп – молью траченный, мышами погрызенный, огнем подпаленный. Щечки красненькие, глаза, как у ласки, да и сам будто ласка, в тулуп влезшая. Может, получив пенсию, хлебнул винца, старый строптивец?
Статкусу хочется спросить, чего это он торчит здесь в тулупе – уж не кабанов ли отпугивает посреди города? – но мелькает мысль, что никогда не умел говорить с тестем. И, пожалуй, побаивался его. Что хочешь говори, а старик чувствовал: красивые слова сплющатся, ветры развеют эхо, а ходить придется по земле, не по поднебесью летать. Особенно раздражал, когда становился за спиной и разглядывал начатый холст.
– Это, зятек, что же у тебя? Неужели человек? – откашливался он наконец, с полчаса промолчав. Весь день возился с казенными бумагами, и вот – едва припал, изжаждавшись, к воде – плевок в твой колодец.
И в самом деле – что? Сам, ошалев, смотришь на неузнаваемую мазню. Человеческая голова? Колесо со спицами? Солнце? Скорее всего сгусток, из которого разное может пробиться, нужна лишь искорка – единственная, вспыхивающая все реже и реже.
– Не знаю еще, – признаешься, будто виноват.
– Делаешь, значит, неизвестно что?
И старик, ухмыльнувшись, шаркает в свою комнату, где висит пустая клетка для канареек. Будет долго копошиться там, уже позабыв о тебе, но ты забыть его не сможешь, и чудесная искра, едва вспыхнув, угаснет. Даже передышка после того, как тесть переселился, не принесла облегчения. Ты все чаще задумывался о себе, о том, каким ты был, когда аптекарь шелестел еще старыми рецептами или с фонарем шагал на колхозные фермы. Неужели и старику милее был молодой, не умевший жить шалопай, над которым он иногда посмеивался?
Вот и снова тесть заявил о себе, и не только тебе – всему городу. Подростки ходят в расстегнутых куртках, студенточки распустили волосы, а он, изволите ли видеть, в тулупе!
– Снега ни клочка, люди чуть ли не по-летнему одеты, а вы закутались, – решился наконец упрекнуть Статкус.
– Верно, зятек, снега и в помине нету, все без шапок гуляют, как без голов! – Еронимас Баландис по-прежнему умел ответить, хотя изрядно сник, перешагнув за восьмой десяток – ласка или еж, в тулуп забравшиеся.
– Тепло же, солнце припекает, – доказывал Статкус без особого энтузиазма, потому что и сам старался не слишком панибратствовать с коварным декабрем. – Думаете, все, взяв с вас пример, напялят шапки и шубы?
– Ничего я не думаю. Показываю, как должно быть.
Показывает, как должно быть. Значит, махни рукой на солнце, на зацветшую примулу, о чем пишут газеты, и парься в тулупе? Какого рожна? Потому что на календаре декабрь, зимний месяц? Многое должно было бы быть, как учат или пишут! Но вот твой зять идет на заседание, которое ему глубоко противно. Увидел бы ты, отец, как вскинет он вверх руку, будто резиновый протез. Все поднимут – один ты не поднимешь? Хочется человеку стать лауреатом, как его обидишь! Твоей дочке необходимо поступить в Художественный, как ее разочаруешь?
– Что же изменится оттого, что вы нахохлились здесь, будто филин? – не удержался, чтобы не уколоть, Статкус.
– Ничего не изменится, зять.
– Так зачем сидеть? Какой смысл?
Еронимас Баландис не шелохнулся.
– Будет и снег, и лед, все будет. Шуба есть, значит, придет и зима.
Никто не умеет испортить настроение так, как тесть. И почему он недоволен мною, сердито раздумывал Статкус. Ему не терпелось уйти от этой скамьи, от хитрых глазок, от напоминающего о войне, послевоенных годах и о многом другом тулупа, который, стоит старику шевельнуться, погромыхивает, словно жестяной. Чем я его не устраиваю? Жену не бросаю, как некоторые, переживая вторую молодость. Ни рубля не взял, когда он продал дом. И по сей день мог бы жить у нас. Вот ведь фрукт! Но не оставишь же его одного на улице.
– Послушайте, и давно вы тут?
Статкуса держал у скамейки не только долг – дурацкое предположение, что старик, несмотря на свою тупость, знает о чем-то таком, чего не знают ни он, Статкус, ни другие люди. Нечто подобное испытывал и тогда, когда старик стоял у него за спиной и смотрел на мольберт.
Маленькая головка выползла из ворота тулупа, хитро сверкнули глаза.
– С самого утра. Свиней кормить, как другим, не надо. Печку топить не надо. Разве не так?
Статкус пальцем ткнул в свои часы на запястье.
– Так-то так! Но долго сидеть на улице опасно. Можно замерзнуть, хотя и не холодно. Перебирайтесь к нам, если с Прануте поссорились.
– Чего нам, старикам, делить? – Голова снова утонула в воротнике. – Хочу, чтобы побольше народу тулуп увидело.
– Пацаны вон глазеют. Но и они – слышите? – смеются.
– Пусть смеется, кто хочет. Я подожду… И завтра приду, и послезавтра, если снег не пойдет.
– Делайте, что хотите, торчите тут, смешите людей! – выкрикнул Статкус, но со странным удивлением почувствовал, что, вместо того чтобы сгонять старика со скамейки, сам бы с удовольствием плюхнулся рядом и поротозейничал, пересчитывая людей и собак, напоминая забывчивым и беззаботным, что жизнь идет не так, как им хочется, многое идет не так.
Надо что-то делать, куда-то идти, искать других врачей, получше! Статкусу кажется, что и Елена, послушная неписаным законам дома Шакенасов, смирилась с неизбежностью. Он, как только может, старается расшевелить жену:
– Уговори ее, упроси, чтобы согласилась в больницу.
Эх, если бы не бросил тогда Еронимаса Баландиса на произвол судьбы, не пришлось бы через неделю стоять у заснеженной могилы тестя… И все-таки дожил старик до настоящей зимы, до обжигающего щеки мороза, до свиста детских салазок в переулках…
Петронеле терпеливо выслушивает и мотает головой. Нет и нет! Тут, где стены лечат, она скорее встанет на ноги. Однако лишь попытается – не встать, какое там, – ноги на пол спустить, как вспыхивает, начинает рваться в небесную высь окно, словно птица, догоняющая стаю. Это она птица со связанными крыльями, в ее голове ревут, гудят самолеты, волна за волной, как в конце войны, когда немцы бомбили окопавшиеся в лесочке русские танки. Страшно было – вот-вот взлетишь на воздух вместе с сосенкой пли елкой! – но тогда тлела надежда, что скоро всем ужасам придет конец, что люди выберутся из ям и заживут, как прежде. А теперь?
Петронеле лежит и ненавидит себя: надо же, свалилась не вовремя, в самый разгар лета, наделала хлопот чужим людям. И, не слыша, слышит, как уныло цвикают струйки молока в ведре у Елены… Никогда не любила зависеть от других, хотя они и от всей души протягивают руку. Возиться со стариками, подтирать им задницы разве приятно? Молодой человек, как цветок пахнет и привлекает, старый – трухлявый гриб, который вовремя не сбили… Так говаривала матушка, которую Лауринас не любил. Что уж там, строгая была, слишком строгая, как они тогда ведро-то с помоями, не надо было этого, ох, не надо было… Но разве зла им желала? От боли за поруганную дочь не ведали материнские глаза, что руки творят. Хорошо еще, что ведро – не ухват – схватила, покалечила бы, прости ее, господи, и дай ей царствие небесное! Что от старой ждать, если и ее, молодой и резвой, глаза не лучше видели, когда приплелась она из местечка несолоно хлебавши… Быстрее, чем сосулька, таяла в ее сердце надежда, нашептанная женой Абеля, уступая место отчаянию и жажде мести, неизвестно, чего было больше. Залила очи ревность – огонь и ледяная вода. Ничего вроде бы не случилось, ну, поднесла женщина цветочек победителю, ну, поднял он ее в знак благодарности на коня – лошадь-то для горожан редкость! – ну, «здравствуй» и «прощай», а может, и того не сказано. Однако темнело у Петроне в глазах, видела то, чего не было, не видела того, что было. Шатало ее меж деревьев, Лауринасом посаженных, разговаривала с ними – то к стволу прижмется, обнимет, будто самого Лауринаса, то сердито ветви отстранит. Вырвать, спилить, чтобы корни засохли, почки не завязывались, плоды не зрели! Но как вырвешь, живые ведь! Деревья не виноваты, сами без садовника сиротами остались, как Жайбас. Жайбас! Вот кто всему виновник! Уже не сыплет ему овса, пробирается к стойлу и ест глазами, словно под седлом он, словно ее Лауринаса несет… Вскакивал иногда и без седла, мотался невесть где… У заляпанного грязью блестят шея и глаза, бока не чищены, грива не расчесана, косит налитым кровью глазом и копытами бьет, доски дробит. Чует беду, чует опасность. Да, да, не будь Жайбаса, никогда не было бы и той дамочки, ее пряного запаха, которым отдавал стриженый затылок Лауринаса, когда вернулся с лесопилки… Вот и верь, что с лесопилки! Выпустить жеребца на волю, коли так рвется? Чтобы земля задрожала, чтобы духу его тут не осталось – сверкнет молнией, донесется дальний гром… Побегает, поносится, снова прискачет к привычной кормушке. Так просто от него, ржущего дьявола, не отделаешься. А если сунуть узду Стунджюсу? Тогда все, тогда хоть волосы на себе рви, Лауринас, ори, вой – не дозовешься. Не возьмет Стунджюс? Ха, глазом не моргнув ухватит! Ах, и хитер же змей черной ревности, чего только не нашепчет, когда вертишься в постели, как на угольях, ждешь утреннего луча, который – и ты знаешь это – тоже не принесет облегчения…
Даже у матери и у той отвисла от удивления губа, когда дочь поведала о своем плане.
– Молись! – замахала обеими руками. – Проси у господа прощения!
Она и молилась, не раз молилась, пав на колени перед холодным и унылым ложем, да не нужна была она боженьке. Стунджюс, вот кто спасет, вернет надежду!
– Уж не помутился ли у тебя разум, детка? – не поверил своим ушам Матаушас Шакенас, услышав о намерениях дочери. – Не простит ни нам, ни тебе Лауринас. Лучше уж могилу себе вырой!
Могилу? А теперь что, не могила? Видать, нет еще, раз отец ею пугает. Дождетесь, накаркаете! Она чуть рассудок не потеряла, бросилась было даже к колдуну. Килограмм вычесанной шерсти и три десятка яиц захватила, но не помогли его заговоры. Ни от бога, ни от черта помощи не получив, вспомнила однажды утром, что давно на реке не была. Побрела сквозь туман, прихватив узел с грязным бельем и убеждая себя, что собирается стирать. Солнце пробивалось сквозь листву, окрашивало розовым поверхность воды. Вошла в реку, жадно втянула в себя запахи тростника и мокрой глины. Неужели так пахнет смерть? Сладко, умиротворяюще… Вспомнила о спящих детях и, задыхаясь, кинулась обратно домой. Больше ни шагу к реке, такой красивой, манящей… Чтобы снова не поманил дьявол, начала тормошить отца: езжай к Стунджюсу, проучить надо, проучить! Лауринаса по имени не называла – он. Упорно требовала и сама дивилась, откуда столько горечи, столько жестокости в сердце. Ах, когда так мечешься, умоляешь отца об этом коварстве, Лауринас кажется рядом, видишь даже его сурово сдвинутые на переносице брови. Опустишь руки, отойдешь малость – удаляется безвозвратно. Нет, не дам ему исчезнуть, не позволю его запаху растаять среди чужих запахов! Не устоял Матаушас Шакенас – согласился посоветоваться со Стунджюсом. К счастью, не спешил запрягать, отвык при зяте-то оси мазать, упряжь распутывать. Из-за этой задержки и не передал узду Жайбаса Лауринасову врагу, успел вернуться на взятом у приятеля жеребце сам Лауринас. Приехал, чтобы она обо всем забыла, она и забыла… Скрылся где-то в недрах памяти питавшийся кровью ее сердца змей. Но разве ревность не выползает порою снова, не жжет раскаленными угольями? Все давным-давно простив, поймешь разве, отчего вдруг закипает в груди и холодеет спина, будто снова стоишь на коленях на стылом полу возле холодной постели? Не поймешь. А то вдруг придет в голову: а что, ежели бы не та женщина с вуалькой, не тот побег Лауринаса, может, давно успокоилась бы, телом и душой состарилась, как другие женщины? Выходит, должна благодарить ту дамочку? Так где ж были раньше мои глаза? Кто знает, что должны они видеть и чего не должны, разве человек только глазами видит? Болью, печалью своей… Солнце клонится к закату, все это уже не важно. Петронеле и самой чудно: вот свалила болезнь, а в голову разные глупости лезут, обрушивается невесть откуда что было и чего не было, хорошее и дурное… Прекратись в голове этот грохот, сдается, ничего больше и не желала бы, а если тишина приманит костлявую, так разве мало пожито, видено, слышано, хоть, бывало, со двора ее и силой не вытащишь? Нет, мало, если подумать, мало… Вон, на дом для престарелых взглянула, столько всего увидела. А сколько их, таких домов, на свете? И не такой ли муравейник в памяти каждого разинувшего рот, уставшего говорить старикашки? Впрочем, когда ей копаться в чужих муравейниках, если одна нога еще тут, а другая над порогом… последним порогом…
Петронеле не встает, и эта ее тяжелая неподвижность, сопровождаемая то прозрениями – вся жизнь как на ладони! – то провалами – ничего не хочу видеть, даже солнца! – придавила усадьбу тяжким камнем.
Не только избу и двор затянула печальная пелена, дорожку к хутору тоже. Люди будто тайком по ней крадутся. Чаще других Акмонайте со своими сумками.
Вот снова она, сурово насупив красивые черные брови, толкает велосипед. Не снимая сумок, озирается по сторонам, не видать ли Петронеле. Может, ковыляет уже, опираясь на палку?
– Как наша больная? – шепотом осведомляется почтальонша, прислонив велосипед к крыльцу, но слышно ее, наверно, и на усадьбе Линцкусов.
– Скоро в пляс пустится, – цедит Лауринас.
– Я не смеюсь, дядя.
– А я вот со смеху помираю, – горько усмехается старик.
– Не кусайся, дядя. Лучше о небе подумал бы! – Акмонайте переходит на крик, закатывает глаза.
– О чем?
– О ксендзе для Петронеле! Спокойнее ей лежать будет. Не страшно – ни жить, ни в другую сторону.
– В другую… говоришь? – У Лауринаса трясется подбородок, он весь как-то обмякает, одежда словно на колу висит. Исхудал и высох из-за болезни жены, улыбочки и птичек-корольков под бровями как не бывало.
– Ей там лучше будет, дядя Лауринас. Сказано же: там наша пристань. Вот не приходишь на батюшкины проповеди…
– В другую… говоришь? – Лауринас будто не слышит болтовни Акмонайте.
– Солнце зайдет, поздно будет. Позаботился бы, пока не поздно, о спасении души.
Глаза Лауринаса влажнеют, он сморкается.
– Простит ей господь грехи, и запорхает легко ее душенька, отлетит. – Большими своими ручищами Акмонайте показывает, как будет порхать Петронелина душа.
– Так нет же у Петроне грехов, – снова прикусывает горькую усмешку Лауринас. – У меня полный мешок, у нее ни единого. Чиста-чистехонька.
Акмонайте по-мужски хлопает себя по колену.
– Не кощунствуй! Каждый человек грешен, уже едва на свет появившись. И ты, дядя, и она. Все!
– Ну и ханжа ты, Акмонайте, – искренне удивляется Лауринас. – Отец у тебя таким не был.
– Потому и убили!
– Ой, ханжа, ой, тесто перекисшее! Понятно теперь, почему на корню заплесневела! – вконец рассердился Лауринас. – Кому такое чучело нужно?
– Ах так? Чучело? Ноги моей больше у вас не будет! Не веришь? Спорим!
– Ладно, оставляй газеты на меже.
– Ох, подумал бы ты, дядя, о судном дне. У тебя же самого костлявая за плечами стоит!
Акмонайте хватает велосипед и бросается прочь.
Хуже с Саргисом. Его из усадьбы не выгонишь. В конуру сунешь – там не желает сидеть, воет, выпустишь – вертится под окном Петронеле и тявкает. Снова привяжешь – воет, да так пакостно: постанывая, взлаивая. А то выдавливает из себя низкие, хрипящие звуки, будто кто его душит.
– Ах ты, сволочь… Ах ты, етаритай! – Статкус впервые услышал, как Лауринас ругается. – Да замолкнешь ты наконец или глотку тебе заткнуть?
Огрел веревкой, Саргис принялся скулить пуще прежнего.
И замерла вновь занесшая веревку рука.
– Перед бедой… перед большой бедой воет собачка…
– Ну что вы такое говорите, хозяин! – возразила Елена, а у самой глаза влажные. – Балованный, привык в комнатах вертеться, а тут веревка на шее… Отвяжите – и замолчит.
Собака утихла. Лауринас места себе не находил.
– Перед бедой… перед большой бедой…
И, будто в подтверждение его слов, затрещала яблоня. Без ветра, никем не задетая. Обломилась и рухнула па землю, точнее говоря, не выдержавший груза плодов большой сук, чуть не полдерева.
– В саду у отца вот так же яблоня рухнула. Он и помер вскорости.
– Мало ли деревьев падает, подгнило – и крак! – отважно сопротивлялась Елена. Но по глазам жены Статкус понял: сама почти верит в роковое знамение.
– Бросились братья дерево поднимать, отец не пускает, – не слушая ее, растроганно повествовал Лауринас. – Похороните меня, говорит, тогда и спилите. Пень отростки даст. Недолго вам ждать, дети. На святую Анну не станет у вас отца. Так и вышло. Спокойно, чинно; велел сыновьям гроб сколотить. Хотел увидеть вечный свой приют. И место на кладбище подобрал, и крест дубовый смастерил. Имя, фамилия, год рождения…
– Не вздумайте за гробом для живой ехать! – рассердилась Елена.
Лауринас отмахнулся:
– Где там! Радуются люди, ежели к поминкам достанут. Вон на одном хуторе длинный такой помер, а ему короткий гроб привезли. Большого во всем районе не нашлось, хоть бери и без гроба в землю опускай.
– Что за разговоры, – вмешался Статкус. – Таких могучих, как вы с Петронеле, коса с одного взмаха не свалит.
– А и косить не надо. Подует посильнее и… Недолго уже.
– Жди не жди, это же не очередь за апельсинами! – неожиданно резко сравнила Елена. – Глядишь, первый с последним местами поменяются.
– Чего я всегда хотел, – не давал сбить себя Лауринас, – так это одного… Чтобы раньше ее не уйти. Как бы жить стала, коли ругать некого? Теперь… теперь ничего бы не пожалел, только бы местами поменяться, только бы глаза мои не видели, как она мучается…
Статкус утешать не умел, Елена попыталась свести беседу к шутке:
– Так вы же, хозяин, жениться собирались? Забыли?
– Я? Неужто поверили? Чепуху порол. Ведь Петронеле… Ведь она… – Лауринас испуганно замахал рукой. – Мне лучшей жены не надо! Никогда не надо было… Бешеная кровь у меня в жилах кипела, это правда, по, слава богу, не распустился. Хорошо мы жили, разве кто попрекнет?
– Хорошо, никто и не спорит, – поддержала Елена.
– Поправится ваша Петронеле, вот увидите, – дрогнувшим голосом сказал Статкус и в этот момент действительно ничего так страстно не желал, как этого чуда. Верил бы в бога, в то, что есть на свете кто-то могущественнее человека, горячими словами молитвы заклинал бы: пусть даст им еще немножко солнечных дней! Чтобы спокойно гасли и угасли, все свои дела завершив, думы додумав; только разве угомонятся они, пока хоть капелька здоровья остается?
Ни с того ни с сего снова завыл Саргис. Лауринас поймал его и снова привязал.
Заладил дождь – редкий этим летом гость, поил истомившийся от жажды, что-то глухо бормочущий песчаный холм. Едва отступила живая, шепчущая стена, освободив место радуге, как в усадьбу въехала машина. «Скорая»? Нет, заляпанная грязью коричневая «Волга». За стеклами знакомые лица: дама, ее дочь, зять. Еще и вылезти не, успели, как выкатился клубок собак и ракетой устремился к конуре, туда, где, облипший грязью и соломой, жалобно повизгивал Саргис. Заспешила следом и бывшая хозяйка, оставляя на мокрой земле вмятины от острых каблучков.
– Уэльс, принц мой… Милый, дорогой, добрый! – Она прижимала песика к груди, захлебываясь словами и слезами. – Что с тобой сделали эти варвары!.. Полюбуйся, Иоганнес, вот они, твои единомышленники, любители природы! Хорошие люди, хорошие деревья. Чего только не наговорил, а глянь, глянь, что они… Собаку с таким происхождением, с такой родословной навозной веревкой душат!
– Веревка как веревка, просто землей измазана, – неожиданно сказал Иоганнес.
– Он еще будет издеваться! И кто? Бездомный щенок, которого приютили, одели, обласкали… Утонул бы в пивной бочке, если бы не мы, не я!
– Он же рисует для выставки, мама, – с некоторым опозданием вступилась дочь за мужа.
– Ничего ты ей не объяснишь. Не все понимают, что такое искусство, – сказал молодой человек, и его вдруг снова понесло, словно он и не покидал Лауринасова сада. Умытые дождем деревья мерцали и свежо шелестели. – Взгляните только, как поразительны эти зеленые существа! Жаль, сказать ничего не могут, но разве не говорят они каждой своей веточкой, каждым листочком? Не только с неба на землю, из земли в пространство льется сияние. Все прекрасное на земле не исчезает, сливается с солнечным светом, с фотонами – странниками бесконечности. И радости и неудачи… Все очищается в этом сиянии. Сияйте, как деревья, люди! Светите себе и другим!
– Бред неудачника! – выкрикнула теща.
– А я бы сказал, очень интересно.
Статкус не мог придумать, как защитить молодого человека, сосредоточенно слушал и растроганно-возвышенно думал: странное совпадение, слова другие, но мысли, как у Балюлиса в дороге, как у меня самого, когда не пожелал я согласиться с врачом, намекавшим на скорый конец. Конец? Какой конец? Вот и молодой человек говорит: свет не исчезает… и наши стремления, и неудачи, и радости, и разочарования… И саднящие раны, ошибки, провинности, надежды… Он и не заметил, что мысленно прибавил то, чего Иоганнес не говорил и не собирался говорить.
– Уж не наглотался ли каких таблеток? Хвалите, хвалите, еще не таких глупостей наслушаетесь! – Серебристые ноготки женщины рвали веревку с шеи песика, глаза сверлили то Статкуса, то дочь. – Скоро сменит он тебя на какую-нибудь любительницу природы, что тогда запоешь? Не смотри, что агнец божий… Не хнычь тогда. Если говорю, что веревка навозная, значит, навозная!
– Ах, мама, прошу тебя…
– Не проси ни о чем, пока не выясним, навозная или…
– Да… мама.
– Виктория, ну как ты можешь, Виктория?… – Иоганнес от волнения замолчал.
– Теперь я тебе, старик, кое-что скажу. – Важная дама выпрямилась на своих каблучках, выставила внушительный бюст. – Хоть ты и пыжишься, как лягушка перед быком, большим знатоком прикидываешься, но не умеешь благородное существо от дворняжки отличить. Посмел привязать Уэльса, как дворового пса! Врешь ты, что рысак у тебя был, что овчарку держал. Все врешь!
– Не слушайте ее. Она не знает, что говорит, – забормотал Иоганнес. – В вашей усадьбе надо говорить тихо. Как в зале филармонии, когда играют на скрипке. Нет, еще тише…
Внимание женщины снова привлек ее взъерошенный любимец.
– Господи, бедняжка промок под дождем! Стучит зубками! А что, если воспаление легких схватит? Домой, как можно скорее домой!
И пошла было с собачонкой на руках.
Лауринас стоял, сгорбившись, не произнося ни слова. Немало бурь пронеслось над головой у него, но тогда он был молод и Петронеле не болела. Как выстоять теперь, когда гостья почти права? Высмеяла, пристыдила… Какими глазами после этого смотреть ему на Петронеле? И за собачку душа болела. Успел привязаться.
– Послушайте, кто вам позволил обижать человека? Старого человека?
Так могла сказать только Елена.
– А вы кто такая? Чего вмешиваетесь? Это моя собственность! – полоснула ее глазами дама.








