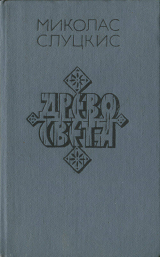
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Иди, чего же не идешь к папочке, букашка? – непривычно нежно учит за спиной отчим. – Поздоровайся вежливо, стишок почитай.
Йонялис юркнул было под колеса, но рука отчима возвращает его и треплет, чтобы не валял дурака.
– Отца родного стесняется. Где ж это видано, чтобы сын отца стеснялся? Ступай, букашка, к родителю! Не видишь, что ли, объятия раскрыл? – Отчим говорит громко, чтобы все слышали, особенно продавец вишен. И тот слышит. В руках дрожит жестяной литр.
Собрав все силы, Йонялис вновь хочет высвободиться, но клещи сами отпускают его. Насилия как не бывало, куда-то отодвигается базарная сумятица – ни людей, ни лошадей, – лишь бледное одутловатое лицо и горка вишен над полной кружкой. Придерживающая ягоды рука начинает дрожать, вишни сыплются в пыль, больше, чем высказанная и написанная правда, подтверждая: отец, родной отец!
– Чего тебе, мальчик? Чего? – давится, задыхается продавец вишен, словно его взнуздали.
Йонялис не отвечает, весь будто одеревенел, и язык отнялся, Ему жалко не себя, своей мечты – самого высокого дерева. Хуже всего, что его никогда и не было – взрастил из материнских намеков, поднял его голову выше других базарных голов. Жалко ему и человека, который, конечно же, его отец, но от страха – только бы не вышла наружу правда! – снова отказывается от сына. Все вишни рассыплет, если не перестанет дрожать рука, плечо, подбородок…
– Светопреставление! Отец сыночка не признал. Родной папаша – родного сына, бедную букашку. Горсть вишен пожалел, – грохочет молотом своего голоса отчим, уже не похожий на состарившегося подростка, почти одного роста со сжавшимся, сникшим продавцом. Разве не он, хотя и не было у него ни сивой лошади, ни вишен, приютил хозяйского байстрюка?
– На, держи! Кошелки нет? Вытаскивай рубашонку, насыплю! – Продавец зыркает в одну сторону, в другую, притягивает мальца к телеге и высыпает ему в подол рубахи почти полный литр. – Не рассыпь, лягушонок! Эй ты… – сразу же поворачивается к тому, кто заварил кашу. – В полицию захотел?
– Дешево собираешься откупиться, кобель! – Отчим не спеша снимает потрепанную соломенную шляпу. – Когда батрачку-то насиловал, полицию не звал, а? И когда брюхатую подыхать выгнал, не звал? Не обеднеешь, если еще кружечку зачерпнешь!
Шляпа полна до краев, отчим ухватил ее обеими руками-лемехами, и Йонялиса никто уже не сдерживает. Он отскакивает в сторону, ягоды с подола градом катятся в пыль. С минуту малец смотрит на вишни, как на гадких шевелящихся тварей, и принимается топтать их босыми ногами… Потом душащую его икоту будут слушать болотные кустарники, а заплаканное лицо отразится в черном зеркале ручья. Там его и найдет Сигита Баландене – мать Дануте и Елены…
Давно уже нет отчима, и родного отца очень давно нет, но поблескивающие на солнце вишни увели невесть куда, словно не истлела куча лет и никто не убил детской мечты. Статкус спохватывается, что в суматохе потерял Лауринаса.
В сторонке у ограды старый мерин, похожий на Каштана, лениво отмахиваясь от городских мух, жует сено. Тарахтит знакомый голосок, будто веселый топорик рассекает прутья на березовой чурке.
– Копаю, копаю ямы, одну, вторую, третью, а мне: зачахнут в песке, картошка и та у нас не всегда родится. Подождите, говорю, кто же корни в сухой пепел сует? Вношу, как следует, глину, навоз укладываю и тогда опускаю деревце… Будет расти? Не будет. Если сломаете – не будет… Бывало, и ломали, чтобы доказать свою правоту.
Покупатели качают головами, улыбаются.
– Темнота царила, – слышит Статкус не кого другого, Лауринаса. – А где темнота, там дерево не растет – осот да крапива. Моими саженцами, моими прививками вся деревня озеленилась, и мне же этим садом глаза кололи.
– Разве такого заколешь? Не пеший небось!
– Это оно конечно, не пеший. Нет лучшего автомобиля, чем старый мерин. Перевернешься, так хоть кости уцелеют!
Базар – озеро или, скорее, море. Накатит волна – что угодно продашь, хоть черную козу, схлынула – и кукуй; самых лучших, с дерева снятых яблок не всучишь. Лучше не попадаться Лауринасу на глаза, когда вокруг него пусто. Какой-то колхоз прямо с грузовика отмеряет ведрами. Ничего, подождем. И вот снова, окруженный людским роем, похрипывает голосок Лауринаса. Разве сравнишь его яблоки с колхозными? Не по-стариковски щедрая рука бросает в корзинку несколько яблок сверх веса. Теперь всем «с походом», а когда распродаст половину, скинет цену на треть. Так стоит ли удивляться, что все у него под угрюмые взгляды соседей идет как по маслу? Окружившие телегу женщины по-литовски и по-русски (до городка добрались дачники из Ленинграда) знай себе нахваливают бойкого старичка с румяными, как райские яблочки, щеками. Не остается в долгу и он.
– Спасибо, красавица, – бойко сыплет по-русски. – Откушаешь моих яблочек, другой раз на цыпочках прибежишь!
Всем нравится это его «на цыпочках». Хихикает и сам, шустрыми бусинками глаз провожая молоденькую ленинградку в джинсах. Изящная, что твоя скрипочка, симпатичная, улыбчивая и – гляньте! – стариком не погнушалась. Такой задаром отвесил бы, лишь бы поворковала еще, как голубка, однако не посмел задержать. Нет, был бы молодым, так просто не отпустил бы, нашел способ заговорить, обратить на себя внимание. Эх, где его лихие молодые годочки?!
Смотрит вслед покупательнице, позабыв о весах. Что-то напоминает ее плавная походка, чуть склоненная к правому плечу головка, да разве вспомнишь, что, где, когда было или привиделось? Тянется, чтобы еще раз взглянуть на нее, вертит головой, и она, будто ее позвали, оборачивается, поспешно прижимая к переносице темные солнечные очки. Его бросает в дрожь. Как та, как дамочка в вуалетке!
Пальцы, сжимающие яблоки, вздрагивают, будто по ним палкой ударили. Чуть не рассыпал товар, ведь он уже не продавец – всадник, который вот-вот выхватит из толпы рдеющую, словно Маков цвет, дамочку. Раз! Никто и пикнуть не успеет, это потом загудят люди, подхватит – и на коня! – молодую, пахнущую свежестью, такую упругую, что прямо-таки захрустит она в его объятиях. Не соображал тогда, что делают руки, что станут делать через минуту, ошалел, будто выбрался из душного вонючего колодца. Чистый воздух внезапно затвердел, ударил в ноздри и застрял в горле осколками стекла. Вроде все, как было, но во рту солоно от крови (потом, после всего спохватится, что прикусил язык!), однако уже не прикован больше к тяжелой деревянной сохе тестя, к своим деревьям, которые из года в год, надрываясь, таскал на холм, к преследующему его с непотребной руганью по беговой дорожке Стунджюсу, отравляющему сладость победы. Все, как было, но он уже другой, вольный поступать, как ему вздумается. Интересно, что сталось бы, пришпорь он тогда Жайбаса и ускачи с этой красоткой, пренебрегши восхищением и язвительностью зевак? А она? Визжала бы и пыталась выцарапать глаза? Впрочем, не бог весть какая важная барыня – кассирша из кино, с мужем и года не прожили, молодым помер. Может, сжав ногами мокрые, вздымающиеся лошадиные бока, и поныне скакал бы невесть в какой сторонке? И был бы счастливее?
– Взвешивай, отец, моя очередь!
– Мимо, мимо кладешь. На весы грузи!
Очнись, человече, ничего нет и не было, все истлело в невыразимой дали, если не померещилось. Из мухи слона делаешь, как покойная теща, разнюхивавшая каждый твой шаг: кто тебя взглядом зацепил, на кого ты сам глаз положил… Кошки и той сторонись – женского пола, ласково прижимается! Нет, после тех скачек выкинул он не просто шутку, хотя многие подумали: ишь, взыграл победитель! Если и шутил тогда, так с чего же после стольких-то лет уставился на эту, в джинсах? Ведь все готовы любезно поворковать, получив на «поход» лишнее яблочко. Хватит, хватит, взял себя в руки Лауринас, а то, гляди, яблоки твои вон уже из-под колес собирают. Впрочем, пусть их… Деревья тогда пожалел, зачахли бы там, на юру, ускачи он с этой красоткой. Теперь, когда зеленеют они весной, кутаются в белую фату цветения, красота невообразимая, Млечный Путь, на землю опустившийся.
– Заснул, Лауритис?
То ли суком, то ли цепом ткнули под локоть. Нет, рукой, но из одних мослов да жил.
– Чего вам?
– Как это чего? – Цеп принялся трепать его рукав. – Яблоками торгуешь, Лауритис, не огурцами. Вот и мне парочку покрупнее взвесь!
– Морта? Морта… Гельжинене?
– Спишь, Балюлис, средь бела дня на телеге! Знакомых не признаешь! Совсем постарел, скажу я тебе. Да еще как!
А сама вся трясется под коричневой, видать, никогда не снимаемой косынкой. Нос, оседланный маленькими круглыми очками, нависает над зияющим провалом беззубого рта. У очков вместо сломанной дужки – зеленая льняная тесемочка.
Аж отпрянул от придвинувшейся вплотную старухи. Призрак, привидение! Неужели это Морта просит взвесить ей два яблока? Морта, сочный рот которой сверкал ровными сахарными зубками? Морта, игравшая своей пышной длинной косой, как котенком или щенком в подоле? Да не может того быть! Но ведь больше никто не называл его Лауритисом – Морта, одно время заглядывавшаяся на муженька своей задушевной подружки, да сама Петронеле.
– Прошу прощения… Два яблока?
– Сколько могу съесть, столько и покупаю! И ты мне не указ, жадюга! – вдруг разъярилась старуха, вертя трясущейся, словно на палку наколотой головой. Из-под косынки выбилась косичка – облезлый мышиный хвостик. – Никому не запрещено покупать, сколько нужно, а он, видите ли, недоволен!
– Да на, бери, бери, Морта! Только не ругайся. Торговлю мне испортишь.
Торговлю? Он выхватывал из ящика скользкие восковые шары и совал их в полиэтиленовый пакет старухи. Бери, Морта! Ешь на здоровье, Морточка, чего там скрывать, было ведь времечко, когда поглядывала ты на меня… А как ничего не вышло, то и нашептала Петронеле, дескать, городскую потаскушку на лошади катал, вином из бутылки поил, а люди видели и смеялись… Шептала не шептала – разве это важно, когда… два яблока просит?
У Балюлиса дрожали руки и прыгал подбородок, будто с самой смертушкой столкнулся. Ох, придет час, заявится та гостья… Неужели и тогда в кусты полезешь, Лауринас? Подумав так, пришел наконец в себя.
– Весы поломались, Морта, но тебе, тебе – ото всей души! – засмеялся подрагивающим еще, но уже своим смехом. – Не бойся, денег не возьму.
– Сам ты сломался, не весы! Пакетик, гляди, своими граблями порвал! Такой хороший, удобный пакетик. А подачки мне не надо. Я пензию получаю, найду чем заплатить за несколько червивых яблок! – скрипела Морта Гельжинене, роясь в складках юбки вроде бы с намерением вытащить оттуда кошелек.
– Успокойся. Не жадюга я, не возьму. И чего это ты такое надумала, Морта… Морточка?
– Скупердяй, скряга! Знаю я тебя: кладешь-швыряешь, а сам от жадности обмираешь!
Морта снова сунулась было к нему, еще что-то добавить хотела – передумала или забыла. Усмехнулась и задом, задом – чтобы мог лучше рассмотреть? – растворилась в толпе.
Что же это такое? Один за другим навещают его призраки, да не в полночь, а когда сияют на солнышке ящики желтых яблок, открытые мешки с зелеными огурцами, когда весело гомонит базар. Морта, господи помилуй! Куда же девалась ее красота, скажите, люди добрые? На всю волость славилась – плясунья, певунья. Шляхтич из-за нее вешался, в последний момент из петли вынули, а она на несчастного и не глянула. От прекрасной молодости, от толстенной косы мышиный хвостик остался? Что же тогда красота – обман, дым? Цветок еще более хрупкий, чем цветок вишни? Вдруг бы не Морта Гельжинене подкралась, не она два яблочка попросила, та – Маков цвет, что на спину Жайбасу поднял? Ведь в тех же летах, если жива еще. Может, на годок-два помоложе… Руки, рот, нос – как у этой?! Быть такого не может. Может, может, жадюга! Помнишь, как саму Морту в первый раз увидел? Остолбенел, «здрасте» выговорить не смог… Что, и от красотки тоже поспешил бы откупиться парочкой яблок? Стукнуло в голову, сверкнуло в глазах, радугой выгнулся мосток между страшной Мортой и той, другой, которую никогда не осмелился и по имени-то назвать, потому что ее вроде как бы и не было. Нет, быть-то, конечно, была, но не так, как Петронеле с ее бело-розовой краской стыдливости. Зарделась, когда отрывал от земли, когда подковы Жайбаса превращались в нежные плавники быстрой рыбы или в птичьи крылья… Странное дело, всю жизнь ее и себя представлял он только едущими, вернее – скачущими или кружащимися в вальсе. Бредущую пешком, со взмокшими от жары волосами, облупливающую яичко возле стога сена – нет, ни за что на свете! Трезво, как поднявшийся с земли наездник, понимал: не выпусти из объятий ту дамочку, сразу потерял бы Жайбаса. А потом, что было бы потом? Деньги деньгами, главное – не горстка литов, которые кончились бы до того, как они очухались. Хотите все начистоту, положив руку на сердце? Другое его удержало – не его собственное будущее отчаяние, когда придется ошарашенно стоять, не зная, куда податься с мокрой еще от конского пота уздой в руках, а сам Жайбас будет уже грызть новенькие, чужой рукой сунутые удила и разбрызгивать кровавую слюну… От бегства с красоткой удержало то, о чем, стиснув в объятиях чужую женщину, он меньше всего тогда думал: страшащийся всего нового дом под замшелой крышей, соскучившиеся по отцовскому колену, потихоньку настраиваемые против него детишки – любил потетешкать тепленьких, едва со сна, – отдавшая ему чистоту своего затянувшегося девичества и не бог весть что получившая взамен Петронеле… Он и не думал, что уже так глубоко пустил корни в немилый его сердцу песчаный холм, обдуваемый всеми ветрами.
– Подберите мне яблок покрасивее, уважаемый!
– У меня все как на подбор, а уж для такой покупательницы не пожалею.
– Спасибо, спасибо, господин хозяин!
Такой разговор – не Мортина болтовня. Давно не обращались так к Балюлису – господин хозяин, – как маслом помазали. И он пустился рассказывать о своем саде – полсотни плодовых деревьев, кустов не счесть! – и, выбирая самые крупные яблоки, укладывал их на весы по одному, словно яйца.
– У такого умельца садовода и покупать приятно! – нахваливала покупательница с высокой, гладкой, как шлем, прической, и Лауринас вовсю старался угодить важной даме. В ранней юности встречал такую, не по-господски вырядившуюся прислугу, не дамочку – даму! – и вот снова… Та – жена командира уланов, госпожа полковница – прибывала на плац в открытом автомобильчике, эту ждала коричневая «Волга». Вкусно запахло, словно кто-то принес и поставил – не для продажи, для украшения – крупный цветок не наших мест. От волны духов у Балюлиса закружилась голова. Хотел выдать красавице даже комплимент, не осмелился, опустил глаза и увидел шныряющего у ее ног песика. Хорошо еще, что не крикнул: «А ну, пошел прочь!» – как вертелось на языке, потому что этого щенка, не похожего на приличную собаку, держала на поводке сама дама.
– Ваш? – не утерпел Лауринас. – Ваш кобелек?
– Это вы про собаку? – Покупательница придирчиво ощупывала яблоки, одно, с пятнышком, вернула обратно.
– Красивая, очень красивая собачка! – более горячо, чем намеревался, похвалил Балюлис, исправляя ошибку. Вместо забракованного дамой выбрал два больших, восковых. Цветастая сумка удовлетворенно захлопнулась. Щелкнула зубами и собака. Балюлис смекнул, что лохмач не из простых.
– Нравится? – спросила женщина звонким, не переоценивающим похвал голосом.
– Эта? – Балюлис мгновение поколебался, потому что собака зло заворчала на его выставленный палец. Кабы не намордник, то, гляди, и цапнула бы. – Нравится, еще бы!
– Приятно, когда хорошо отзываются о настоящей породистой собаке, но я, простите, не убеждена, что вы говорите серьезно. Не обижайтесь на мою откровенность, господин хозяин!
Женщина гордо выгнула шею, но ни один волосок шлема не дрогнул, зазвенели только низко свисающие серебряные серьги, и снова что-то – уж не радостное ли предвкушение перемен? – пронзило Лауринаса. Всю жизнь смущали его женщины, волновали их хитроумные приманки. Вот и Маков цвет поначалу не чем иным его привлекла – опущенной на глаза сеточкой с черными мушками… До того увидел он ее с открытым лицом и преспокойно прошел мимо. Что красивая, спору нет, однако бархатные, ласково улыбающиеся глаза невелики, а ноздри даже нагловато вывернуты. Не одна такая болтается по городку в праздничный день. Но вот – хлоп! – опустилась на лицо сеточка, и не только лицо – вся стать ее изменилась, женщина превратилась в тайну, сделалась соблазном и, не сходя с места, воспарила, а вместе с ней и толпа зевак, и городские крыши, и вся голубая необъятная пустыня над ними.
– Стар я глупости-то болтать, уважаемая. Или стоящих собак не видывал?
От духов, источаемых ее прической, от нахлынувших воспоминаний, от шума и гама вокруг телеги у Балюлиса мелькало и двоилось в глазах. Должно было произойти и уже происходило что-то непредвиденное, о чем утром, выезжая из дому, и не помышлял.
– Прекрасная собака! Породистая. С паспортом. Достойнейшая родословная!.. – Вальяжная покупательница словно керосину плеснула в огонь, который и так уже вовсю трещал и приятно согревал. – Тубо, Негус! Негусом его звать. Жесткошерстый фокстерьер. Вам знакома эта порода?
– Я, уважаемая, сам хороших лошадей и хороших собак держал, – выкарабкивался из сложного положения Балюлис, не любивший признаваться, что чего-то не знает.
– Привязчивый. Верный. Рыцарь, не пес! – как жениха, нахваливала хозяйка собачонку, нюхавшую то тележное колесо, то лошадиное копыто.
– Как же. Видно, что серьезная собачка. Не ластится, не дворняга.
Негусу надоела лошадь, он принялся за ногу Балюлиса. Яростно обнюхивал – вот-вот цапнет.
– Прекрасно! Значит, знаток, разбираетесь в породистых животных. Прекрасно!
– Да, не отказался бы завести такую. Уж мне такая бы сгодилась! – вырвалось у Лауринаса, опасливо поджавшего ногу, но раскрасневшегося от комплиментов дамы, от льстящих самолюбию взглядов покупателей.
– Не часто встретишь такого интеллигентного человека. Крестьянин, а торгует честно, никого не обманывает. Такой и собаку не станет обижать. Однако не сердитесь, уважаемый, но Негуса я ни за какие деньги не продала бы! – Унизанная серебряными кольцами и браслетами рука скользнула над собачьей головой. Не опустившись на рыкнувшую морду, нырнула в ящик, словно делая одолжение, покопалась там и извлекла краснощекое яблоко. – Медали у нас, правда, дома остались. Таллинские и вильнюсские медали. Подождите, что собиралась я вам сказать? Ах, да! Если уж очень попросите, могу предложить младшего братца моего Негуса Уэльса. Назван в честь принца Уэльского.
– Не откажусь! – Балюлису некуда было отступать. Пусть неласковая собака, но благородных кровей. В колхозе, да что там, во всей округе другой такой не сыщешь.
– Полсотни для вас, полагаю, не будет слишком накладно? – Покупательница незаметно превратилась в продавца.
– Мне? Мне подойдет!
– Ну и прекрасно! Другого ответа от знатока я и не ждала! – Одна ее рука крепко держала рвущегося куда-то пса, другая на прощание помахала перед носом Лауринаса. – Скажите, где ваша усадьба, и я сама доставлю Уэльса. Не волнуйтесь, зять водит машину. Мы отдыхаем на озере Бальгис.
– Красивое место.
– Озерцо-то маленькое, но глубокое.
– Говорят, там давеча щуку поймали – с бревно!
В очереди так живо заговорили о Бальгисе, что лоб разгоряченного Лауринаса опахнуло влажной прохладой. Зажмуришься и увидишь голубую круглую чашу озера. Как-то раз, когда дети еще не пищали, возил туда Петронеле купаться. Хотя и ворчал, она не преминула сунуть на телегу бачок с грязным бельем. В воду вошла прямо в нижнем белье, плескалась в камышах – так и не удалось уговорить ее сбросить рубашку и сплавать на островок. Тогда он злился, отфыркиваясь сквозь мокрые усы, но после, когда вспоминал об этом купании, словно чья-то добрая рука поглаживала сердце. Сердилась и Петронеле: зачем хватает за мокрую рубаху, прилипшую к груди и животу? Но смеялась и небольно шлепала по рукам. Это потом разбухнет, как тесто на дрожжах, а тогда, когда вырывал у нее зажатый коленками мокрый подол рубахи, все в ней было как надо – ни убавить, ни прибавить, а уж стыдливости… Пятнадцатилетние Меньше стеснялись. Эх, пронеслись молодые денечки, как поднятая ветром волна на Бальгисе, пронеслись, теперь не угодишь своей старухе, хоть в теплую шерсть ее укутывай. Потому и накричишь иногда, и обзовешь, а ведь неплохая жена-то, со своего двора ни шагу, слухов не собирает, сплетен не распускает. Орет, правда, целые дни, швыряет слова, будто каменья, но как иначе пробиться ей сквозь выросшую меж ними стеклянную стену? И все толще эта стена, льдом обрастает. Но нельзя же так!.. Живую тварь топить погнала. Жалкий, вздрагивающий комочек. Щенка. Свиней сам не колол – резника звал, а тут… Нет уж, теперь хоть ты из кожи вон лезь, Петроне, не бывать по-твоему. Решил, что будет на дворе собака, и сделаю! Фокс… Как его? Фокстерьер! Что с того, что не ласковый? Вы как хотите, а мне в самый раз!
Выбрав из карманов мятые бумажки, расправив их и ссыпав в кошелек мелочь, Балюлис поглубже засунул его и принялся запрягать соскучившуюся по дому лошадь. И самому не терпелось уже поскорее воротиться – путь-то не близкий, но вспомнились охи и ахи Петронеле. Крупа ли кончилась, сахар ли, попробуй теперь угадай. Только соберется она наказать, что, мол, купить, ты рукой машешь, она в крик, и – оба такие – невозможно сговориться. Нет, нехорошо, нехорошо! Он уже раскаивался, молча пообещав себе не затыкать больше уши. Не припомнив, в чем дома особая нужда, решил прикупить соли, мыла, ну и булок. Сколько этого добра ни покупай, слишком много не будет, и жена, глядишь, ругаться не станет.
Соль и мыло купил быстро, с булками пришлось обождать – продавец товар принимал. На базар-то всегда весело ехать, с базара грустно. Клочки сена, втоптанная в пыль детская лента, раздавленная лошадиным копытом груша… Только-то и остается от веселой разноголосицы, от жажды купить, продать, от необъятных человеческих страстей?
Весь день висевшее в небе солнце словно провалилось куда-то. И как-то вдруг, будто в бездонную топь, не сверкнув привычными для глаза, постепенно приучающими к темноте и неизвестности вечерними сполохами. Начало вроде бы тлеть, да не разгорелось, и западный край неба тут же принял цвет торфяного болота. От этого сразу посерели и воздух, и лошадь в оглоблях. И как-то странно все провалилось в ту же топь: хорошо, видна собственная рука, взмахивающая кнутом, но самого кнута уже не видишь. Уже не Каштан, а давняя гнедая кобылка – да, да, гнедая! – заставила колеса лихо тарахтеть по булыжнику. Постепенно привык к темноте, угадывал, где колея, а где канава, где какой-то сгорбившийся хлев, а где не засветившая еще огонька, берегущая керосин изба, но глаза все равно смотрели на мир словно сквозь закопченное, странно искажающее расстояния стекло. Остались позади лачуги городка, ободранные и унылые, беднее, чем деревенские избы, те хоть садиками окружены, кустами жасмина и сирени, запахами своими заговаривают с путником даже в темноте. Вдруг гнедая заржала, будто была не самой обыкновенной лошадкой, а незабываемым Жайбасом, и выворотила телегу из колеи, едва удержали ее на краю кювета опытные руки Балюлиса.
Навстречу из-за холма выползали, визгливо скрипя несмазанными колесами, чем-то тяжелым и неудобным груженные пароконные дроги. Камни, что ли, везут? Вынырнули из тумана еще одни, а следом, под холмом тянулись третьи. С обеих сторон обоза шагали, покачиваясь, люди в полувоенной форме, неразговорчивые, почерневшие, кое у кого забинтованы головы или руки. Потянуло тошнотно-сладким смрадом, перебившим запах лошадей, сена, дыма, заглушившим аромат сохнущего по обочинам дороги клевера. Целое поле свежескошенного клевера было бессильно перед этим смрадом. И приходилось дышать им, хоть и подкатывала тошнота.
Неспокойные лошади дернули последний воз, чуть не зацепив телегу Балюлиса. Дышло мелькнуло у самого лица, сорвало завесу, сквозь которую все виделось, будто через мутное, размывающее четкость стекло. И Балюлис увидел распростертого на возу человека, его свисающую ногу и… Что это? Галифе из домотканого сукна? Слегка удивился, что штаны очень похожи на его собственные, давно пошитые, но почти не ношенные. Уж не те ли галифе, что отобрали у него, когда прыгнул и больше не поднялся Волк? Конечно, мог и ошибиться – мало ли таких? – но эту шерсть ткала Петроне… И пестрые завязки возле щиколоток, и офицерский покрой – крылья галифе не слишком широкие, но и не зауженные… Теперь они на мертвом. Его он тоже признал по выбившейся из-под попоны лохматой голове. Увидел рассекающие воздух копыта тракена, его уши торчком, но не услыхал ни сиплой ругани соперника, ни натужного дыхания рысака. Стунджюс! Тут подскочил высокий мужик с повязкой на глазу, прикрыл голову попоной.
Обоз тянулся из затаившейся под темной тучей Шимонской рощи. На базаре-то был шепоток: немало там и тех, и других полегло… Балюлис почувствовал, что сейчас выпадет из телеги, вцепился в вожжи и едва удержался. Высокий с повязкой на глазу погрозил кулаком:
– Езжай, езжай, дядя, нечего тебе тут разнюхивать. Езжай!
Балюлис хлестнул гнедую, та рванулась в канаву, попробуй теперь выбраться. Колесо встречной подводы ткнулось в камень, и возле обтянутых домоткаными галифе ног Стунджюса приоткрылась еще чья-то голова. Распухшая, пожелтевшая, но узнаваемая. Он и Стунджюсу такого конца не желал, а тут… Акмонас! Приятель, вместе в скачках участвовали. Его-то за что, господи? Не по своей же воле… Букашку, бывало, не раздавит, что уж о человеке говорить. За что? А ведь могла и моя головушка мотаться на этих дрогах. Спасибо Петронеле, а то не знаю, как избежал бы Голгофы. Скандалила, проклинала ту винтовку, как злого духа!
Балюлис перекрестился, поперхнулся воздухом. Телегу тащила не гнедая – ее, ленивой и медлительной, уже давно не было, – тянул ее доходяга Каштан, вздыхающий, словно старец. От грузовиков гудела долина, накрытая светлым, мирным небом, никакой тебе ржавчины и мути, хоть вечер уже действительно подкрадывался. И уехал-то Балюлис еще не слишком далеко – по сторонам тянулись белые садовые домики пригорода. Так почему же не отступает мрачное предчувствие, что вот-вот снова провалишься куда-то вместе с лошадью, снова выползут из-за холма жуткие дроги и станут скрипеть немазаными колесами? Многие годы трясется он по этому большаку – ни разу те возы не преграждали больше ему дорогу. Что же случилось? Устал на базаре, яблоки свои развешивая? Ах, скорее бы послышалось ворчание Петронеле! Без него жизнь, как костел без колоколов.
Однако до дому еще не один поворот дороги. По-кошачьи ластится дремота, размякают в руках вожжи – Не засни в телеге! Машины на дороге. Слышишь? Теперь легче бороться со сном, принимаешься гадать, какая муха укусит Петроне нынче вечером, хотя почти радуешься, что дышишь просторами полей, не чувствуя себя должником за минуту передышки. И еще хорошо, что жильца прихватил. Тихий, не обременительный, такому все рассказать можно, не засмеет, что заснул.
– Я-то думаю, что это хозяин мой воды в рот набрал. А оно вот что… – прошелестел Статкус под тихое постукивание колес.
– Вы, городские, таких страхов небось и не видывали, – подытожил свой рассказ Балюлис.
– Где уж! – Статкус поспешил отвернуть побледневшее лицо.
Ощетинившийся, почерневший бугорок на продуваемой всеми ветрами темной улице. Ни отблеска печного огня в предполагаемом оконном проеме, ни искорки сигареты у той предполагаемой печки… Переводы слал издалека, мать похоронили без него, как и отчима, без ее забот недолго протянувшего. Нежно любя мать, Статкус привык осуждать отчима и потому теперь в смятении прислушивался, как дребезжит осколок стекла в оконной раме. Пропала бы несчастная девочка, твоя мать, ежели бы не тот, кто без особой охоты назвался отчимом. Лучше поздно понять горькую правду, чем никогда. Впрочем, что от этого изменится? Ногой задел за кол, почему-то нагнулся и вытащил из земли. Гм, гладко обтесанный… Все, что остается от усилий человека построить себе хоромы.
– Смотрите, какой храбрец выискался! Думаешь, никто тебя не видит? Брось палку, как бы «ночным» ружье не померещилось!
Статкус отпрянул от тени, еще крепче сжал кол.
– Ишь какой! – не переставал удивляться голос, похожий на голос Елены, шинель ощупывали цепкие, нетерпеливые руки. – Гляди-ка, в ремнях, с золотыми погонами? Ну, смельчак! Глупый, скажу я тебе, смельчак.
– Ты что это, Дануте, одна по ночам шастаешь?
– Кармела я, Кармела! Дануте тут от страху умерла бы. Тебя, глупого героя, встречают, а ты… Вырядился как на парад!
– Трое суток законного отпуска. Еле втиснулся в переполненный вагон. Что у вас новенького? Ты-то как поживаешь?
Мужской пиджак из толстого сукна, скорее всего, отцовский, сапоги, но губы накрашены. Огнем горят большие сочные губы.
– Прекрасно, прекрасно поживаю! Ты вот что скажи: наган у тебя есть? – шепчут эти пахнущие помадой губы у самых его губ.
– Зачем мне оружие? Ворон на костельном дворе стрелять?
– Нет, ты не просто глупый смельчак. – Губы Кармелы презрительно кривятся. – Ты полоумный.
– Уймись, Кармела!
– Советую не орать. Знаешь, что тут неделю назад творилось? Настоящий бой. Трассирующие пули прошивали темноту, как в кино.
– У вас что, эта чертовщина…, еще не кончилась? Газеты пишут: мирный труд…
– Напишут, что на снегу зимой грибы выросли, поверишь?
– И все-таки?…
– Что все-таки? С болота пулемет, от молокозавода автоматы…
У Статкуса зазвенело в голове, словно треск пулеметов и автоматов снова разорвал тишину. Нет, она не выдумывает, и страшно спросить, кто погиб.
– Вот и сбила спесь со своего смельчака! – Дануте провела рукой по его небритой с дороги щеке, и от этого прикосновения повеяло лаской, какой никогда его не удосуживала. – Не бойся, никто не погиб. У одного лошадь убили, власти ему другую дали. Банька у реки сгорела…
– Значит, только перепугались все?
– А чего бояться аптекарю? – искренне удивилась она. – Лекарства всем нужны.
– Пуля-то дура… – он подумал о Елене, маленьком Олененке, и почувствовал себя так, словно отсиживался где-то, как трус. Над их головами свистели пули, а он где-то под Мурманском, освобожденный от строевых учений в энском подразделении, малевал плакаты к Октябрьским праздникам.
– Отец нас в подвал загнал и запер. Но мы в окошко вылезли. Сначала я не боялась. Похоже на грозу, гремит, грохочет. Потом эта лошадь… Ввалилась прямо в наш огород, дико ржет, волочит за собой кишки. Вожжи и кишки. Ничего страшнее видеть не доводилось. Тут меня словно пришибло: а что, ежели и мой живот взрежут пули? Господи, неужто допустишь такое? Не жила еще, не любила! Твоего Мурманска не видела, ведь там северное сияние, правда? «Отче наш» наизусть не знаю, но молилась. Не так, как в костеле, своими словами. Тебя призывала… Не вру, Йонас!








