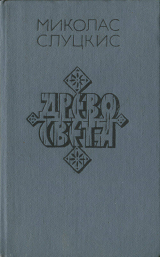
Текст книги "Древо света"
Автор книги: Миколас Слуцкис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Черные бугорки крыш все реже. Голое поле и островерхий холм. Еще чернее, чем поле. Холм?
– Куда это ты меня привела?
Догадывается, даже знает, но ждет: выползет кто-то из темноты и шепнет, где они очутились. Может, Елена? Таится в темноте, не решаясь приблизиться?
Мельница… Как мог забыть?… Почему онемела? В ветреный день издали всегда слышался ее непрекращающийся шорох. Казалось, орудуют тут уже не человек и природа – сверхъестественные силы. Елена любила бегать сюда. Неземной шорох послушать. Голос вечности. От него перехватывало дыхание…
– Боишься, смельчак? – Кармеле тоже неуютно.
Он мрачно молчит, чего-то ожидая.
– Елена не придет. Видела во сне, что ты явишься, но не придет. Мне первенство, я старшая!
От ее глупого смеха становится легче. Статкус позволяет затащить себя в пещеру, которую не могут осветить ломающиеся, быстро гаснущие спички. Стены в пятнах плесени, на балках борода паутины, ступени выломаны… Слышно, как вверху, откуда засыпали зерно, а может, еще выше, под дырявым гонтом крыши, скребутся птицы. Наверно, голуби. У стены охапка соломы, прикрытая клетчатым покрывалом. Видимо, кто-то жил.
– Тахты, как видишь, нет.
Они опускаются на гнилую солому, Кармела утыкается в грудь Статкусу и начинает – он этого совершенно не ждал от нее! – рыдать.
– Наврала я тебе, чтобы не сбежал от испуга. Ведь тогда… не только лошадь…
– Ятулиса? Да? – почему-то вырывается у Статкуса. В его вопросе утверждение. Голос не сомневается в этом ужасе.
– Противный он был, Ятулис. Задира! Но такого молодого – в землю? Перестреляют парни друг друга, одни старики останутся дряхлеть…
Слезы падают на руки Статкусу, жгут огнем, но он благодарен ей за нескрываемую боль. Ах, если было бы светло и она могла увидеть себя в его глазах?
Кармела отряхивается, вытирает со щек слезы и вытаскивает из кармана пиджака бутылку. Зубами выдергивает бумажную пробку.
– Ха, офицер. Может, самогона не пробовал? – и отталкивает его руку. – Давай пить, пока живы! – она отхлебывает.
– Хватит! – Йонас выдирает бутылку из цепких рук Кармелы. Еле удерживается, чтобы не грохнуть о жернов, о расколотый, давно уже забывший запах зерна жернов. В парне вспыхивают противоборствующие желания – крепко врезать по бесстыдным губам и нежно, кончиками пальцев прикоснуться к ним, жарким и влажным. И еще чувствует он, как накатывает ощущение вины, о которой он было запамятовал, опьяненный близостью девушки. Тебя не было рядом, не было… когда она, бедняжка…
– Не лезет? Колбасы пожуй! – истончился до визга смех, и, словно не испытывала только что смертной муки, перед ним наглая, распущенная девка. – Ну, чего тебе хотелось бы, а, герой? А может, не герой? Пай-мальчик? Скажи, мальчик, не стесняйся!
Статкус молчит. И тоже пьянеет. Не от самогона. От дурацкого, визгливого, волнующего смеха, который хочется оборвать, всем телом навалившись на это кривляющееся существо.
– Так-таки ничего не хочешь? Значит, слишком мало принял! – Ее ватная, утратившая четкость движений рука ищет в соломе бутылку.
– Ах, ты так… так? Хочу! К груди твоей прикоснуться хочу!
Кармела настораживается, хотя и продолжает шарить по соломе. Настораживается и он, удивленный, ошеломленный. Его юношескую мечту – прикоснуться к ее груди! – произносит хриплый, похотливый голос? Что с того, что это его собственный голос? Неужели он, Йонялис Статкус, стоявший этим вечером у останков родного крова, посмеет шагнуть вслед за этим предательским, гнусно издевающимся над ним голосом?
– Чего же ждешь? Лапай!
И снова хохот. Кармела сама потрясена собственным вызовом. Дать ей и себе глоток чистого воздуха, мгновение для раздумья!.. Посмеешь протянуть руку и – вспыхнет воздух, обнажит твое побледневшее лицо, хищные лапы, которые в эту минуту принадлежат тебе и не тебе – грубому, истосковавшемуся по женщине самцу.
– А ты не рассердишься? – безнадежно пытается выяснить он. Прикоснуться к ее груди мечтал не как вор – как любящий рыцарь, и не в подозрительной темноте, отдающей гнилым сеном. – Скажи… хоть немножко меня… любишь?
– Много хочешь! – швыряет она, словно пригоршню пыли с жерновов, и ему кажется, что сейчас они провалятся куда-то сквозь усеянный соломенной трухой пол. – Тебя люби… лейтенанта люби… Ятулиса, вечная ему память, люби…
– И Ятулиса тоже?
Кармела взбалтывает найденную бутылку.
– Ты же не заберешь меня. Сбежишь в свое офицерское училище, и прости-прощай. А тут тоска, страх и ужас… Лейтенанта во второй раз контузило, уехал к женушке в Саратов. Ну а Ятулис? Свой, одноклассник. Но даже его больше нет…
– А я?
– Заткнись! Тебе-то я ничего не должна! Тоже мне, спаситель выискался! Я на такого и не глянула бы! – Кармела пинком отбрасывает пустую бутылку. – Просто жалко стало. Стоял у родительской развалюхи, как над могилой. Утешу, думаю, согрею, а он, вишь, за чем прикатил! Груди моей коснуться и… что – умереть? О таком мечтают не мужчины – сопляки. В казармах-то что делаешь?
– По большей части плакаты рисую, портреты.
– Вот оно и видно!
– Послушай, Дануте! – Йонас Статкус вскакивает, подброшенный не обидными, причиняющими боль словами, а внезапно промелькнувшей, пусть основательно поблекшей, но все еще узнаваемой картиной: взявшись за руки, они летят над полями, а в ушах свистит вольный ветер. Он спасет ее, а заодно осколки своей мечты. Его долг вывести несчастную девочку из мрака. – Я собираюсь увольняться из армии. Художником не стал, возьмусь за архитектуру. Буду работать и учиться. Поехали со мной, а?
– Дануте тут нет. С кем говоришь? С местечковой шлюхой, порасспрашивай-ка баб! Жерновом на шее стала бы я для твоей архитектуры. Сам не хуже меня понимаешь, но стараешься быть добреньким… Ух, ненавижу добреньких! У нас есть часок, пока не приведет сюда своего кавалера другая шлюха… Если очухался и не станешь больше болтать ерунды, можешь обнять покреп-че, как говоришь, прикоснуться к моей груди… – И она вновь рассмеялась не по-девичьи грубым хохотом.
– Ах, Дануте, милая Дануте…
– Фу! Надоел ты мне. – Она скатилась с соломы на грязный пол. – Смотри не проболтайся Елене!
Елена. Сестра. Верная подружка… Не встретиться бы с ней…
– Ухожу. Обещал тут к одному товарищу заскочить. И пора спешить в часть.
– Кто бы мог подумать, что погоны нацепишь? Ты же к звездам тянулся.
– Я и сам меньше всего такое предполагал. Вылетел из института – армия. Вот и решил: уж лучше офицерское училище, глядишь, научусь кое-чему, закалюсь. Зато теперь знаю, чего хочу.
– Оно и видно, что знаешь. – Дануте не удержалась, чтобы вновь не уколоть. – Беги, спеши. Ты всегда вовремя смываешься…
– Если тебе что-то понадобится… Защита… или деньги… Считаю своим долгом…
– Придержи для собственных нужд! Тошнит меня от твоего долга. Вместо человека долг, вместо совести, справедливости, жалости долг… вместо…
– Будь здорова. – Статкус одернул шинель.
– Счастливого пути! Э! – Его догнал шепот, оттаявший, теплый. – Забыла поблагодарить тебя.
– Меня? За что?
– За то, что ты мечтал прикоснуться к моей груди. Многие прикасались, но таких слов никто не говорил.
Он едва удержался на ногах, удаляясь от черного остова мельницы, и никак не мог выбраться на нужную дорогу. Впереди ждали нищенские домишки местечка, станция и, возможно, избавление от кошмара. Сон, кошмарный сон! Такими жестокими могут быть к человеку только его родные места. Он бессознательно надеялся, что кто-нибудь догонит его – пеший или в телеге – и можно будет спросить про дорогу.
– Нету ли… закурить? – От плотной черной глыбы, возможно, от купы густого кустарника или стены баньки отделилась тень. Хриплое дыхание, смрад промокшей овчины…
– Есть. Пожалуйста.
Уткнувшиеся одна в другую сигареты высветили обросшее, нестарое еще, где-то виденное лицо. И пуговицы его, Статкуса, офицерской шинели.
Ни тебе спасибо, ни прощай, лицо, сверкнувшее узкими глазами, отпрянуло. До Йонаса донеслись удаляющиеся шаги, журчание воды, и он понял, что сделал большой крюк, сейчас должен вынырнуть мостик. Почему-то забыл спросить дорогу. Захотелось очутиться уже на том берегу речки, на ровном поле.
Не успело забыться неприятное ощущение – жесткие холодные ногти выцарапывают из пачки сигарету, – как его ударило сзади. Не кулаком и не твердым предметом, отразить который он подсознательно был готов, – горячей пулей.
Мир взорвался пламенем, и его высоко, как щепку, подбросило вверх.
Сознание помутилось, и Статкус почувствовал, что лежит на досках. Руки не то бывшего соседа, не то бывшего одноклассника шарили по шинели.
– Куда же он пистолет девал… офицер чертов?
– Ну-ка, пусти… я!
Теперь шинель трепали другие, более упрямые руки.
– Ах ты, дьявол… Безоружного убили! – взвизгнул голос, тоже показавшийся знакомым, как и острое поблескивание узких глаз.
Темнота догнала, когда они взбирались на холм. Лошадь едва держалась в оглоблях, выбилась из сил, понукай не понукай, все едино. Наконец в полном мраке телега нырнула в тень ольшаника. Каштан тянул из последнего, Статкус подталкивал сзади. Холм утонул в тумане, и упряжь упала с лошади, будто сползла в какую-то черную воду. Распряженный Каштан совал длинную шею под ветви яблонь и, словно колом, сбивая спелые плоды, хрумкал ими. Вот Лауринас снова дома, вроде и не было соблазнов дороги, когда чувствуешь себя частичкой не только этого островка, но и бескрайних ширей, и ушедшего времени.
– Сколько выручил-то?
– Двадцать семь с копейками.
– Копейками хвалится. Это за четыре-то ящика?
– Сгнили бы – больше пользы было?
– Эх! – Петронеле презрительно махнула рукой, однако была довольна. Даже не стала ругаться, когда услышала, что собачонку на базаре торговал. Муж снова дома, и она сможет очертить усадьбу кругом. Кругом, которого нельзя переступить, который охраняет их спокойствие и саму жизнь. Собираясь спать, всегда мысленно проходит вокруг хутора по этой черте. С молодости привыкла, когда Лауринас срывался, невесть где пропадал, а она тревожилась. Когда никто не видал, даже рисовала концом палки этот круг. Обводила усадьбу и часть близлежащего пространства. Не раз и не два оставались от ее круга одни ошметки, но она чертила его заново, внимательно уставившись па конец палки, словно там сосредоточивались остаток ее слуха и биение ее сердца…
– Чего не идете спать, хозяйка? Ведь шатает вас от усталости, – подкралась в темноте Елена, когда Петронеле колдовала посреди двора.
– Последняя, самая последняя моя забота.
– Вернулись живы-здоровы, все дома, чего же вам не хватает? Кухоньку я закрыла.
– Много будешь знать, скоро… Ступайте-ка к себе! – в шутку погнала ее Петронеле. За день женщины еще лучше спелись.
– Пошли, не будем ей мешать. – Елена взяла Статкуса под руку.
День растянулся, кажется, целый год врозь прожили, придется учиться снова быть вместе. По-молодому прохладный, крепкий локоть Елены. Неужели мы никогда не ходили под руку, мелькнуло в голове Статкуса.
– Что, молится старушка? – Лучше говорить о других.
– Угадай!
Она смотрела на него, как в юности, широко раскрытыми, завораживающими глазами, он даже оглянулся – не стоит ли рядом кто-то другой, более достойный ее внимания. Ты есть, и нет для меня ничего важнее, ничего нужнее – вот что старался внушить взгляд Елены, пока готовил он для нее уголок в своей жизни, сражаясь с воспоминаниями о ее сестре, а освободившись от них, забыл предложить ей Данутино место. В юности она видела во мне другого – лучше, справедливее. И я хотел таким быть и бывал, скорее всего, тогда, когда нуждался в ее молчаливой, терпеливой требовательности. Потому и женился на ней, а не от убеждения, что, не сумев спасти Кармелу, обязан спасти Елену – вырвать ее из агонизирующего местечка, из затянувшегося девичества. А ведь именно так тогда думал – спасаю! – хотя спасался сам, двадцатисемилетняя Елена мало чем отличалась от семнадцатилетней. Даже в сегодняшнем тумане ее глаза молоды.
– Будешь смеяться… – Елена глубоко вдохнула влажный воздух. – Старуха вокруг всех нас охранную линию вела.
– И ты тоже так?
– Только не вокруг отцовского дома. Ему суждено было погибнуть. Вокруг твоей головы, Йонялис.
– Вокруг моей?…
– Ты не умел беречься, доверчиво шел навстречу каждому, кто тебя звал. Как тогда, у мостика… Столько крови потерял, чуть не умер. Забыл, что ли?
– Всю ту ночь я чувствовал, что ты рядом. Если бы не ты… Почему, скажи, раньше не прибежала, до того, как меня?…
– Не спрашивай. Есть вещи, о которых…
– Ладно. С того раза ты и стала обводить вокруг моей головы те круги?
– Наверно. А ты и не предполагал, что тебя охраняет невидимый круг?
– Конечно. Но в трудные минуты думал о тебе.
– Еще одно подтверждение тому, сколь плодотворны были мои усилия!
– Скажи, – его не смутила ирония, – и сегодня ты тоже меня сопровождала?
– Ах, Йонас, Йонялис… Где уж мне! Это семнадцатилетние верят в могущество любовных чар.
– Да, о любви нам с тобой говорить вроде бы уже и негоже.
– Если бы ты всегда смотрел на меня такими глазами, как тогда, когда прикатил свататься! – она зажмурилась, чтобы не видеть пропасти между юностью и сегодняшним днем, страшной не морщинами и сединой, а словами – заменителями чувств: говорим о грусти, значит, грустим, о любви – любим.
– Поедем-ка скорее домой! Тут опасно засиживаться. Ты помолодеешь, я окончательно состарюсь, – не вполне искренне усмехнулся он над собой, тоскуя по тому, чего уже не воскресить. Словно живые краски блекли на его палитре, пока постепенно не исчезли совсем. Не жалел, что не удалось стать художником, но краски эти – не способность ли человека чувствовать?
– Домой? А ты знаешь, где наш дом? Знаешь?
Они стояли по пояс в тумане. Елена вжалась в плотный мрак какого-то куста. Приобняв за плечи, Статкус силой оторвал ее от мокрых колючих веток, чтобы не прорвалось рыдание, копившееся в груди жены, пока приходил он в себя в тишине и еще раньше, когда бодрой улыбкой пыталась Елена скрыть все растущую, высасывающую их жизнь пустоту.
– Ты ведь отважная, Елена. – В голосе Статкуса мольба – не зови, не тащи туда, куда он еще не может, не имеет сил идти.
– Да… да! – Ее губы пытались вернуть сбежавшую бодрую улыбку.
– Эй, старик, куда ты подевался? Молчишь, ничего не рассказываешь! – как с амвона, возглашала из кухоньки Петронеле.
Лауринас ползал на коленях по воротам гумна, снятым с вереи. Молоток долбил по трещавшим доскам, так что у него было оправдание: дескать, ослепла, не видишь, занят? Но поднялся и поплелся к кухоньке.
– Может, милку свою повстречал? Что удила-то закусил?
– Базар полон баб, а у нее какая-то милка на уме.
– Каждый базарный день она там. – Старуха обернулась к Елене, обтирающей мясорубку. – Вязаными шапочками да вышитыми носовыми платочками торгует. Вдова.
– В ту очередь я не становился. Издали трясет.
– Тебя бы самого тряхнуть следовало, ой, как следовало! Яблоки даром раздаешь.
– Мои яблоки, не твои.
– Фу! – Петронеле дунула, словно назойливую муху отгоняла. – Старый, а дурной. По двадцать копеек… За такие яблоки!
– Зато торговля шла, как из пушки. Бабоньки обступили, из рук рвут, – хихикнул Балюлис.
– Еще бы, когда такой добренький! – Петронеле, как бы передразнивая его, ущипнула Елену за локоть. – Берите за спасибо, прошу вас! Мне что, мне и так годится!
– Одной, правда, задаром дал… Морте!
– Какой Морте? – покосилась хозяйка.
– Морте Гельжинене. Сколько их еще-то есть? Одна. Одной и дал.
– Что плетешь, старый? Морта не нищая. Из твоих грязных рук и брать бы не стала… И не взглянула бы на твои яблоки!
– А вот и взяла! И ни тебе спасибо, ни прощай. Задом, задом – и растаяла…
– Разум твой растаял! – И Петронеле снова обернулась к Елене, растерявшейся от их спора. – Если бы я ее не знала… Но… С Мортой мы еще в приходской учились. На хорах вместе пели. А он что плетет?
– Тебе наплетешь. Все знаешь, хоть носа со двора не кажешь. Ну, я пошел. – Но продолжал топтаться на месте, сам недовольный своим рассказом.
– Иди, иди. Морту… Морточку мою, садовый цветочек… оговорил. Фу!
Старик уже совсем было собрался удалиться.
– Погоди, Лауринас! – Не крик, шепот. – Морта… еще красивая?
– Старое пугало твоя Морта! Нос – очки цеплять. Разве старая вещь бывает красивой? – уставился на нее Лауринас.
– Сам ты пугало! Морта была красавицей. Землю косою мела. Замуж долго не выходила, все ту косу жалела. При детишках, при стряпне с такой-то косой?… В руку была у нее коса, поверь, дочка! – не могла успокоиться Петронеле, поднимая свою могучую ручищу, словно Морта оставалась прежней и ее коса цвета льна была все той же самой. – Наболтал бессовестный старик. Из мести! Это же Морта про все его фокусы мне рассказывала… Как он с той городской стервой!.. Нос, видишь ли, чтоб очки цеплять! – передразнила она Лауринаса писклявым голосом. – Сам ты нос, лопата навозная!
– Верю, как не верить, – угодливо поддакивала Елена, но Петронеле ее не слушала, ворчала, не желая соглашаться с жизнью, сглодавшей Мортину красоту, с насмешками злопамятного Лауринаса.
– Морту оболгать посмел… Некрасивая, вишь! А кто ему, спрашивается, красивая?
Мухи бились в окно кухоньки, ответно цвенькало стекло, а Петронеле обличала нечестивца мужа:
– Кассирша! Распутница городская! Много ли сеточкой на шляпке прикроешь?
– Я, конечно, извиняюсь, хозяйка. Но вы-то сами когда-нибудь ту женщину видели? – как можно мягче спросила Елена.
– Я-то? – Петронеле выпучила глаза. – А зачем мне ее, бесстыжую, видеть? И за деньги не глянула бы.
– Разве не звал вас Лауринас на скачки?
– Звал, как же. – Петронеле не станет врать, даже если правда свидетельствует не в ее пользу. – Но я ни с места. Одно распутство там… Пьянство… Измывательство над лошадьми… Содом и Гоморра, как говаривала покойная матушка.
Нетрудно представить себе: вот уговаривает Лауринас молодую жену, поехали, мол, посмотришь, задам я перцу этим важным господам! Пусть они на дорогих кровных жеребцах, а он на лошади от сохи… Птицей полетит Жайбас, господа будут пыль сзади глотать. Один плохо начнет – лошадь перекормлена, у другого возьмет со старта вихрем, да препятствия испугается, третий через барьер перемахнет, да споткнется на выбитой копытом ямке, один только Жайбас понесется на невидимых крыльях. Хороший конь все сделает, как надо, но и наездник должен… Мало кто умеет держать лошадь в поводу, и она чует это, словно меж ладоней скользит, только не души, не ломай ей шею. Жайбас и я… Уж мы-то друг друга не обидим! Увидишь своего Лауринаса в венке из дубовых листьев, почет ему и уважение и от господ, и от простого народа. Увидишь и поймешь, почему он порой тайком от Матаушаса Шакенаса сыпанет своему Жайбасу лишнюю горстку овса. Но Петронеле непривычна к дороге, боится столпотворения: конской давки, гомона, отдающего пивом мужицкого хохота. А еще страшнее городские бабы – почти обнаженные, надутые, сующие цветочки прямо в лошадиные зубы. До ужаса страшно, но и глянуть охота. Нет, не развлечения или взмыленные кони влекут ее, ей бы на своего Лаураса полюбоваться… Он впереди всех! И она была бы первой, раз ее Лаурас. Стыдно такое думать, словно ты горожанка какая-то. А все-таки Жайбас разумное животное, вон хозяин еще уздечку ищет, а он уже следом бредет, что твоя собака. Не дай бог, испугают… Или гвоздь в копыто из мести загонят, тогда что? Быть рядом с мужем – ничего более не хотела бы она! – чтобы не приключилось беды. Быть рядом, если беда все-таки грянет, если не услышит всевышний ее молитв, – она же так горячо молится, когда Лаурас уезжает, просит у господа благословения и удачи ему.
– Пусти, мамочка, – припадает она к Розалии Шакенене. – Пусти!
– Как же, пусти ее! Куда ты там денешься? Будешь в поле на телеге мерзнуть. А то и болезнь какую подцепишь!
– Там дают ночлег, мамочка. Лаурас говорил, дают.
Участники скачек, среди них крестьяне Балюлис, Акмонас и еще несколько, съезжаются в город еще с вечера. Господ отец-настоятель размещает у себя на диванах, а крестьян принимает местный извозчик-еврей. В чисто вымытой избе пили бы они чай из самовара, хозяин притащил бы набитые соломой матрасы. Лошадям в хлеву зададут овса, сена, и ни цента платить не надо, с фурманом рассчитывается комитет – организатор скачек.
– Поеду, мамочка! Ведь, кроме костела, ничего не видела. Хочу… с Лауринасом!
– В костеле ей, видите ли, уже не нравится! Содом и Гоморра! Сходи-ка на исповедь, давно не бывала. Расскажешь ксенженьке, какие развратные мысли в твоей дурной башке вертятся! – отмахивается Розалия Шакенене.
Петронеле припадает к темной, словно отполированное дерево, руке – целовать и просить прощения. Неуступчивая мать, возвышаясь над покоренной дочерью, давит последние остатки ее надежды, как скорлупу выеденного яйца:
– Надумала цыганка тащиться за своим цыганом. Нет, ты лучше самого его удержи, к дому привяжи! Об этом и не думаешь, дуреха? – Обруганной и пристыженной Петронеле остается лишь мысленно сопровождать Лауринаса. Когда обнимает, прижимает к груди, шепчет ей о своих деревьях и лошадях, сладко слушать, всему-всему веришь, по, едва оторвется, погрузится в свои заботы, становится чужим, непонятным, опасным. Того и гляди завезет в город и бросит. Вот и будешь торчать в телеге под палящим солнцем, а потом зябнуть в темноте, ожидая, пока перебесится, вволю в своей пивной наорется… Потому и не едет с ним, как маменька велит, лишь горячо молится, чтобы не удрал муженек с какой-нибудь городской дамочкой.
– Хозяюшка, милая, – осмелилась усмехнуться Елена, – да ведь та дамочка, ну, которая… Если она еще жива, то не моложе вашей подруги Морты?
Петронеле кивнула, да, это уж точно, и заморгала, будто ударилась о притолоку.
– Шлюха! Невесть кем прикидывалась, а хлебала одно кислое молоко. Не марципаны лопала, не думай! – добавила через минуту, восстановив какое-то равновесие между прошлым и настоящим.
Морта несколько сникла в ее памяти, однако образ соблазнительницы и не думал блекнуть. Пока видит Петронеле солнышко в небе, до тех пор будет мерещиться ей вуалька, надвинутая на коварные глаза, сулившие ее Лауринасу то, что она и сама могла бы дать, если бы не корни, вросшие в землю усадьбы, как корни посаженного ее отцом, Матаушасом Шакенасом, клена.
День, второй, третий… Балюлисы не поминают Морты, но Петронеле, заметил Статкус, частенько останавливается у зеркала или перед оконным стеклом. С интересом разглядывает свои морщины, отеки под глазами, выросшие не там, где следует, волоски. Захотелось с теми, другими сравнить себя? Нет, просто смотрит правде в глаза… Крепче прихватит палку, чиркнет взглядом, словно лезвием косы, и вновь доносятся ее вздохи и причитания, не обязательно изливающие злобу, смело свидетельствуя перед всем на свете, даже перед глухой, поглощающей ее шаги тишиной, что еще жива, хотя и состарилась, что хозяйничает в той самой усадьбе, где родилась, росла, из которой не вырвали ее ни фантазии мужа-примака, ни вихри военной и послевоенной поры.
Лауринас, наоборот, втянул голову, выше приподнялось плечо – горб не горб. Жалел, что раздразнил жену. Раз с такой обидой отнеслась к его словам о Морте, как теперь примет собаку? Был бы еще пес как пес – не косматый злюка, брр! Старик то радовался, что не ворчит пока в усадьбе это чудовище, то сердился. Так-то держишь слово, уважаемая госпожа? Мы, деревенские, тоже люди! Разве не мы и ваш город, и ваших собак кормим? Так вези поскорее этот ком пакли… Неласковый? Не было еще такой скотины, с которой не совладала бы его рука. Он-то ладно, но вот что Петроне запоет? Надо не надо, вертелся возле кухоньки: то хворост рубил, то тупые ножи точил, чего обычно хозяйка не могла допроситься.
– Где ж твоя собака? – будто камнем разбила тишину Петронеле.
Лауринас разинул рот – и ей тоже нужна собака?
– Обещали привезти.
– Как же, привезут тебе. Видят – ротозей, как воск, от обещаний тает… Чего ж не посмеяться?
– Ты же собак больше дьявола ненавидишь.
– Я это я, но ты… Объявил на весь базар, выхвалялся перед всем светом, какой я, дескать, работник, какой садовод! Вот и получай кукиш! Ему, дочка, – обратилась она к Елене, – всякая размалеванная бабенка – уже и раскрасавица, и уважаемая.
Лауринас, удивленный тем, что жена не особенно ярится, тоже не полез на рожон.
– Около Бальгиса отдыхают. Не дождусь, сам съезжу.
– Лошадь прогоняешь, намучаешься – и чего ради?
– Да ради собаки. Ты же, оказывается, без нее жить не можешь!
– Не смеши людей. Мне тебя жалко. Без собаки ты, как без головы. И меня боишься. Пообещал, сговорился – вот и держи слово, нового позора на себя не навлекай!
– Ладно, не стану я из-за собаки убиваться. Передумает – и пускай.
– То-то и оно. А поехал бы сам, просить принялся – оскандалился бы. Глядишь, и цену бы набавили.
– Она и так полсотни запросила, куда уж выше!
– Полсотни в болото? Пенсия-то у тебя сколько?
– Породистая, мать. Весь базар завидовал.
– Ого, дороже поросенка! Может, ее шерсть прясть можно?
Петронеле расхохоталась, засмеялся и Лауринас, пятьдесят рублей для обоих были большие деньги, однако данное слово дороже.
– Лю-у-ди! Есть кто жи-и-вой? – кричали под окнами. Над усадьбой сияли звезды, лил свой пронзительный свет месяц, и все, что говорило о присутствии здесь людей – крыши строений, раскидистые яблони, – словно цепенело от этого крика и жалось к земле. – Какого черта? Вымерли все, что ли? Даже собака не тявкнет. И собаки не держите? Ни кошки, ни собаки? Ну и хозяева! – громыхал мужской голос, и по тону его, не только по словам становилось ясно, что не чужой он этому дому, многое о нем знает, больше, чем случайный путник.
Заскрипели засовы, распахнулось несколько дверей, в туман двора выкатился Лауринас в одном исподнем.
– Среди ночи. Как нежить какая. Ты, что ли, Пранас?
– Я, я, не дух с того света, – весело отозвался тот, кого назвали Пранасом, и Статкусам послышались в его голосе уже знакомые интонации Балюлене, только весело звучавшие. – Не ждали?
– Пранас, Пранюк… Как не ждать! Всегда ждем. Глаза проглядели… – Балюлис обмяк в больших руках сына.
– Среди ночи, как бродяга какой! Что ж ты, детка, письмо не мог отписать, телеграмму отбить? – сурово прервала объятия мужчин Петронеле, выползшая во двор с неизменной палкой в руке, накинув платок прямо на ночную рубашку. – Я бы хлебца испекла, пироги. Нечем и угостить!
– У тебя, мама, ума палата!
Сын подхватил упирающуюся Петронеле, оторвал от земли и закружил так, что вздулась даже бахрома платка. Кружился, держа ее в объятиях и не обращая внимания на крики и попреки, в которых явно проглядывали плохо скрытая тоска и желание, едва ли осознанные, чтобы этот миг не кончался. Наконец, задохнувшись от смеха и напряжения, аккуратно опустил мать на землю.
– Чего это стану я телеграммами вас оповещать? Рассчитывал засветло объявиться. «Москвич», будь он неладен, где ему вздумается, там и артачится.
– Так ты же новый купил, Пранюк! Отец же тебе на новый дал, – ловила Петронеле воздух губами и пальцами. – Это ж тот «Запорожец» на каждом шагу ломался. Неужто и «Москвичонок»?
– Машина не часики на руке, мама, – погладил ее по плечу сын. – И часы останавливаются, хотя и не грохаешь ими по камням. Новая машина тоже дает прикурить! Тем паче у жулика купленная.
– У жулика? – ужаснулась Петронеле. – Зачем же у жулика-то покупал? Не задаром же…
– Как узнать, мама, у кого покупаешь? Машина сверкает, костюм сверкает, слова сверкают… Покупаешь!
– Где же она, твоя машина? Что-то не видать! – ястребиные глаза Петронеле шарили по двору, проникали сквозь липы на дорогу.
– А под горушкой. Зачихала – и ни с места. Потому и кричу, зову, чтобы вы проснулись. Запрягай, батя, лошадь. Лошадь-то у тебя еще есть? Ведь ни дня без лошади не жил! Правда, нынче, пожалуй, лучше вам собаку держать. Мало ли кто забредет. Бродяг хватает. Хоть разбудит вовремя!.
– Дело говоришь, Пранас. Какая без пса жизнь? Мало ли что… – схватил наживку Лауринас, на такую помощь и не рассчитывавший.
– Что-то ты, старик, не ко времени язык распустил: невестка небось в машине от страха зубами стучит! – оборвала Петронеле. Казалось, она насквозь его видит. А Балюлис суетился, взмахивал от радости руками, не знал, за что и хвататься, коль скоро пожаловал такой долгожданный гость. Эх, денек бы, другой, и мог похвастаться собачкой. Не простой – фокстерьером!
– Лошадь? Я мигом… мигом… – он исчез в темноте. Где лошадь, издали чуял. За хлевом, среди вишен зафыркал Каштан.
– Квартирантов кликни. Может, придется твою клячу толкать, – мрачно пошутила Петронеле. К радости встречи примешалась горечь.
Статкусы не ожидали, пока их пригласят. Когда глаза привыкли, поздоровались с сыном хозяев. Блеклый свет луны высветил широкое, обросшее пышной бородой лицо, утыканный здоровыми зубами рот. В этом неверном свете, да еще под взволнованные возгласы стариков, Пранас был похож па старинного конокрада, не скрывающего своих намерений. И одновременно даже на расстоянии чувствовалось исходящее от него какое-то доброе тепло, примиряющее с довольно свирепой внешностью. Больше ничего Статкусы заметить не успели. Балюлис приволок Каштана, и все, за исключением Петронеле, отправились под гору.
Невестка Балюлисов Ниёле дремала, свернувшись калачиком на заднем сиденье.
– Мне цветной сон снился. Жалко, не досмотрела! – пожаловалась она резким, рвущим тишину голосом, протягивая через опущенное стекло небольшую руку. Поблескивали синеватые птичьи ногти.
– Спасибо, невестушка, что не побрезговала, приехала, – склонился к холеной ручке Балюлис, снова позабыв, что ему надлежит делать.
– Спятил, что ли? Цепляй скорее! – заорал Пранас.
Каштан дернул, машина запрыгала-застучала по ребрам корней, по камням. Так и вползли в усадьбу – впереди лошадь, следом автомобиль.
– Ну и ну, – не могла надивиться Петронеле. – Придется, видать, тебе, Пранас, лошадь покупать, чтоб мог на своем «Москвиче» ездить.
– Говорил же, мама, ума у тебя палата. А ты? Литовским языком тебе объясняю, – рассердился сын. – У жулика купил.
– Зачем же надо у жулика? Не мог у честного человека?
– Честные люди, мама, пехом прутся.
– Пранас, Праниссимо, опять грубости? – пропела своим резким голосом Ниёле, протягивая свекрови, как цветок, свою руку.
Статкусы пожелали всем спокойной ночи и скрылись в горнице. Окна хозяев еще долго бросали в сад электрический свет, за стеной перебивали друг друга голоса. Радующийся тому, что дом пока не развалился, Пранаса… Весело, словно палочкой по забору постукивающий Балюлиса… С тяжелыми вздохами разбирающей постельное белье Петронеле; простыни, пододеяльники смотрела она на свет, как бы худые не попали. Разве сравнишь деревенскую постель с городской? Боже, боже…








