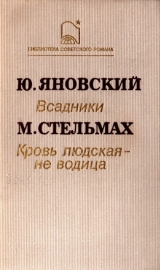
Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"
Автор книги: Михайло Стельмах
Соавторы: Юрий Яновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
II
Мирошниченко поднимает над головой чахлый огонек коптилки, внимательно оглядывает собрание и невольно вздрагивает: до чего лесник Мирон Пидипригора похож на своего двоюродного брата Василя! Сидит Мирон плечом к плечу с братом Олександром, и его широкий лоб бороздят раздумья и тени страха, порой он зябко поводит плечом. Жаль, не та душа у Мирона, что у Василя была.
– Олександр, а ты что с вахты ушел? – подозрительно спрашивает Свирид.
С лавки подымается кряжистый Олександр Пидипригора; уставясь в пол, он не в состоянии добыть из груди корявое слово и только виновато перекидывает с руки на руку залатанный медью ствол старой берданки.
– Может, не слышишь?
– Такое дело, Свирид Яковлевич, – говорит он, не поднимая глаз. – Не утерпел.
– Горело?
– Не горело, а не утерпел. – Он еще быстрее перекидывает оружие, словно оно обжигает ему пальцы.
– Да почему же?
Олександр снимает картуз, прикрывает им дуло берданки и поднимает на Мирошниченка смущенный взгляд.
– Хочу еще раз услышать, где моя земля будет. Все думаю: а что, как переменились списки?
В зале раздался смех, а Мирон дернул брата за полу: ну чего исповедоваться, как на духу?
Мирошниченко улыбнулся и сразу же нахмурился.
– А ежели банда налетит?
– Э, нет, с моего края, Свирид Яковлевич, не посмеют! К нам час назад красные казаки пришли. Сам им, такое дело, шесть снопов овса из-под балки скинул.
– И много казаков?
– С полсотни. Еще должны подъехать. Боевые ребята, и кони добрые. Вроде на банду готовятся.
– Вот это славно!
Собрание оживилось.
– Может, придет время, когда будем спокойно дома ночевать.
От этих слов Мирошниченко невольно краснеет, словно про него они.
Ведь чуть ли не каждую ночь приходится скрючиваться от холода, если не в овине, то в стогу, либо в скирде на поле. Ему всюду чудится теперь запах соломы. Он смотрит на Пидипригору и спиной ощущает все эти стога и скирды, дающие ему приют.
– Земля твоя, Олександр, лежит в тех же урочищах. А теперь айда на вахту! Тоже мне самооборона!
– Свирид Яковлевич, дозволь, раз такое дело, хоть на выборах посидеть, – по-ученически вытянулся Олександр.
Мирошниченко хотел рассердиться, но передумал.
– Разрешаю, что уж с тобой делать? Может, еще кого из самообороны принесло?
– Никого нет, – повеселел Олександр, повеселел, закрутился и картуз на дуле берданки. – Я сам проверил! Хотел Карпец сорваться, так я его возле моста чуть ли не прикладом прогнал на место, чтоб знал порядок. Такое дело!
– Хе! Гляди какой деловой! – повернулся к нему короткоусый Иван Бондарь. Его широкое, дубленое лицо осветилось лукавой усмешкой.
– Уж какой есть, Иван Тимофиевич, – примирительно проговорил Олександр и расположился поудобнее возле неподвижного Мирона, лоб которого все еще морщился от страхов и раздумий.
И вот Мирошниченко ставит плошку на дворянский стол, поправляет свою нависшую на глаза «полечку», кладет руку на грудь, прикрывая ладонью кудри матросской крали. Перед ним в полумраке застыли лохматые, ветрами и дождями чесанные головы пасынков земли. Всю жизнь их заскорузлые руки выращивали золотое зерно. С детства по плечам гуляли хозяйские плети, чужие налыгачи[2]2
Налыгач – веревка, которую при пахоте надевают волам на рога. (Все примечания, за исключением авторских, принадлежат переводчику.)
[Закрыть] натирали до крови ладони, а потом задубевшие, в черствых, кровавых мозолях руки вытягивал цеп. Потому и руки у крестьян длиннее, чем у кого бы то ни было, потому и тоскуют и тянутся души земледельцев к своему единственному раю – земле.
А она, роскошная и убогая, ласковая и жестокая, всегда манила их теплым звоном ярой пшеницы и гнала в холодных оковах в Сибирь, ласкала руки мягким, как девичья коса, колосом и вспарывала спину немецкими да гайдамацкими шомполами. Неужто же и теперь она поманит да обманет мужика?
Свирид Яковлевич знает, что Каменец-Подольск и Проскуров, как червой, кишат петлюровцами, что недаром придурковатый гетман Скоропадский отправился из своей роскошной швейцарской виллы обивать английские и французские пороги, что не к добру поехали уэнэровские[3]3
УНР – Украинская народная республика, официальный титул петлюровщины.
[Закрыть] министры к черному барону в Крым. Еще могут они распахать землю снарядами, засеять костьми, полить человеческой кровью, но жать им на ней вряд ли придется. Вряд ли! Потому что мужик повидал уже свой долгожданный надел, а хлебороба и смерть не оторвет от земли. Для него и небо – это прежде всего та же земля, которую можно распахать, и засеять, и даже засадить райскими садами.
Еще не так давно и на море, и в холодных казармах экипажей, и в матросских отрядах, из которых мало кто оставался в живых, и в партизанских лесах не раз Мирошниченку думалось, что в одно погожее, непременно солнечное утро вызовут его, кавалера двух «георгиев», добрые ученые люди, дадут ему на руки грамоту и скажут: «Вот тебе, Свирид, за твой пот и кровь – твоя земля. Бери ее и живи, как в раю».
А теперь этим добрым и ученым человеком – Мирошниченко усмехнулся, стал в своем селе он сам. Грабителем, вором и христопродавцем величают его во всех кулацких закутках, то стращают столбом с перекладиной, то подкупают деньгами и хлебом. Ну, да это дело привычное! Вот жаль только, что грамот на землю нету: с ними крепче прозвучал бы закон и для бедноты и для кулачья. Он даже обратился было с этим в уисполком, но там только рукой махнули.
– Чудак человек! Где же бумаги взять на твои грамоты! Видишь, газеты на оберточной печатаем, а мандаты выстукиваем на обороте архивных документов. Черт-те что бывает: на одной стороне наше распоряжение, а с другой – царский орел на него палкой замахивается. Две власти на одной бумаге вмещаются…
Многое вспомнилось Свириду, перед тем как он сказал свои самые лучшие слова. Каждый когда-нибудь произносит свои самые лучшие слова. У одного они, может, оборвались на детском «мама», а потом жизнь так искромсала, помяла человека, что во рту ничего, кроме скверности, и не осталось. У другого эти слова нашлись негаданно для милой, которую он, одолжив у друга сапоги, повел к венцу, а третий вымолвил их на краю могилы, чтобы запомнились детям на всю жизнь.
Свириду Яковлевичу не пришлось пролепетать свое лучшее слово родной матери: день его рождения стал днем ее смерти. Не суждено было раскрыть свою упрямую, несгибаемую душу и перед девушкой: случилось так, что не по любви, а из жалости женился он на молодой вдове, дождался от нее двух детей да и снес ее на кладбище с огорчением, но без слез…
Свирид Яковлевич прочитал за революцию много книг, но слова у него были простые, не книжные, самые лучшие для тружеников и мучеников земли, примостившихся на скамьях и подоконниках, на пороге и на полу помещичьего дома, со стен которого подозрительно смотрели на них недобитые гипсовые красавицы.
– Товарищи, сегодня уисполком утвердил наш раздел. Теперь вы по всем новым законам настоящие хозяева земли. Слышите, люди?
– Слышим, Свирид, – негромко ответили собравшиеся, склоняя головы перед новым законом и землей.
– Ну вот… – И слово, согрев душу, на миг остановилось в груди и забилось в ней, как сердце. – Завтра, только взойдет солнце, приступим к новой размежевке. Пусть каждый принесет на поле свои знаки. Понятно?
И сам умолк в тишине, словно раздумывая: а понятно ли ему самому то, что он сказал? В эту минуту и ему хотелось со стороны послушать свои слова.
Тишину разорвали хлопки, взволнованный гомон. Только Мирон Пидипригора поздно спохватился, хлопнул в ладоши, оглянулся: думают ли другие еще хлопать и не глядят ли на него? И в это время со двора донесся голос Кушнира:
– Ступай, ступай, пока не поздно!
– А ты что, за старшого туточки? – проскрипел кто-то с плохо скрытой злобой и голосе.
– Какой ни есть, а зубы, как фасоль, вылущу! Тогда не обижайся, не обижайся на меня!
– Тьфу на вашу чумовую породу!
– Плюй себе в борщ!
Так самые лучшие слова Мирошниченка перемежались с обыденностью. Он сперва нахмурился, потом улыбнулся: жизнь есть жизнь.
Бледный Степан Кушнир появился на пороге, молча прислоняется к притолоке. Его окликнули сразу несколько голосов.
– Кто там лазил?
– Столыпинский дворянин, – ответил Кушнир, глядя поверх голов.
– Барчук?
– Он.
– А ты ему что сказал?
– А что мне с ним говорить? Сказал, что он сучья контра и чтобы не любовался нашим собранием.
– А он тебе на это что?
– Сказал, что не собранием пришел любоваться, а мной.
– А ты ему что?
– Я ему посоветовал прийти завтра на поле и полюбоваться, как я его землю буду мерить. Тогда я красивее стану.
– Га-га-га! – гремит собрание.
Только Степан и Мирон не смеются.
Свирид Яковлевич поднимает над головой большую руку, вокруг становится тише.
– Теперь, после смерти нашего Василя, земля ему пухом, нам надо выбрать нового председателя земельной комиссии. Сами знаете, какого надо мужика для этого дела: чтоб и землю знал и к людям подходил с понятием.
– А тебе, Свирид Яковлевич, нельзя за двоих? – зашепелявил, поднимаясь с лавки, сухой, как опенок, Поликарп Сергиенко.
Его заостренное книзу лицо выражает и почтение к Мирошниченку и другую, тайную мысль, которую, впрочем, не так уж трудно раскусить: «Пусть все почести и вся ответственность ложатся на одного. Свириду такая уж доля выпала – все эти годы ходить в смертниках. Жаль его, да что ж, пусть сам и несет свой тяжкий крест».
– Кого же выберем?
Мирошниченко отворачивается от Поликарпа, и у того сразу лицо становится жалким: рассердился, того и гляди, поменяет завтра землю, ткнет тебе вовсе черствый клочок, который можно бы подсунуть кому-нибудь из бедняков побогаче. Гляди, так и сделает, – ведь Мирошниченко хоть и свой человек, а все же начальство, да еще коммунист. А Сергиенко хорошо знает – коммунисты теперь с большевиками на ножах: большевики хотят дать беднякам больше земли, а коммунисты – меньше, им только все в свою коммунию подавай.
Сергиенко окидывает быстрым взглядом лавки, раздумывая: кого бы хоть из дальней родни выбрать председателем земкомиссии, чтобы он по-родственному выкроил земельку получше?
А в зале, сбивая Сергиенка с толку, уже звучат голоса.
– Тимофия Горицвита!
– Степана Кушнира!
– Не надо Кушнира: молод еще, горяч!
– Пускай сперва женится!
– Это дело недолгое!
– Ивана Бондаря!
– Ой, миленькие, не выбирайте моего! – испуганно откликнулась из коридора обычно жадная до всякого дела Марийка Бондарь.
Она осторожно вынесла из темноты располневший стан и топталась босыми ногами на пороге.
– А тебе чего надо на собрании, добрая женщина? Или печи дома мало? – возмутился Олександр Пидипригора. – Где ж это видано, чтобы на серьезное собрание бабы перлись?
– Того же, Олександр, чего и тебе: земельки! – огрызнулась Марийка, и вокруг ее маленького с горбинкой носа дрогнули непримиримые морщинки.
– Без тебя ее не дадут! – Пидипригора покосился на тяжелый Марийкин живот, на котором колыхался старенький фартук.
– Дадут, Олександр, да не столько, сколько надо. Мой Иван записал, что у нас только три души.
– А сколько же их у вас, Марийка? Разве уже не три? – с немалым удивлением спросил Мирошниченко, не первый год друживший с Бондарем.
– Свирид Яковлевич, – стыдливо и укоризненно покачала головой Марийка и для ясности пошевелила руками под фартуком, – ну разве не знаете, что я, прошу прощения, по бабьей части на восьмом месяце?
– Да не слушайте чертову бабу! Она вам наговорит три мешка гречневой полбы, да все неполны! – прикрикнул на жену Иван Бондарь. – За сегодня, за один день, целый месяц прибавила. Она, кабы могла, завтра семимесячного родила бы, лишь бы только землю получить.
От дружного смеха затряслись лавки, пол и окна дома. Не смеялись только гипсовые красавицы на стенах, да Марийка замерла на пороге, и лицо ее от стыда и злости пошло пятнами. Она готова была наброситься на всех насмешников с оглушительными женскими проклятиями, но решила, что начать лучше всего с мужа.
– Видали такого бессовестного?! – Она показала пальцем на Ивана. – Это ж не человек, а заноза! Проймет словом до печенок, не пожалеет ни отца ни матери, ни старого ни малого! И не вздумайте его выбирать, – намучаетесь с ним, как я всю жизнь, с первого и до последнего дня мучаюсь!
На запавших глазах Марийки блестели искренние слезы; она сейчас и сама верила, что не Иван с нею, а она с Иваном горюет. Ведь с тех пор, как она себя помнила, все-все обижали ее. Дома нещадно бил пьяница отец, в экономии не жалел зверь приказчик за то, что она убегала от него по вечерам, на гулянках девушки побогаче насмехались над ее бедными нарядами, а парни долго не засылали к ней сватов – уж больно мал был у невесты клочок земли.
Так почему бы теперь, при новой власти, когда начальствует Свирид, не приписать Ивану еще одну душу? Экая важность – сегодня она запищит в люльке или через месяц-другой! Главное, что она, Марийка, услышала свое дитя как раз в тот день, когда снова заговорили о земле. И это казалось ей небесным знамением: раз уж детская душа почуяла землю, никому не отобрать у мужика надел. Вот почему она и мольбами и угрозами донимала Ивана, чтобы он вписал в списки четырех едоков. Но нигде на свете не было правды. Не было ее при помещичьей власти, нет и при мужицкой. Если бы Мирошниченку самому довелось носить дитя, он бы не задавал глупых вопросов и нарезал бы норму как миленький, еще и с гаком! Не поскупился бы!..
Марийка смахнула с глаз слезы и нарочито тяжело вынесла свой живот в темный коридор, чтобы и люди видели что вот-вот появится на свет новая жизнь. Иван даже сплюнул с сердцем.
«Ну не чертова баба? А скажи, что где-то привезли соль или керосин, бегом побежит, словно шестнадцатилетняя…» – и прикинул мысленно, как будет дома отбиваться от жены.
Пока он думал об этом, вокруг поднялся густой частокол рук.
Вздыхая, тянет руку и Поликарп Сергиенко, хотя ему и не удалось продвинуть кого-нибудь из своей, пусть самой дальней, родни. И как он заранее об этом не подумал? Но хоть и тоскливо человеку – он горячо голосует за всех кандидатов, потому что разве угадаешь, который из них пройдет? Нет, лучше уж быть добрым со всеми.
Председателем земельной комиссии почти единогласно избрали Тимофия Горицвита, хотя он и отнекивался: дескать, и грамоты вот нистолечко не знает и говорить не умеет.
– Ну учись теперь и грамоте и говорить! – с размаху хлопнул его по плечу немолодой кузнец Кирило Иванишин. – Да ступай же, чертов сын, поклонись людям за честь! – подтолкнул он Тимофия загрубелой от огня и железа рукой.
Высокий, суровый Тимофий смущенно поднялся с лавки, смущенно улыбнулся людям грустными глазами и снова хотел сесть, но Иванишин придержал его:
– Погоди, Тимофий! – И он окинул взглядом собрание. – Думаю, следовало бы председателю земкомиссии ради великой нашей правды съесть сейчас щепотку земли, чтобы помнил, на какое дело выбрали его. Или, может, так поверим Тимофию?
– Поверим! – первым крикнул Поликарп Сергиенко, чтобы Горицвит знал, кто стоит за него горой.
– Тимофий правдивый человек! – загудели вокруг, и даже Марийка Бондарь, которая на миг выглянула из тьмы коридора, одобрительно кивнула головой.
– Слышишь? Село землю тебе доверило. Ты знаешь, как ее надо делить? – Иванишин смотрит на Горицвита упрямыми глазами, в которых, кажется, и сейчас мерцают живые огоньки кузницы.
– А так, – медленно проговорил Тимофий, – чтобы и вы ни одной лишней борозды не получили.
– Выбрал на свою голову! – шутливо развел руками Кирило и первый засмеялся, усаживая рядом с собой Горицвита. – Не ждал от тебя такого сраму, чертов сын!
– Свирид Яковлевич, а кто же теперь, прошу прощения, сможет мне переменить надел – Тимофий или вы? – заговорил, приглушая слова усами, поднявшийся со скамьи Мирон Пидипригора.
– Переменить? – удивился Мирошниченко. – На что тебе менять его, старина?
– А, – махнул рукой Мирон, – прошу прощения, баба житья не дает. И чего ей только, спрашивается, надо? Клещом вцепилась в душу, заживо перегрызает.
Олександр удивленно и недоверчиво посмотрел на брата, пожал плечами, хотел что-то сказать, но Мирон жалобным, затуманенным взором вымолил молчание.
– Чего ж твоя жена еще захочет? – нахмурился Мирошниченко. – То каждый день бегала, чтобы про вас не забыли, – вы, мол, у самого леса живете, – а теперь снова не угодили мы ей?
– Вот видите, какая она! Ну, не жена, а один сплошной характер, люди добрые! И чего она только не захочет! – хитрит Мирон, уводя разговор на окольные темы, чтобы как-нибудь задобрить людей и Мирошниченка. – Бабы – это же ненасытная утроба. Прежде моя и на пасху в верзунах[4]4
Верзуны – лапти.
[Закрыть] ходила. Справил ей праздничные сапоги, так она их, прошу прощения, уже и в будни таскает и даже теперь, до снегу, носит. «Побойся, говорю, бога, коли мужа не боишься! Где же мне для тебя обуви напастись!» А она, прошу прощения, уперлась и долбит свое: «Сапоги кровь греют». Послушать ее – и солнце так не греет, как сапоги! «Ты, может, еще и башмаков к сапогам захочешь?» – прикрикнул я на нее. А она хоть бы тебе засомневалась: «И захочу, да только с таким муженьком лихоманку наживешь, а не башмаки».
– А может, она и правду говорит? – засмеялся Иван Бондарь, с удовлетворением расслышав смешок Марийки в коридоре.
– Ну, башмаков ей не дождаться, не велика барыня, – сказал Мирон, замечая, что собрание слушает его сочувственно и только брат все больше морщится и покусывает губы.
– Про сапоги ты славно рассказал. Ну, а дальше что, Мирон? – допытывался Мирошниченко.
– Да что дальше… – сразу завял лесник, подходя к самой трудной части задачи. – Назначили нам землю, спасибо добрым людям, а моя уперлась и не хочет брать те полдесятины, что от Денисенка отходят.
– А ты как же?
– А что я могу с нею сделать, если не хочет она!
– Ну и не берите, раз не желаете! – отрезал Мирошниченко. Он понял игру осторожного Мирона, которого сейчас, боясь кулаков, молчаливо поддерживал не один бедняк.
– А что же, Свирид Яковлевич, взамен дадите за те полдесятины? – холодея, задал вопрос хлебороб, и в складках его лба снова угнездились тени страха.
– Что взамен дадим? – пригибаясь, словно готовясь вцепиться в Мирона, ехидно спросил Иванишин и резко ответил: – Дулю с маком! Дрожишь?
Мирон медленно обернулся к кузнецу, ощетинился и твердо резанул:
– А ты, слышь, не больно суй мне дули! Их мне весь век совали… И не дрожу я… Хоть жизнь человеческая теперь и подешевле, а не с руки мне идти следом за своим двоюродным братом. Осиротел наш род, так я не хочу, чтоб и моя семья осиротела. Дайте мне, как пострадавшему, барскую землю.
– Это ты пострадал?! – Возмущенный Бондарь сорвался с лавки, но в это время в коридоре предупредительно вздохнула Марийка. Иван Тимофиевич хотел подсечь Мирона тем, что у того родной брат и по сей день у Петлюры людям душу вынимает, но воспоминание о Василе смягчило его гнев. – Ты что, Мирон, совесть в лесу с волками протрубил? Поговори еще – так ничего не дадим.
– Нету, Иван, на то права, и ты на собрании, прошу прощения, еще не велика цаца, – возразил лесник. – Ну чего я особенно хочу? Дадите мне кулацкую землю – меня же первого в лесу шлепнут. Я ведь не в селе живу. А кому другому, может, сподручнее мой клочок на барскую обменять.
– Хитрец!
– Таких много найдется!
– И скажите, пожалуйста, – сразу вину на свою хозяйку скинул, а она у него такая тихоня, что и воды не замутит.
– И я так думал, пока не женился на ней, – огрызнулся лесник.
Тимофий брезгливо посмотрел на Мирона, поморщился, ткнул его кулаком в спину.
– Слышь? Не скули псом среди людей, ежели человеком стать захотел. Я поменяюсь с тобой.
– Возьмешь, прошу прощения, Денисенкову землю? – Мирон недоверчиво воззрился на Горицвита.
– Да возьму, что же с тобой делать! – вздохнул Тимофий, собирая морщинки вокруг глаз.
– А мне барскую дашь? – все еще боясь поверить, припал лесник к рукаву Горицвита.
– Какую ж еще!
– Вот спасибо! Большое спасибо тебе, Тимофий! – Мирон даже поклонился, и по морщинкам его повеселевшего лица побежали капельки пота. – Есть же такие добрые люди на свете! Ежели бы не моя баба, не морочил бы я вам голову. Думаешь, легко мне так говорить?
Мирон присел, смущенно покосился на Олександра, перехватил его колючий взгляд и, оправдываясь, зашептал:
– В таком деле каждому надо свою выгоду блюсти. А как же иначе! Тимофий недаром поменялся со мной. Он хитер, знает, что господская земля теперь истощилась, хуже стала, чем у Денисенка. Ну, и то надо взять в расчет, что Тимофий за всю землю в ответе, стало быть, мой клочок ему, как грешнику лишний грех, не помеха. Не правда, что ли?
– Сам ты грешник вонючий! Человек пожалел тебя, а ты сразу жалость к хитрости приравнял. – Олександр резко отвернулся от брата и стукнул об пол прикладом берданки.
Мирон заморгал глазами, не понимая, как можно в такую пору позабыть осторожность, на которой теперь только и держится крестьянское житье. Земля землей, однако надо и по сторонам оглядываться, да еще как! Такие чудеса с людьми творятся: поговоришь с ними на улице – вроде и их то же мучает, а на собрании, глядишь, открещиваются, словно ты всех глупее. Выходит, еще лучше надо мозгами раскидывать, коли захотел перехитрить другого. А может, теперь легче прожить, дурнем прикинувшись, будто ты из-за угла мешком прибитый?.. Эх, кабы догадаться, какая власть установится, Мирон знал бы, куда и как повернуть оглобли. А что, если и вправду царь остался в живых и готовится прибыть из Англии в Россию? Хоть он и помазанник божий, а лежал бы себе в земле, так и у него, у Мирона, спокойнее было бы на сердце.
Страхи, раздумья, скорбь по убитому Василю тупой, неуемной болью отдаются в мозгу Мирона, и он не слышит, как с последними словами Мирошниченка собрание поднимается.
За порогом затих людской гомон. Свирид Яковлевич погасил плошку, и в эту минуту к нему осторожно подкралась Марийка Бондарь.
– Свирид Яковлевич, это я, – шепнула она в темноте, чтобы не напугать.
– Ну, что еще выдумала? – смущенно пробормотал Мирошниченко. – А где Иван?
– А черт его дери! – Марийка сердито отмахнулась и больно ударилась пальцами о еще теплую скамью.
– Эх, бабы, бабы, да и только! – глубокомысленно покачал головой Свирид Яковлевич. – Неужто ты забыла, каким праздником был для тебя когда-то Иван?
– Теперь хуже будня стал, – отрубила Марийка. – Слыхал, как позорил меня на людях?
– Это потому, что честен он до конца.
– Все дураки честные! – У молодой женщины перехватило дыхание. – А что он этой честностью нажил? Десять пальцев на руках, а в хозяйстве ни шерстиночки! А я хочу быть хозяйкой, а не нищенкой.
– Ну, пойдем на улицу: увидит кто-нибудь – черт знает какое вранье пойдет по селу, – усмехнулся Свирид Яковлевич, зная, что упрямую бабу не переговорить.
Марийка покорно вышла и на веранде, сама не замечая того, едва не обняла Мирошниченка.
– Свирид Яковлевич, ты же нам как родной брат, самый дорогой человек и лучший советчик. Нет у нас родни ближе тебя. Так неужто, когда у тебя власть в руках, ты на моего нерожденного хоть полоску земли выкроить не сможешь? Пусть уж не норма, хоть клочок перепадет какой ни есть! – И слезы волнения блеснули у нее на глазах, отражая сияние далеких осенних звезд.
– Ох, Марийка, не доведешь ты меня до добра!
Мирошниченко приложил большую руку ко лбу, перебирая в памяти тревожные часы, когда он наведывался из партизанского леса к Бондарям и те без нареканий делили с ним в темноте хлеб и соль, надеясь на лучшие времена. Вот как будто и настали они, эти лучшие времена, а он выделяет Бондарям такую же норму как и тем, кто гнал его от себя, матерясь и открещиваясь…
– Свирид Яковлевич, – жалобно тянула свое Марийка и вдруг затихла, прислушиваясь к себе, к той радости, что в ней проснулась. Потом схватила руку Мирошниченка и, не стыдясь, приложила к своему животу. – Слышишь? Бьется…
Упругий толчок раз и другой влил тепло в широкую ладонь Мирошниченка. Новая жизнь отозвалась под пальцами, и ей тоже нужна была земля.
Теперь осенние звезды наполняли глаза Марийки счастьем, ее похорошевшее лицо, с которого сразу сошла тень застарелой настороженности и недоверия к людям, мягко выделялось в темноте. Мирошниченко перенесся в те годы, когда он с надеждой и опаской присматривался к пополневшему стану своей жены. И снова, как в далекие времена, защемило сердце; казалось, он сейчас больше любил свою жену, чем когда она была еще жива и диковатыми от страха глазами встречала его, выходившего из Черных лесов, боясь и за него и за их детей.
Притихшая Марийка обеспокоенно посмотрела на Свирида Яковлевича, не зная, что с ним делается и стоит ли снова напомнить о своем. Может, сам догадается?
– Жизнь… – проговорил Мирошниченко, глядя куда-то поверх ее головы.
Потом взял огрубевшую Марийкину руку, поднес к своим губам и поцеловал, как дети целуют руку матери.
– О, что ты, Свирид? – встревоженно шепнула женщина, не так поняв его. – Что ты, милый человек? – Ей стало и радостно, и страшно, и стыдно, почти так же, как в те вечера, когда к ней зачастил Иван.
Боже милый, никто еще ни разу в жизни не целовал ей руку, даже собственная дочка! Да за одну эту великую жалость она готова была пойти за Свиридом на край земли! И тут же она обеими руками отогнала от себя дурные помыслы: господи, вот так и пропадает женское сердце, жалость растапливает его…
А Свирид, теперь вовсе не понимая ее, сказал то, на что она так надеялась еще несколько минут назад:
– Ну что же, Мария, завтра сама приходи на поле. Не проспи. Я шепну Тимофию Горицвиту, чтоб намерил тебе пару лишних саженок. Больше пока ничем не могу пособить, а дальше посмотрим… И так в грех меня вводишь…
Марийка засмеялась, заиграла глазами.
– Не бойся, Свирид, не введу. Была б помоложе…
– Ну и язык у тебя! – только удивленно поднял брови Мирошниченко. – Гляди, Ивану скажу!
– Боюсь я его, как прошлогоднего снега, – вскинулась Марийка и упрямо поджала губы. Вот и пойми человека после этого: то руку целует, то святым прикидывается…
Наволновавшееся Марийкино сердце сразу успокоилось, и, видно, так для бабы лучше.








